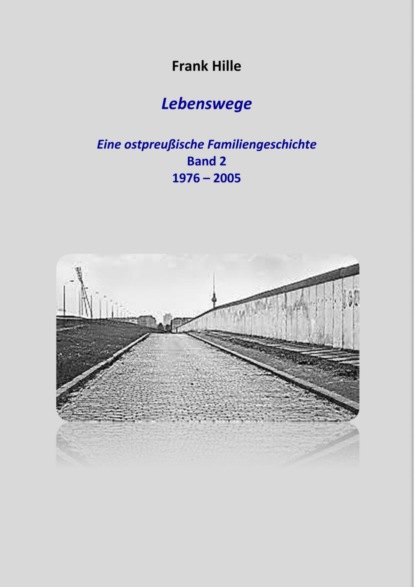- -
- 100%
- +

Переводчик Павел Соколов
© Ода Сакуноскэ, 2025
© Павел Соколов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0068-1251-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие от переводчика
Роман Оды Сакуноскэ (1913—1947) «Субботняя госпожа» – это не просто история о судьбе женщин и мужчин в сложный послевоенный период. Это тонкий, многослойный психологический портрет, написанный на фоне социума, переживающего глубокий нравственный кризис. Сквозь призму частной жизни, интимных драм и будничных встреч Ода мастерски исследует универсальные темы одиночества, иллюзий, поиска себя и неизбежного столкновения мечты с суровой реальностью.
Действие романа по большей части разворачивается в Киото – древней столице, где традиционное и современное, вечное и сиюминутное сосуществуют в причудливом симбиозе. Этот город, с его полумраком чайных домов, шумом маджонг-клубов и тишиной храмовых садов, становится не просто декорацией, а полноправным действующим лицом, отражающим внутреннее состояние героев. Именно здесь, в этом городе-лабиринте, живут и ищут свой путь персонажи романа: танцовщица Ёко, фотограф Кисаки, беглый заключённый Гиндзо, его дочь Тимако и многие другие. Их судьбы причудливо переплетаются, сталкиваются и вновь расходятся, подчиняясь не столько логике сюжета, сколько хаотичной игре случая.
Ключевой образ, вынесенный в заглавие, – «Субботняя госпожа» – становится мощным символом. Суббота – день на грани, время между завершением недельных трудов и покоем воскресенья, момент, когда обостряется тоска и обнажаются противоречия. Герои Оды – все до одного – являются «господами субботы» своей собственной жизни: они застряли в болезненном промежутке между прошлым, которое невозможно вернуть, и будущим, которое не сулит надежды. Их существование окрашено в цвета декаданса: они ищут утешения в препаратах, алкоголе, мимолётных связях и азартных играх, пытаясь заглушить экзистенциальную пустоту, возникшую после краха привычного им мира.
Стиль Оды Сакуноскэ отличает особая, почти кинематографическая образность. Короткие, резкие фразы сменяются длинными, плавными описаниями; отстранённый, почти холодный взгляд повествователя внезапно сменяется глубоким погружением в поток сознания того или иного персонажа. Автор не даёт готовых оценок, не морализирует. Он лишь беспристрастно фиксирует крушение иллюзий, позволяя читателю самому делать выводы.
Это роман-настроение, роман-атмосфера. Это горькое и пронзительное повествование о людях, потерянных в хаосе послевоенных лет, но продолжающих, каждый по-своему, искать крупицы тепла и человечности в холодном и равнодушном мире.
Что также немаловажно, этот роман можно прочитать как легкую остросюжетную беллетристику, а можно как литературный памятник ушедшей эпохи. Ода то и дело заигрывает с читателем, словно Андре Жид, устраивает литературные ловушки, словно Джеймс Джойс. Или же расставляет чеховские «ружья». К слову, имя последнего также звучит на страницах книги.
«Субботняя госпожа» – одно из последних крупных законченных произведений, законченных авторов. Оно было напечатано в 1946 году. Уже 10 января 1947 года Оды не стало. Он умер в возрасте тридцати трех лет на пике своего творческого потенциала.
Остается надеяться, что на русский язык в ближайшее время будут переведены другие работы мастера.
Павел СоколовФото женщины
I
Тыльная сторона кабаре «Дзюбанкан» выходила на Нисикияма-тёри, где протекала река Такасэгава.
Такасэгава была узкой, как канава. Но всё же и здесь дул речной ветерок, и он доносил внезапно нахлынувшее осеннее дыхание до кончиков поникших ив, а ночь глубже окутывала ореолы уличных фонарей.
Однако в зале «Дзюбанкана» всё ещё царила летняя ночь.
Ночь упадка, распахнувшаяся, словно подол платья, колыхалась в сильных, похожих на соцветия целозии, красках; обнажённая белая кожа, выставленная напоказ вырезами вечерних платьев, извивалась змеёй, в её ложбинках проступала испарина, а в летнем ночном танце, где мужской запах выжимал из себя женский, даже шаги неуступчивых молодых танцоров становились томными…
В этот зал забрёл один сверчок – кто знает, по какой тоске? – но едва он подпрыгнул, как его тут же задел носок туфли, круто развернувшейся в танце, и, жалко запищав, тот испустил дух. Однако его писк потонул в шуме оркестра, и никто ничего не заметил.
Кисаки Сабуро тоже не заметил.
Он был фотографом с болезненно острым зрением – казалось, его глазное яблоко превратилось в camera obscura. И уж тем более он, который по просьбе журнала для иллюстраций уже третью ночь подряд приходил в «Дзюбанкан» фотографировать танцевальный зал, должен был бы чутко отреагировать на такой сюжет как сверчок на полу зала, но всё же проглядел его. Возможно, потому, что в тот момент находился в чайной комнате на втором этаже, а может…
Из чайной комнаты одним взглядом можно было окинуть весь зал от края до края, но всё же зрения не хватало, чтобы разглядеть сверчка. Впрочем, даже если бы он и смог, вряд ли в тот момент это попало бы в поле зрения Кисаки.
Потому что взгляд его был всецело поглощён тем, как двигалась танцовщица по имени Цудзи Ёко, её фигурой и выражением лица. Одержимый взгляд не видел ничего, кроме этого.
И так продолжалось уже третью ночь подряд. В первую ночь, едва увидев Цудзи Ёко, он почему-то ёкнул, и в тот же миг его глаза преобразились:
«Вот! Эта танцовщица. Сниму именно её».
Вмиг его глаза превратились в объектив камеры, но, даже став бесстрастным объективом, в них всё равно пылал какой-то жар и они светились, словно ночные светлячки.
Кисаки заглядывал в объектив, словно в самую глубь своей души. По ту сторону объектива были разнообразные позы Ёко. Но уже третий день он ни разу не спустил затвор.
Мастерство, граничащее с безумием, дотошность, с которой он, бывало, не щёлкал попусту, пока не найдёт подходящий ракурс, было для него делом привычным. Однако сейчас он с сильным отвращением относился к позам, которые в другое время с радостью бы запечатлел. В чём же было дело?
Лицо Кисаки было мрачным и раздражённым, на нём лежала тяжёлая тень тоски. Но, видимо, что-то придумав, он вдруг резко поднялся и застыл на середине лестницы.
И в тот же миг, когда он щёлкнул затвором своей «Лейки», направленной на Ёко, одна из танцовщиц беззвучно и внезапно рухнула на пол.
II
Это было похоже на нарочитую случайность.
Щелчок затвора «Лейки» Кисаки и то, как тело той танцовщицы неестественно осело на пол, произошли почти одновременно – более того, можно было сказать, что звук затвора, подобный приглушённому хлопку пистолета с глушителем, сразил её.
Кисаки тоже был потрясён, но и гости, танцоры, и даже музыканты ахнули.
Ритм оркестра внезапно сбился.
На эстраде прямо напротив зала на первом этаже играл свинг-оркестр, а на похожем на балкон выступе коридора второго этажа – танго-оркестр; они играли по очереди, и как раз в тот момент была очередь танго-оркестра.
Мелодия – La Cumparsita.
Все знали её, поэтому сбой был ещё заметнее. Но музыканты поспешно восстановили ритм. Это был новый оркестр, нанятый с сегодняшнего вечера на замену тому, что до вчерашнего дня играл здесь, но его переманили в другое заведение. По сути, это был их дебют. Поэтому, по крайней мере сегодня, они старались с подозрительным рвением. Однако к тому времени, когда они громко вернули себе ритм, уже никто не танцевал.
– Каков скандал! Рано ещё падать! Вечер только начался. Неужели она из тех танцовщиц, что падают? Кто это?
Даже язвительные гости, начавшие отпускать колкости вроде: «Споткнулась, что ли, и упала?» – опомнились, поняв, что это упала Мари.
– А… Мари…
Они в смятении отпускали своих партнёрш-танцовщиц.
– …С кем это Мари танцевала? С дзюдоистом?
Мари уж никак не была настолько плохой танцовщицей, чтобы вот так запросто упасть.
«В танце – Мари, лицом – Ёко» – такова была устоявшаяся репутация в «Дзюбанкане».
– Что? Мари…? – даже Ёко изменилась в лице – вернее, её лицо уже странно побледнело в тот миг, когда Кисаки щёлкнул затвором.
– Ах, меня снимут! – будто испугавшись этого, она резко отвернулась, и лицо её мгновенно побелело.
– Прошу прощения.
Ёко собиралась отойти от гостя и направиться к Кисаки – как раз в тот миг Мари и упала.
Снимок тоже её беспокоил, но больше – судьба Мари… Немного поколебавшись, Ёко всё же протиснулась сквозь толпу и подбежала к Мари.
Лицо Мари было белее, чем у побледневшей Ёко. На нём не было и следа крови. Даже румяна на щеках казались синими.
И, источая пену изо рта, она слабо извивалась на полу, словно пиявка – а рядом с ней в полной растерянности стоял молодой человек.
III
– Ах, Кё-тян!
Увидев лицо молодого человека, который в полной растерянности стоял над упавшей Мари, Ёко окликнула скорее его, чем саму Мари.
Это был Киёси, двадцатитрёхлетний юноша, которого все в «Дзюбанкане» звали «Кё-тян».
Киёси мог танцевать в любом зале без билетов.
Он был гениальным танцором. Даже учителя танцев, глядя на его шаги, чувствовали себя жалкими. Танцовщицы, фланировавшие с Киёси, забывали о жадности, выгоде, коммерческом расчёте и даже тоске – более того, они приходили в сладкий, пьянящий восторг, теряя себя.
«Когда оркестр хорош, играет любимую мелодию, а партнёр ведёт просто блестяще, то, если только он не вызывает физического отвращения, вдруг думаешь: «Ах, как бы хотелось, чтобы он приударил за мной…«» – говорили ветреные танцовщицы.
Но даже самые строгие из них, отправленные в нирвану танца, порой ощущали иллюзию, будто вдруг отдаются партнёру, и это их будоражило.
Вероятно, это одна из сильнейших, почти физических притягательных сил танца – ритм, способный воспламенить.
Киёси был одним из немногих, обладавших таким обаянием.
Вдобавок он был красив.
Хотя ему было двадцать три, он походил на подростка – с на первый взгляд невинным миловидным лицом; его худощавый профиль с бледностью производил трогательное впечатление, словно у страдающей чахоткой девушки, и женщины внезапно ощущали тоску. Однако мелькавшая в его прекрасных бровях нигилистическая усмешка, декадентские тёмные круги вокруг глаз с длинными ресницами и ироничная складка, проступавшая в уголке плотно сжатых губ, – всё это придавало лицу Киёси холодный, колющий оттенок горькой акцентировки, отчего он порой казался тридцатилетним мужчиной.
Его нельзя было назвать просто красивым. Скорее, это была красота, которая одновременно приводила женщин в восхищение и заставляла их содрогаться от холода.
Поэтому все хотели танцевать именно с Киёси.
«Я верну тебе вдвое больше билетов, только потанцуй со мной. Ну же, Кё-тян, приди завтра и потанцуй со мной» – просили некоторые женщины. Видимо, они считали, что брать билеты у Киёси было бы неправильно.
И вот с этим самым Киёси сегодня танцевала Мари.
Вспомнив об этом, Ёко торопливо спросила: «Что случилось, в конце концов?..»
– М…?
Киёси мельком взглянул на Ёко.
– Ты же с Мари… танцевал, да? – дополнял её взгляд, но Киёси не ответил, недовольно сжал губы и смотрел на Мари растерянным взглядом.
Свет бумажных фонариков – розовый, голубой, лимонно-жёлтый – заливал зал.
Но было заметно, как лицо Мари, погружаясь в эти цвета, – вернее, из-за них – всё больше менялось, приобретая зловещий восковой оттенок.
Кажется, ей было больно…
IV
Между пузырями пены, вырывавшимися изо рта, был виден кончик безвольно свесившегося языка – Мари слабо стонала.
Оркестр с идиотским упорством продолжал играть La Cumparsita в пустом зале, и стоны Мари то и дело заглушались звуками музыки, но Ёко, чей слух был остёр, как ветер, всё же различала, что та стонет, видимо, от боли.
– Ах, это ужасно!
Неприятное предчувствие, что стон Мари может быть предсмертной агонией, заставило Ёко ёкнуть.
– Врача…
Нужно скорее послать за врачом, позвать боем – в смятении она обернулась и тут же увидела Кисаки.
Кисаки по-прежнему стоял посреди лестницы.
«Дзюбанкан» изначально был построен как кабаре для войск союзников, поэтому вместо люстры здесь висели гирлянды бумажных фонариков в стиле Гиона, а лестница была выкрашена в алый цвет, напоминая дворец.
Особенно парадная лестница была невероятно широка и своим алым цветом мощно врезалась в пространство зала, словно сцена в театре кабуки.
Стоять посреди такой лестницы, как актёр, должно было изрядно смущать, но Кисаки не испытывал ни малейшего смущения и смотрел в объектив.
«Ах, опять… Неужели он снимает меня?» – Ёко невольно отвернулась, но фокус объектива был направлен на тело лежащей Мари.
То, что танцовщица упала в центре зала, не было чем-то из ряда вон выходящим по сравнению с многочисленными яркими происшествиями, порождаемыми повседневной жизнью последних дней. Однако, воспламенённый профессиональным сознанием, что для репортажа в журнале на тему «Виды танцевальных залов» такой кадр – редкая удача, Кисаки в спешке прильнул к камере.
Отчасти в съёмке таких сцен было что-то бессознательно мазохистское и вызывающее отторжение, но при этом доставляющее удовольствие. Но причина этого была не совсем ясна даже самому Кисаки.
Управляющий «Дзюбанкана», обычно сидевший в офисе, в тот вечер случайно вышел в зал, чтобы посмотреть на игру недавно нанятого оркестра, и, увидев Кисаки на лестнице, сразу понял, что тот собирается снимать.
– Ах, так нельзя! Такое здесь… Нельзя же снимать… – он хотел остановить его, но Кисаки, словно в забытьи, щёлкнул затвором, затем беспокойно спустился по лестнице и, широкими шагами, будто одержимый, пересек зал и исчез.
Всё произошло в мгновение ока. Ни у Ёко, ни у управляющего не было шанса остановить этого типа.
Более того, всё случилось в одно мгновение.
Когда тело Мари уже переносили на диван в офисе на руках боёв, мелодия La Cumparsita ещё не закончилась.
V
Когда мелодия La Cumparsita закончилась, люди наконец вспомнили о танцах, и волнение в зале холодно поутихло.
Управляющий немедленно сменил танго-оркестр на свинговый. Он был вполне доволен горячим исполнением танго-оркестра, но сделал это, чтобы изменить атмосферу в зале.
Затем, беспокоясь о теле Мари, он пришёл в офис вместе с танцовщицами и прогнал их обратно в зал:
– В зал, в зал! Гости ждут. Чего вы тут мешкаете? Танцуйте, танцуйте!
– Но хотя бы до прихода врача… – Ёко хотела остаться рядом с Мари. Они были самыми близкими подругами. Однако, «Всё в порядке. Не беспокойся. За Мари присмотрит персонал офиса» – услышала она в ответ и уже не могла противиться словам управляющего.
– Кё-тян, тебе тоже стоит пойти потанцевать, как думаешь?
– Я-то? Да ты шутишь – ответил Киёти, глядя на побледневшее, как воск, лицо Мари. – …Разве можно танцевать с больной? – Но и с другими танцовщицами тоже нехорошо по отношению к Мари. Сегодня вечером я полностью занят ею.
Услышав эти слова за спиной, Ёко обернулась: «Мари заняла тебя?»
Она хотела было подойти поближе к Киёси, но в офисе нельзя было подробно говорить об этом. К тому же, взгляд управляющего подгонял её.
Смущённо подманив его, Ёко вывела Киёси за дверь офиса и, заглядывая в его профиль, спросила: «Что значит, Мари заняла тебя? Что вообще происходит?»
– Вчера днём я случайно встретил Мари на Сёкоку. А она, понимаешь, раскисла. Я говорю: «Соберись, тряпка, резиновый мячик плачет». А она вдруг хватает меня за руку – аж неловко стало. Прямо посреди Сёкоку, представляешь?
– Угу. И что?
– «Кё-тян, потанцуй завтра со мной, только завтра, ни с кем больше, весь вечер только со мной одной», – говорит. Ну, я согласился. «Ладно, потанцую. Но взамен пустишь меня завтра переночевать к себе?» – «Угу, пущу», – вот так она меня и забронировала».
– Ты… влюблён в Мари?
– Ни влюблён, ни нет. Люблю я одну-единственную, но имя её не назову, хоть тресни.
Киёси вдруг покраснел. Ёко тоже покраснела до ушей.
– Но зачем тебе ночевать у Мари?
– Ну, сегодня… то есть вчерашнее завтра – это же суббота. А в субботу вечером мне ночевать негде.
– Ах, почему? Субботний вечер…
Ёко поймала себя на том, что, желая расспросить о Мари, она сама невольно поддалась любопытству и выведывает детали о Киёси, что показалось неприличным.
VI
– По субботам вечером к мамаше приходит её муж. Поэтому… – ответил Киёси тоном, будто речь шла о чём-то постороннем.
– Мама… это твоя… мать…? – спросила Ёко. Киёси вдруг рассмеялся. Бой у входа обернулся. Почувствовав его взгляд, Ёко наконец осознала, как долго они стоят и разговаривают.
– Пойдёмте же скорее – тихо сказала она, подобрав подол платья.
– У меня и матери-то нет – тоже пересекая лобби, сказал Киёси.
– Я о женщине из дома, где я живу. Все зовут её «мамаша», вот и я…
Слова «…тоже её так зову» она расслышала лишь наполовину. Шум оркестра внезапно обрушился на уши обоих, когда они приблизились ко входу в зал.
– Она что же, «ласточка» (прим.: женщина, родившаяся в год Огненной Лошади, хиноэ-ума, считающийся несчастливым)?
– Угу. Муж приходит только по субботам. Я там что-то вроде приживальщика. Так что лучше бы мужу меня не видеть.
Киёси наклонился поближе, чтобы его услышали, но, войдя в зал, Ёко, неизвестно о чём подумав, вдруг отстранилась от него.
– «Значит, ты… «птенец ласточки» у этой мамы?.. Как противно! Это же так грязно!
В тот же миг, когда она отвернулась с отвращением, алая лестница в глубине зала ударила в глаза более ядовитым цветом, чем обычно. Внезапно в голове мелькнула мысль о Кисаки с его камерой. Брови Ёко мрачно сдвинулись.
– Что?
Похоже, Киёси не расслышал, так как они как раз проходили мимо эстрады.
– Не слышал – и хорошо – не глядя на него, раздражённо сказала Ёко.
– Ты сказала «ласточка»?.. Вовсе нет. Мама родилась в год Огненной Лошади. Она уже в возрасте.
Киёси говорил с не по годам взрослой рассудительностью.
– Какая разница. Если уж старше, то тем лучше…
– Даже на двадцать лет? А-ха-ха… Прямо как в фильме ужасов. Не в моём вкусе.
– Как знать.
– С чего ты так зациклилась на этом?
Киёси заглянул в лицо Ёко. Холодное, словно маска, неприлично для танцовщицы, лицо, отточенное и проникнутое строгой утончённостью, под розовым светом фонарей вдруг приобрело зрелый, чувственный шарм.
– Потому что это противно! «Ласточка»… Если бы она была «ласточкой», я бы немедленно порвала с тобой.
– Значит, если она не «ласточка», ты позволишь мне переночевать у тебя? – внезапно сказал Киёси.
– Что?
По роду своей работы она привыкла к ухаживаниям, и, хотя они могли её злить, уж никак не удивлять, но сейчас Ёко застыла на месте. Что же это, в конце концов, такое? В этот момент один мужчина, сидевший на стуле поодаль, кивнул Ёко.
VII
Кивнул ей Харутака, младший сын маркиза Норитакэ, молодой человек лет тридцати.
«Ну, так позволишь переночевать?» – повторил Киёси, и на его двадцатитрёхлетнем лице проступило наивное выражение подростка. Слушая эти слова, Ёко ответила на кивок Харутаки.
Харутака Норитакэ получил прозвище «маркиз Сюттакэ» (игра слов: Норитакэ — «с ног сшибающий»), он был завсегдатаем «Дзюбанкана». Помимо него, здесь то и дело бывали несколько так называемых «молодых господ» из знатных семей, в том числе третий сын князя Коноэ, который, то ли чтобы развеяться накануне заключения в качестве подозреваемого в военных преступлениях, то ли по природной склонности к удовольствиям, иногда приходил потанцевать, пока один бульварный журнал не разоблачил их похождения.
Харутака тоже был одним из тех, кого подвергли критике, но, будучи от природы нечувствительным, он не особо расстроился и, конечно, не бросился скупать тот журнал, а предпочёл потратить эти деньги на билеты и ходить в «Дзюбанкан».
Отчасти потому, что для того, чтобы затвориться из-за такого пустяка, этот «маркиз Сюттакэ» был уж слишком без ума от Ёко.
Он не ходил в другие залы, кроме «Дзюбанкана», а там не танцевал ни с кем, кроме Ёко, и когда та танцевала с другим мужчиной, он спокойно сидел на стуле в одной и той же позе, терпеливо ожидая, пока она освободится.
Сегодня вечером, придя после суматохи, вызванной падением Мари, и не обнаружив Ёко, он, похоже, только и делал, что беспокойно водил глазами.
И вот, наконец увидев её, он оживлённо кивнул, но, поскольку Ёко разговаривала с Киёси, с присущим ему этикетом он решил, что должен выкурить ещё одну сигару, прежде чем подняться со стула.
Однако у Киёси и намёка на такое понимание этикета не было.
– Ну же. Позволь переночевать.
– …………
– Сегодня же… Нельзя?
– Вот уж не ожидала!
И Ёко действительно была поражена, не только на словах.
– С какой стати я должна тебя пускать?
– Да потому что на субботний вечер у большинства женщин есть причины отказать. Как у мамаши… Свободны в субботу разве что Мари да ты.
– Но ты же занят Мари.
– Это я на случай, если с Мари что-то случится. Если она умрёт, то где мне сегодня ночевать? У меня такое чувство, что Мари может умереть.
– Есть? У тебя тоже такое чувство?
Ёко вдруг стало тревожно.
– Ах, точно! Хватит болтать, сходи-ка ты в офис. Посмотри, пришёл ли врач. Иди скорее, посмотри.
И, проводив взглядом удаляющуюся спину Киёси, выходящего из зала, она обернулась и увидела перед собой Харутаки.
VIII
Ёко переложила платок из правой руки в левую и пожала протянутую руку Харутаки. Таковым было её обычное приветствие для него – нет, для всех гостей, которые к ней подходили.
Она не позволяла себе, как легкомысленная танцовщица, внезапно бросаться со словами: «А-а, ты пришёл!» – и болтать без умолку – её самолюбие не позволяло такого. Особенно в первые дни, когда она, сбежав из дома в Токио, пришла в киотский зал, то держалась жёстко, словно свинцовая статуя, и холодно, словно знатная дама. Благодаря красоте и хорошим манерам это даже привлекало некоторых гостей, но в последние месяцы, по сравнению с довоенным временем, уровень залов упал, и находились те, кто ворчал: «Что она себе позволяет, всего лишь какая-то танцовщица». Уровень самих танцовщиц, прежде всего их самооценка, также понизился. Управляющий и старшие танцовщицы даже предупреждали её, что она может попросту рассердить гостей.
«Тогда я ухожу» – при каждом замечании в ней вдруг просыпался аристократический характер, но она сдерживала себя, понимая, что сдаться – значит поддаться тяготам жизни. К тому же, она размышляла, что для одинокой женщины, это была единственная работа, приносящая хоть какой-то стабильный доход и не требующая полного падения или осквернения себя, и постепенно привыкла к атмосфере зала, научившись, по крайней мере, пожимать руки клиентам.
Даже при падении уровня, в залах, как нигде больше, гости любили щеголять и манерничать. Поэтому и рукопожатия здесь казалось удивительно естественным.
«…Однако лишь у этой танцовщицы рукопожатие обладает искренней чувственностью» – подумал Харутаки, ведя Ёко в центр зала, протискиваясь мимо других танцовщиц, отдыхающих за чаем.
Дело было не только во внешности. Хотя чувствовать руку, которая лишь прошлой ночью была с кем-то, – это даже по-своему упадочно, одна лишь Ёко казалась такой же твёрдой, как и её танец.
Звучала мелодия «Along the Navajo Trail».
Эта песня, в которой тоска по дому навахо, исчезающих с простора американского Запада, словно бродит по бескрайним занавесам степной ночи, с её впечатляющим повторяющимся басовым ритмом, напоминающим цокот копыт, внезапно затрагивала японскую сентиментальность, но Ёко не была настолько мягкой, чтобы танцевать томно.
Она не использовала такие приёмы, как вращение, зажимая колено партнёра между своими бёдрами, что придавало Ёко вид девственницы.
Более того, подобно тому, как Киёси интуитивно чуял, что даже по субботам она «чиста», Харутаки – второй сын маркиза Норитакэ – вновь интуитивно ощутил по прикосновению руки на её спине, что эта женщина ещё ни разу не увлажняла своё тело (имеется в виду не испытывала сильного сексуального возбуждения – прим. ред), и его сердце забилось от мысли: «Сегодня вечером я точно уведу её куда-нибудь…»
Он был уверен в своих силах, если бы она согласилась пойти, но согласится ли? Более того, если бы он произнёс свою заветную фразу, она уже не смогла бы отказать ему в приглашении! И эту фразу Харутаки произнёс внезапно: