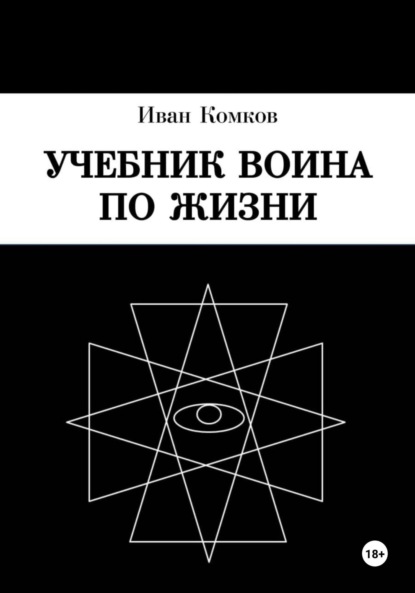- -
- 100%
- +
– Вы же из женского отделения Гакусюина (элитная частная школа для представителей японской элиты – прим. ред), не так ли?
– Что?.. А, нет…
Смутившись, она сделала поворот, и в тот же миг в поле зрения Ёко попала фигура Киёти, стоявшего у входа в зал. У Ёко что-то ёкнуло внутри.
IX
Как раз в этот момент танцовщица Руми, вернувшаяся из Шанхая, толкнула в спину Ёко. Руми танцевала с толстым чёрным маклером Хамадой и крикнула:
«Дура! Ты только задницей перед Шэмми-дансом трясёшь, вот и сталкиваешься. Профи!» – и отчитала её нахальным тоном, но слова Руми не долетели до ушей Ёко.
Ей было не до того. Неожиданная фраза Харутаки! И выражение лица Киёти!
Ёко невольно повернулась в сторону входа в зал, где стоял Киёти, но Харутаки внезапно снова сделал поворот, и тот скрылся из виду.
Видя смятение Ёко, Харутаки подумал: «Эта женщина уже практически моя» – и, ловко повернул, будто вонзил клинок своих желаний в подол её платья.
– Вы же дочь господина Насэко, не так ли?
– Нет.
– Нет, бесполезно скрывать. Я видел ваше фото в альбоме выпускников моей сестры.
– …………
– Говорят, вы учились в одном классе с моей сестрой в Гакусюине.
– Возможно, похожа…
– «Похожа» – это довольно безвкусная и лишённая остроумия реплика, не в вашем стиле. Почему вы так скрываетесь? Хотя, будь я журналистом, возможно, в этом была бы необходимость. Ваш отец, так или иначе, одна из ключевых фигур в политическом мире. И дочь этого самого Насэко Кодзо – танцовщица в «Дзюбанкане».
– Никому не говорите! Умоляю!
– Значит, всё-таки.
– Так оно и есть? – его мутные, навыкате глаза вдруг засияли. Затем, неизвестно о чём подумав, он сказал: «Завтра я уезжаю в Токио». Бросив эту несвязную фразу, он посмотрел на ухо Ёко. Какая красивая форма! Харутаки был из тех мужчин, кого не привлекали женщины с некрасивой формой ушей.
«В Токио?..» – взглядом, спрашивающим, зачем он туда едет – не рассказать ли об этом кому-то, – посмотрела на него Ёко, но Харутаки нарочно не ответил на это.
– Какое-то время мы не увидимся. Я хотел как-нибудь спокойно поговорить с вами об этом и предложить свою помощь, но, похоже, единственная возможность – сегодня вечером.
В этот момент мелодия «Along the Navajo Trail» закончилась. Харутаки быстро заговорил, настойчиво: «…Однако сегодня вечером я буду в „Тамура“. В Киямати, ниже Четвёртой улицы. Ресторан с вывеской „Тамура“ и красным фонарём. После работы приходите».
Не дав ей и слова ответить, он в мгновение ока исчез из зала.
Ёко пробилась сквозь толпу к Киёти.
– Мари?.. Врач пришёл?
– Пришёл. Пришёл, но… – Киёти вдруг нарочито перешёл на киотский диалект.
– Пришёл, но поздно уже.
– Значит, Мари всё-таки?
– Цианистый калий! Ну и дура же эта Мари!
X
Ёко, роняя слёзы, побежала в офис. Её затуманенный взгляд будто смотрел через белую ткань. И под этой тканью было восковое лицо Мари.
Подойдя ближе, она увидела, что посередине её тонкой верхней губы остатки стёршейся помады засохли тёмно-красным цветом. Вокруг губ густо рос пушок.
Мари так и не хватало духу сбрить его, и эта деталь снова вызвало слёзы. Ёко стояла в оцепенении, но вскоре, внезапно придя в себя, услышала голос Киёти, которого, похоже, допрашивал полицейский в соседней комнате.
– Мы танцевали La Cumparsita. И тогда Мари сказала: «Кё-тян, умереть в танце под La Cumparsita с тобой – моя заветная мечта». Я спросил: «Почему?» – но она промолчала. Вдруг цвет её лица резко изменился, она побледнела и рухнула.
– Вы не видели, чтобы она что-то клала в рот?
– Не видел, чтобы клала, но она вроде бы что-то жевала. Мари была из тех танцовщиц, кто не мог обойтись без жвачки или леденцов, чтобы занять рот, поэтому я не подумал, что это странно, но теперь, оглядываясь назад… Возможно, ещё до танца она положила в рот капсулу с цианистым калием и раскусила её.
Затем полицейский спросил Киёти об его отношениях с Мари, но, выяснив, что они были ни к чему не обязывающими, перешёл к допросу Ёко, после нескольких сотрудников офиса.
– Мари доверяла мне всё, но я не слышала ни о каких обстоятельствах, которые могли бы привести к смерти. Разве у Мари были такие мучительные переживания, чтобы умереть?
Ёко задала встречный вопрос. Она хорошо зарабатывала, так что дело было не в нужде. Что касается близких отношений с мужчинами, то, похоже, не было ничего такого, о чём ходили бы слухи.
Когда полицейский, не добившись результатов, удалился, вскоре послышалась последняя мелодия «Goodnight». Киёти отвел Ёко в угол офиса.
– В итоге мне негде ночевать. Пусти меня сегодня переночевать.
– Нельзя. Ты же сегодня занят Мари. Ты должен провести ночь у её гроба. Если будешь ночевать у гроба, то сможешь остаться в её квартире.
– Тоже верно. Ладно, так и сделаем. Но взамен ты пустишь меня в следующую субботу, да? Ну же, мне же негде ночевать. Ну?
Он вёл себя, как капризный ребёнок. Ёко улыбнулась и неопределённо кивнула.
– Ночь у гроба… Одному мне будет неуютно. Ёко тоже придёт, да?
– Да. Но, возможно, я немного опоздаю.
– Куда-то идёшь?
– В «Тамура».
– «Тамура»? Неужели та самая «Тамура» в Киямати?
– В Киямати.
– Не ходи туда, в «Тамура» не ходи. Не ходи! – внезапно закричал Киёти.
XI
Когда ей сказали не ходить, в Ёко проснулся дух противоречия. Не спрашивая причин, лишь повелительный тон Киёти больно задел её самолюбие.
– У тебя нет и права приказывать мне, даже на кончике ушной палочки!
Её колебания разрешились этой фразой, и её голос и манера речи уже не были манерами танцовщицы.
– Ну, тогда делай как знаешь! – Киёти тоже закусил губу, но нарочно пробормотал, словно сам себе: «…Однако и Ёко стала захаживать в „Тамура“».
– А что плохого в том, чтобы пойти в ресторан? – с иронией ответила она, словно говоря: «Не читай мне нотаций, как директор школы учительнице». Киёти тоже был остёр на язык.
– Мило, что наивная учительница считает «Тамура» просто рестораном. – Хотя еду там подают. Всё подают. И ободранного (то есть клиент – прим. ред) подадут, и ноги подадут. И две подушки подадут. И две ночные рубашки подадут. Птичка в клетке, которой не вырваться. Это не просто место для свиданий.
– Да ну?.. А ты-то откуда так хорошо знаешь? – она нарочно сказала это с вызывающим видом, хотя была поражена.
– Конечно, знаю. Ведь я…
Он хотел сказать: «Я живу в „Тамура“. Я ведь живу у тамошней мамаши» – но, конечно, не смог вымолвить этого.
– Лучше не приходи после «Тамура» на ночь у гроба. Это осквернит усопшую.
– Что это значит?
Ёко была настолько неискушённой девушкой, что даже не сразу поняла смысл этих слов.
– А, ты думаешь, меня соблазнят? Как невежливо! Не может быть, – наполовину убеждая себя, она поднялась в раздевалку на втором этаже. Спустив вечернее платье до пояса и быстро надевая верх, она услышала, как, должно быть, закончилась последняя мелодия, и к ней с гомоном подошли танцовщицы.
По субботам ноги у танцовщиц горят огнём. Они так устают, но говорить громко можно только в этой комнате. Тем более сегодня – инцидент с Мари. Некоторые танцовщицы говорили, не снимая урашений с головы.
Но Ёко, как всегда, молчала. После того как её назвали «воображалой», она ещё больше отдалилась от подруг. Молча она надела простое кобальтовое платье и завязала шнурок бантом вместо пуговицы на воротнике, когда вернувшаяся из Шанхая Руми, поднявшись позже, тараторила: «Ну и дела, право. Сегодня вечером папик, завтра собиралась поспать до двух, а тут поручение от управляющего. Говорят, был парень, который сфотографировал, как упала Мари. „Принеси эти фото с утра, если опубликуют – беда, Руми, у тебя есть смелость, сходи“. Танцовщиц за людей не считает. У управляющего куда больше смелости».
Ёко, неизвестно о чём подумав, подошла к Руми.
«Я могу вместо тебя сходить завтра» – и заглянула в визитку Кисаки, которую Руми взяла со стола управляющего.
Яркие ночные часы
I
Бывший кинотеатр «Кёхо» на Сандзё-Каварамати, где шли фильмы исключительно для оккупационных войск, по субботам был заставлен джипами и грузовиками.
Когда Кисаки вышел из «Дзюбанкана» и дошёл до улицы Каварамати, как раз в это время вокруг мигающих в ночном небе розовых неоновых букв – «KYOTO THEATRE» – у вывески театра кружился оранжевый мигающий свет, его ритм внезапно оживился, и ноги американских солдат, высыпавших из кинотеатра, были быстры, но и шаги Кисаки были беспокойными.
Он был возбуждён. Почему?
Фотографии Кисаки, чей объектив превращался в плоть, обладали настолько сильной индивидуальностью, что с негативов веяло нигилистическим запахом тела; в кадрах, которые он искал, всегда чувствовалась ночь, и они отдавали декадансом, но и сегодняшние снимки Ёко и Мари идеально подходили для его любимой темы – «Позы ночи».
Однако было ли это просто вопросом вкуса – намеренно снять прекрасную Ёко в самом безобразном положении и найти уродливую позу в упавшей фигуре Мари? В других местах он, вероятно, не зашёл бы так далеко.
Всё дело было в его неприязни к танцевальным залам. А причиной тому была его покойная жена, сама работвшая танцовщицей.
Её звали Яэко.
Когда Кисаки, ещё студент, познакомился с Яэко, та уже не была танцовщицей и работала на ресепшене в одном из отелей между Осака и Кобе.
После четырёх лет долгой любви они поженились; Кисаки не умел танцевать, и хотя она собирала пластинки с танцевальной музыкой, сама танцевать не любила. Два года спустя Яэко заболела лёгким воспалением лёгких и уехала поправлять здоровье на курорт Сирахама. Однажды, когда он приехал её навестить, Яэко танцевала в зале гостиницы с незнакомым мужчиной. Под La Cumparsita. Она кашляла, но танцевала в упоении.
В тот миг, когда он впервые увидел, как танцует его жена, да ещё в объятиях другого мужчины, Кисаки остолбенел, представив, со сколькими мужчинами его жена, бывшая танцовщица, кружилась в объятиях каждую ночь. Его внезапно охватило яркое, чувственное воспоминание о том, как она призналась, что до замужества у неё были связи с двумя-тремя посетителями зала, и теперь, с опозданием, его охватила жгучая ревность.
Кисаки перестал быть мужем, снисходительным к прошлому жены; спалённый ревностью, он погрузился в упаднечество.
И этот огонь ревности не угас даже после того, как Яэко умерла позапрошлым годом, и вспыхнул вновь, как только он впервые увидел Ёко в «Дзюбанкане».
Ёко была похожа на покойную Яэко. Поэтому, решив снять Ёко, он гнался за её красотой, но его ревнивый глаз, способный разглядеть в позе Яэко в гостиничном зале лишь уродство, отвергал красоту Ёко, и в любой позе ему виделись проявления женского инстинкта быть увлекаемой мужчиной, её жалкая уродливость, и после трёх бесплодных дней он сказал: «Ладно! Раз так, я сниму самую непристойную позу этой женщины!»
Пылая мазохистским удовольствием, он щёлкнул затвором, и в тот же миг Мари…
В бросившейся ему в глаза упавшей фигуре был намёк на насмешку над залом. Бледный от извращённого возбуждения, он вскоре зашагал по улице Сидзё в сторону парка Маруяма. И когда он поднимался по каменным ступеням Гиона, из темноты внезапно выскочила молодая девушка.
II
– Дяденька, огоньку не найдется?
Перед Кисаки, шагавшим тяжело и мерно, девушка растопырила ноги, словно автобусная кондукторша, и надменно преградила ему путь. Голос у нее был молодой, и когда Кисаки чиркнул зажигалкой, в ее свете внезапно всплыло еще не до конца сформировавшееся лицо девчонки, лет семнадцати-восемнадцати. Но та, с ловкостью тридцатилетней гейши, прикурила и, пока он не успел ответить, что возвращается к себе в апартаменты, спросила: «Дяденька, а вы куда путь держите?..» – и, выпустив дым, пошла следом.
– Тебе что-то еще нужно?
– Ночью ходить опасно, так что проводи меня до дому, ладно?
– До какого это «до дому»?
– А вы сами-то?
– В сторону Сэйкандзи.
– Я тоже в тех краях.
«Врешь!» – хотелось сказать ему, но Кисаки молча пошел рядом с ней, они миновали парк Маруяма и свернули по направлению к Кодайдзи.
Он слышал по слухам и видел сам, что женщины, что стоят у мостов Сандзё и Сидзё или в парке Маруяма, – все как одна подозрительные, и он сразу это почувствовал, но, возможно, что-то в этой девушке мешало сделать такой однозначный вывод.
Не потому что она была слишком молодой. Восемнадцать лет – возраст обычный. И у тех подозрительных девушек такого возраста отвратительная вульгарность молодости делала густой слой белил и губной помады поистине неприглядным, а на чистой коже этой девушки, почти без косметики, лежала печать далекой ностальгии.
Белое летнее кимоно «юката» с фиолетовым узором и иссиня-лиловый пояс – и даже то, что она, словно малолетняя правонарушительница, курила, напоминало о чем-то давнем: о звуках губной гармошки в школьные годы.
Впрочем, никакого особого интереса он к ней не испытывал. Прото не говорил ей убираться, – вернее, он вообще не проронил ни слова, позволив ей следовать за собой, пока они не свернули с дороги у Кодайдзи на тропу, ведущую к храму Киёмидзу, и, извиваясь серпантином, не стали подниматься выше. Гора была уже совсем близко, и в чаще леса одиноко стоял домик под названием «Сэйкансо».
Вокруг тусклого света фонаря у ворот вихрился, словно нимб, гнетущая, глубокая пустота, и внезапно почувствовалось, что ночь уже давно наступила.
Кисаки, указав вдаль, наконец нарушил молчание:
– Вот он, мой дом. А твой где? Небось, не в той же горе? Иди уже!
– Какой же вы бессердечный! Отсюда-то…
– Боишься одна возвращаться? Сама виновата, что пошла за незнакомцем. Привидений не будет, беги что есть сил!
– Дяденька, а вы тут один живете?
Он неохотно кивнул. И вдруг девушка неожиданно сказала, заглядывая ему в лицо: «Тогда и меня пустите. Ну что?»
Прядь ее волос, пропахших потом, коснулась его носа.
III
– Ни за что!
– Ну не говорите так, пустите же!
– …………
– Мне ведь идти-то некуда.
– С чего это?
– Я из дому сбежала.
– Та-ак… И с чего это ты выкинула такую глупость?
– …………
– Даже если тебе некуда возвращаться, где-то ты ведь ночуешь? Снимай комнату в гостинице.
– Денег у меня нет на гостиницу.
Они стояли в зарослях, где было полно комаров, и, пока они разговаривали, нервы у Кисаки уже были на пределе, так что он вдруг выхватил три десятииеновые банкноты и сунул ей в руку: «Вот, возьми и сними себе комнату!»
«И все-таки она оказалась ночной бабочкой», – с долей разочарования, но и с облегчением подумал он и, не оглядываясь, вошел в парадную двери «Сэйкансо».
Его комната была на втором этаже, шесть циновок-татами у самой лестницы. Он занес внутрь фотоаппарат, в отгороженной черной занавесью части комнаты, размером примерно в два татами, которую он приспособил под фотолабораторию, и уже собирался зажечь спираль от комаров, как вдруг раздался стук в дверь. Он открыл – на пороге стояла та самая девушка, с виноватым видом, но с ухмылкой на лице.
– Ты что не ушла?
– Ага.
Она показала ему язык. Взглянув на это, Кисаки невольно чуть не расхохотался и уже не мог ее выгнать. Девушка живо проскользнула внутрь.
«Господин Кисаки, а фотоаппарат у вас хоть куда!» – видимо, она уже разглядела табличку с его именем на двери.
Не ответив на это, он спросил: «Ты из Осаки, да?»
Поскольку Кисаки и сам был родом из Осаки, ее говор звучал для него по-родному.
– Ага. Только наш дом сгорел.
Взгляд ее скользнул по занавеси, отгораживающей лабораторию.
– А отец?..
– В тюрьме… В камере предварительного заключения… – сказала она с безразличным видом, но вдруг голос ее сорвался.
– А там ведь деньги нужны. Нужно передачки носить, и надзирателям надо давать, и… адвокату тоже, без денег он и слова не скажет в твою пользу.
Он с удивлением смотрел на нее, думая, неужели эта девчонка должна заботиться о таких вещах, и спросил, жива ли ее мать. В ответ она резко бросила: «Мамашу ненавижу».
Эти слова прозвучали с неожиданной силой, и, глядя на ее резко дергающиеся тонкие брови, он подумал, что она, видимо, сочиняет: «Терпеть не могу таких женщин с менталитетом любовницы. Только и знают, что по мужикам шляться…»
Но у Кисаки не было ни малейшего желания расспрашивать ее дальше.
«Давай уже спать!» – сказал он, доставая из стенного шкафа футон.
Девушка вдруг сделалась серьезной и пристально следила за его движениями.
IV
Увидев ее выражение лица Кисаки вдруг ощутил в ней женщину, и, когда он собрался стелить постель, девушка, словно опомнившись, взметнулась и встала спиной к нему в углу комнаты.
Комната была тесной, поскольку два татами из шести занимала лаборатория. Более естественно было бы предположить, что она встала, чтобы отойти в угол и не мешать ему стелить футон, – но нет, он явственно почувствовал, что она взметнулась. Может, это ему только показалось?
«Сколько уже времени ты скитаешься?» – вдруг спросил Кисаки.
«Десять дней!» – ответила она, стоя спиной к нему.
Взгляд Кисаки скользнул по изгибу ее бедер и поспешно отпрянул.
Хотя ее вид – юката и детский пояс – и вызывал легкую ностальгию, возможно, из-за того, что она была туго перетянута, ее бедра казались еще более округлыми, и, глядя на них, Кисаки думал о том, как прожила эта девочка последние десять дней. Огонек для сигареты, выпрошенный в темноте. Но в его взгляде не было сладострастия. Скорее, он чувствовал что-то щемящее и одновременно с этим отторжение.
Ему вспомнился облик женщины на хирургическом столе. Постель, хирургия, обнаженное тело молодой женщины. Неприятное ощущение!
Вряд ли найдется женщина, которая хочет лечь под нож. Но так уж вышло – такова печальная участь больной, увы, женщины. Смирение женщины, распростертой на операционном столе! Вынужденный самоотказ! Бессознательное состояние! Инстинктивное цепляние за хирурга, тревога! А еще – ненависть и обида… Самоуничижительное сладострастие!
Шумное празднество первой брачной ночи – это празднество скальпеля. И не просто празднество, а скальпель хирурга! Судьбоносная жалость женской физиологии всегда вызывала у Кисаки щемящую боль. И, возможно, причина тому – ревность к его покойной жене Яэко, которая изменила его взгляд на женское естество.
До замужества с Кисаки у Яэко были связи с парой мужчин. Но Кисаки хотелось думать, что Яэко не сама их искала, а просто робкая Яэко угодила в ловушку, расставленную вокруг профессии танцовщицы, и не смогла вырваться.
Говорили, что Яэко тогда было лет восемнадцать-девятнадцать. А те мужчины были городскими подонками, хулиганами. Ничего не ведающая девочка лет восемнадцати и юные хулиганы – что может быть более жестко!
То, что Кисаки вспомнил о хирургии, отчасти, наверное, происходило от необъяснимой ненависти к тем мужчинам. Более того, когда он думал, что Яэко, желая сбежать, все же была влекома какой-то физической притягательностью тех мужчин, его жалость к хрупкости женской натуры усиливалась почти до негодования.
Жалость и отторжение – между этими полюсами не было середины. Можно сказать, Кисаки мог мыслить лишь преувеличенными категориями, когда дело касалось женского тела. Но ревность – это всегда страсть, искаженная преувеличением.
Именно это он и чувствовал по отношению к этой девочке. Вот оно – женское тело! Попеременно глядя на трогательно худенькие плечи и пышные бедра девушки, Кисаки занервничал и вдруг окликнул ее: «Эй!»
V
«Что?..» – обернулась она, но Кисаки вдруг потерял дар речи.
Он и сам толком не понимал, зачем окликнул ее, и наконец выдавил: «Как тебя зовут?..» – почему-то его голос прозвучал сухо.
«Тимако. Хи-хи… Смешное имя, да?» – она беззаботно рассмеялась, но, взглянув на постеленное ложе, спросила: «А одеяло-то всего одно?»
– И подушка одна. После бомбежек в Осаке это все, что у меня осталось.
– Мне спать охота. Можно я прилягу тут? – не снимая пояса, она упала на живот, крючком босой ноги подцепила сумочку, валявшуюся у края постели, легким движением перекинула ее через плечо к изголовью, достала оттуда сигарету и сказала: «Огоньку дашь?.. А, можно и от этого прикурить».
Прикурив от спирали от комаров, она жадно затянулась, но вдруг откинулась на спину и уставилась в потолок. Глаза ее блестели. И несколько мгновений она не двигалась, словно окаменев. Но всем существом своим, казалось, она ощущала присутствие Кисаки. Подобно пациентке, которой завязали глаза и дали наркоз, но она все же слышит едва уловимый звук скальпеля, который положили в хирургический на лоток.
«О чем думаешь? Пепел – сейчас упадет», – предупредил он, уже придвигаясь к ней, и впервые осознал, как в его собственных жилах пульсирует кровь свирепого самца.
Что это было? Необъяснимый порыв – жестоко подчинить себе того, кого жалеешь? Или же самоуничижительное влечение к тому, что вызываешь отторжение и отвращение?
Бывает, что к тому, кого любишь с благоговейным чувством, вдруг обращаешься с инстинктом насекомого. Тем более что Тимако явила ему и жалость, и уродство подозрительной девушки, что копошится в ночных переулках с недавних пор. Жалость – это судьбоносная пассивность распростертой на операционном столе! Уродство – это хрупкость чувственности, не сознающей своего уродства, это любопытство!
Но именно эта жалость и это уродство были главной темой ночных сцен, которые фотографировал Кисаки. И на дне этого падения клокотала ревность к покойной жене. Дело было не в сладострастии.
И потому, когда на вопрос «О чем думаешь?» Тимако простонала: «О папочке, что в тюрьме…» – и, глубоко затянувшись, выпустила дым кольцами, устремив в их тающий след отсутствующий взгляд, Кисаки вздрогнул и отдернул руку – он уже не мог ее обнять.
В этот момент в коридоре раздались шаги, и послышался голос: «Господин Кисаки, я вернулся!»
VI
По голосу он сразу понял, что это Сакано, музыкант из соседней комнаты. Видимо, он возвращался после закрытия зала. Его голос, более хриплый и нездоровый, чем обычно, безучастно гремел, отражая поздний час и тяжесть аккордеона, висевшего на плече.
«А, вы вернулись…» – издал Кисаки какой-то дикий звук, но и его голос тоже подло дрожал и звучал нездорово.
Он понимал, что его уродливо разгорячившееся состояние стало заметно, и ему было стыдно, как вдруг снова раздался голос Сакано: «Господин Кисаки, господин Кисаки!» – звавший его подойти. И этот дикий голос тоже подло дрожал. Для приглашения сыграть в маджонг он звучал слишком взволнованно и растерянно.
Кисаки поднялся с постели у изголовья Тимако, ощущая у себя за спиной ее быстрый, сверкающий взгляд, и, спросив: «Что случилось?», – прошел в комнату Сакано.
– Жена сбежала.
Там была записка, написанная довольно умелым, но заваливающимся вправо почерком.
«С живущим на фенамине невозможно существовать…» и так далее.
Фенамин, в отличие от седативных снотворных, – это инъекционный препарат, временно стимулирующий центральную нервную систему, вызывая бодрствование и возбуждение. Похоже, Сакано пристрастился к нему еще в те времена, когда выступал на сцене с своим «коньком» – монологами под аккордеон, и теперь колол этот сильнодействующий препарат так же часто, как курят сигареты. Даже Кисаки поражался количеству и частоте этих инъекций. Если уж это поражало Кисаки, то жена Сакано и вовсе не выдерживала.
«Коробочка из десяти ампул стоит двадцать три иены, верно? А бывают дни, когда он колет по две таких коробки! Это невыносимо! Одна только трата на фенамин „съедает“ всю зарплату…» – жаловалась она, и, видимо, в конце концов сбежала. Ведь он покупал в первую очередь не рис, а препарат для инъекций, и на рис денег уже не оставалось.
– Сволочь! Какая же жестокость. («Вывесьте вывеску „Больница Сакано“, колйте себе инъекции каждый день и живите счастливо»). Что ж, она меня просто дурачит! Хотя, к черту записку, господин Кисаки, вы только взгляните на это!
Сакано показал ему осколки ампул с запасом препарата, которые жена на выходе разбила вдребезги. Его землистого цвета лицо стало более нездоровым, он выглядел совершенно опустошенным, но вскоре фыркнул со смехом и сказал: «Прямо как печать самурая!» – и достал из кармана коробочку с фенамином.
– Вот это я от себя никогда не отпускаю. Хе-хе… Без него я и на аккордеоне играть не могу. Как бы то ни было – для начала одна… – и вколол два кубика в руку, испещренную следами от уколов, и похлопал по коже.
– Мне тоже сделайте.
Лучший способ утешить Сакано был именно таким, и Кисаки протянул руку, отчасти потому, что хотел получить дозу фенамина, чтобы до утра проявлять фотографии Ёко и Мари.