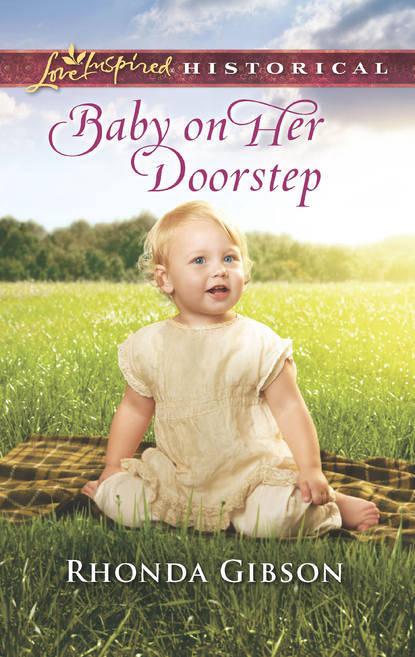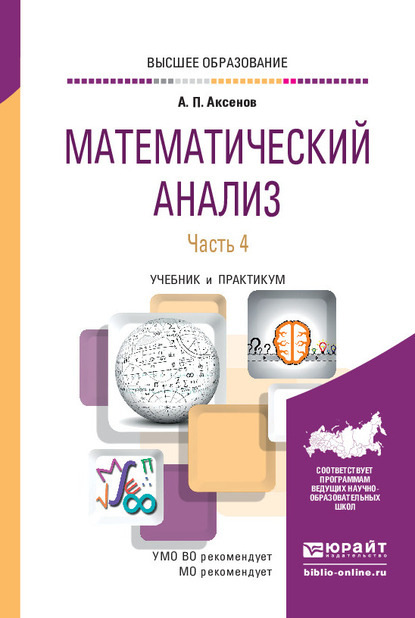Дом над облаками

- -
- 100%
- +
– Давно вы не виделись? – голос мужа донёсся уже из кухни.
Звякнула чашка, зашипел кофе.
– Лет десять… больше, наверное, – сказала она.
Это тоже было правдой, и от этой правды стало даже спокойнее.
– Ты справишься без меня? – спросила она, поправляя ремень сумки на плече и избегая встречаться с ним взглядом.
– Справлюсь, – улыбнулся Адриан. – Езжай, тебе правда нужно сменить обстановку.
В коридор выглянула Оливия:
– Мам, а пока тебя не будет, папа обещал устроить нам праздник: зоопарк, мороженое и, может быть, даже сладкую вату!
– Я рассматривал такой вариант, – примирительно поднял руки Адриан. – Но только если вы будете хорошо себя вести.
Клер кивнула, поправила воротник блузки и погладила дочь по руке. Под пальцами – тёплая, нежная кожа, и в этот миг внутри всё сжалось от острого чувства вины. Этот простой, привычный материнский жест вдруг показался частью чудовищного обмана. Ложь далась ей тяжело: в горле стоял горький ком.
Поезд медленно сбавлял скорость перед станцией Шартра. Клер стояла у выхода из вагона и никак не могла отделаться от ощущения, что ступает не просто на перрон, а в другую жизнь.
Двери открылись. В лицо дохнуло прохладой и запахом мокрого камня. Она спустилась на платформу, сделала пару шагов – и увидела его. Ахмет ждал её прямо у вагона, чуть в стороне от потока людей. Просто стоял, прислонившись плечом к колонне, в тёмном пальто, с шарфом, небрежно намотанным вокруг шеи. Руки в карманах, поза спокойная, почти будничная – но взгляд выдавал всё остальное.
Клер узнала его сразу – по глазам. Те же тёмные, миндалевидные, внимательные. Как будто за эти годы в них стало ещё больше глубины. Все её мысли о том, что чувства «поостыли», что расстояние расставило всё по местам, рассыпались в одну секунду. Будто кто-то сдул тонкий слой пепла, и под ним снова оказалось пламя. Пальцы на ручке чемодана задрожали. Чемодан внезапно показался чужим и лишним. Клер отпустила его – тот глухо ударился о плитку.
Ахмет шагнул ей навстречу. Пару секунд они стояли напротив друг друга, почти вплотную, ничего не говоря. За спиной шуршали колёсики чемоданов, кто-то громко звал такси, объявляли следующий поезд – но всё это отодвинулось куда-то далеко.
– Клер… – тихо сказал он по-французски, почти без акцента.
Она коротко всхлипнула – то ли от неожиданности, то ли от того, как странно и правильно прозвучало её имя в его голосе.
Клер сделала шаг вперёд и обняла его – резко, почти не думая. Прижалась к нему щекой и вдохнула запах: лёгкий аромат мыла, чуточку лекарства, тепло ткани, под которой был живой, знакомый теперь уже по-другому человек. Он замер на долю секунды, а потом обнял её в ответ – осторожно, будто боялся сжать слишком сильно, и в то же время – так, как обнимают того, кого очень долго ждали. Одна его ладонь легла ей на спину, другая – на затылок, в волосы. Клер почувствовала, как напряжение, жившее в груди все эти годы, наконец отпустило.
– Ты правда здесь, – прошептала она в его шарф.
– Я здесь, – мягко ответил он. – И ты тоже.
Они отстранились всего на пару сантиметров, чтобы увидеть лица друг друга.
Её глаза блестели, он улыбался чуть смущённо.
– Ты… всё такой же, – тихо сказала она.
– А ты… – он задержал на ней взгляд, – стала ещё красивее. И чуть грустнее.
Она не нашла, что на это ответить, лишь чуть кивнула.
Ахмет первым протянул к ней руку, и она вложила свою – так естественно, будто делала это всегда. Их пальцы переплелись.
– Пойдём, покажу тебе свой Шартр, – сказала Клер. Они вышли с вокзала и какое-то время просто шли рядом.
Узкая улица вела вниз, к центру: булочные, витрины с посудой, старые дома с облупившейся краской, вдалеке – силуэт собора.
Клер что-то рассказывала про своё детство, показывала дом, где когда-то жила тётя, маленький парк, где она вечно сбивала колени на велосипеде. Ахмет слушал – внимательно, иногда задавал короткие вопросы.
– О, подождите! – раздалось сбоку.
Из-под арки вышел мужчина с фотоаппаратом на ремне.
– Вас бы я с удовольствием сфотографировал, – он прищурился. – У вас глаза горят. Как у людей, которые влюблены.
Клер инстинктивно чуть отступила, но Ахмет легко коснулся её локтя, будто удерживая рядом.
– Мы просто… – начала она.
– Никакого «просто», – отмахнулся фотограф. – Один кадр. В подарок. Завтра заберёте в моей мастерской за собором.
Он уже доставал из кармана маленькую картонку.
– Вот, чтобы не потерялись, – он вложил визитку Ахмету в руку. – Адрес, телефон.
Они переглянулись. В этом взгляде было немое: «А почему нет?»
– Хорошо, – сказала Клер. – Один кадр.
– И два отпечатка, пожалуйста, – добавил Ахмет. – Для каждого.
Фотограф на секунду задержал взгляд, кивнул:
– Договорились. Просто стойте, как вам нравится.
Они развернулись лицом друг к другу. Ахмет наклонился и убрал прядь волос, спадавшую ей на лицо. Пальцы скользнули по щеке – Клер невольно улыбнулась. Щёлкнул затвор.
– Готово, – сказал фотограф. – Завтра после обеда ждите.
Он исчез так же быстро, как появился. Они медленно пошли вниз по улице.
Через какое-то время Ахмет остановился у невысокого здания с занавесками в окнах.
– Здесь наш отель, – сказал он и чуть пожал плечами. – Очень простой… Но мне кажется, что тебе здесь понравится.
Это был небольшой, ничем не примечательный отель недалеко от центра: занавески в окнах, потёртая вывеска.
В номере – широкая кровать, стол, два стула и окно, выходящее на черепичные крыши.
Дверь тихо закрылась. В комнате остались только они двое – и Клер вдруг растерялась. Все умные слова из писем никуда не годились здесь, в этой слишком реальной близости.
Ахмет подошёл ближе, аккуратно убрал прядь волос с её лица, провёл пальцами по щеке – словно ещё раз убеждаясь, что она настоящая.
– Я столько раз представлял этот момент, – тихо признался он. – И всё равно это… совсем по-другому.
Она не стала спрашивать, как именно.
Просто потянулась к нему и поцеловала.
Сначала осторожно, почти робко.
Её губы дрожали.
Через секунду его рука легла ей на поясницу и притянула ближе.
Поцелуи становились всё теплее, всё жаднее. В каждом было столько сдержанного за годы, что у неё на миг закружилась голова.
Она чувствовала, как его пальцы медленно скользят вверх – от талии к лопаткам, к плечам. Изнутри поднимался жар – не резкий, а медленный, тянущий.
В ту первую ночь время словно потеряло форму.
Одежда исчезла так естественно, будто была лишь помехой: движение, смех, короткая неловкая фраза – и всё стало простым и неизбежным.
Клер открывала его кожей – плечи, спину, шею. Каждое прикосновение отзывалось в теле, как мягкая вспышка, живая и тёплая.
Ей казалось, что всё, что годами в ней спало, наконец просыпается – осторожно, но безвозвратно.
Внутри было тихо – не пусто, как раньше, а спокойно. Так, как бывает после долгого, мучительного голода, когда наконец дают не крошку – целый хлеб.
Клер думала: если это сон, пусть он длится как можно дольше.
Утром они спустились в маленькую столовую отеля: кофе, тосты, немного джема. Еда почти не чувствовалась на вкус, но она вдруг поймала себя на том, что ей просто хорошо – сидеть напротив него, видеть, как он размешивает сахар, как улыбается уголками губ.
После завтрака Клер и Ахмет пошли к собору. Осенний свет падал на серый камень, витражи сверкали холодными красками. Стояли рядом, запрокинув головы, разглядывая арки, статуи, резьбу. Ахмет тихо говорил что-то про архитектуру.
Клер вспоминала, как в детстве приходила сюда с родителями. И вдруг поймала себя на том, что делится этим легко – будто он всегда был частью её прошлого.
Потом они вошли внутрь и сели на скамейку в полумраке.
Они молчали. Тишина между ними уже не пугала – в ней было какое-то спокойствие. Клер смотрела на его профиль в светлом пятне витража и думала, что могла бы сидеть так часами.
Дни проходили в прогулках по Шартру: по узким улочкам вокруг собора, мимо фахверковых домиков, вниз, к реке Эр и низким каменным мостикам. Ахмет расспрашивал её про детство, школу, друзей. Клер неожиданно для себя говорила о том, о чём годами молчала дома: о страхах, о том, как часто чувствовала себя лишней даже в собственной семье, о том, как ей казалось, что она живёт «не свою жизнь».
Он слушал её очень внимательно, иногда лишь кивая и чуть улыбаясь, словно подбадривая: «продолжай».
Порой они смеялись над чем угодно – над вывеской с нелепым рисунком, над его французскими оговорками, над тем, как он упрямо пытался выговорить название пирожного. В какой-то момент Клер поймала себя на том, что смеётся не «для кого-то», не ради вежливости, а просто потому, что ей весело.
По ночам маленькая комната превращалась в их вселенную.
За окном изредка проезжала машина, в коридоре глухо отзывались чужие шаги, но для неё существовало только его тёплое тело рядом.
Иногда Клер просыпалась на секунду, чувствуя его дыхание, и снова засыпала с одной мыслью: я жива.
Это время было горько-сладким.
Каждый миг был наполнен – их прогулками по мостовой, его горячими ладонями, тихими смешками в постели, обычными фразами вроде:
«Ты не замёрзла?»
«Я взял для тебя кофе».
Простые вещи вдруг стали драгоценными – потому что и они были запретными.
И всё время, даже когда она смеялась или просто прижималась к нему плечом, где-то под кожей звучала одна ясная мысль: это закончится. Очень скоро это закончится.
Может быть, поэтому она запоминала всё с такой жадностью: запах его кожи после душа, лёгкую хрипотцу в голосе к вечеру, маленький рубец на пальце, форму ключиц, вид из окна – крыши, антенны, бледное небо.
Так, будто пыталась выучить все наизусть.
В последнюю ночь, когда чемодан уже стоял собранным у стены, всё обострилось.
Шорох ткани и тихий скрип пола казались громче, чем обычно.
Они сидели на кровати, плечом к плечу, опершись о стену.
В комнате горела одна лампа у изголовья, её тёплый свет терялся в полумраке.
Клер смотрела на его профиль – знакомый до боли. Лампа выхватывала из темноты резкую линию скулы, тень от ресниц, знакомый изгиб губ. Тот же луч тянулся через край одеяла и освещал угол тумбочки.
Там, в лужице света, лежали два тонких конверта из фотостудии. Рядом, как братья-близнецы, готовые к разлуке.
Клер и Ахмет забрали их днём, не распечатывая. Просто взяли, кивнули фотографу – и всё. Молча положили в карманы – каждый свой. Завтра один уедет на восток, другой останется во Франции. А пока конверты лежали рядом в последний раз, почти касаясь друг друга, – последнее соприкосновение их общих дней.
– Клер… так больше нельзя, – тихо сказал Ахмет, не поворачивая головы. – Ты не можешь жить в двух мирах. Брось всё и поезжай со мной.
Она зажмурилась. Эти слова были слишком близко к тому, чего она боялась больше всего – и о чём мечтала сильнее всего.
– Не сейчас, – прошептала Клер. – Пожалуйста. Не в эту ночь. Давай хотя бы её не будем ломать.
Он замолчал, словно кто-то обрезал фразу на полуслове.
Клер осторожно обвела кончиком пальца линию его скулы, коснулась виска, кончика уха.
Ахмет закрыл глаза, будто от этого простого движения стало одновременно больно и хорошо. Он взял её руку, медленно поднёс к губам и поцеловал костяшки пальцев – один за другим, словно перебирал молитвенные чётки.
У неё в груди что-то дрогнуло и сорвалось с места.
– Останови ночь, – прошептала она, прижимаясь лбом к его щеке.
Он не ответил словами. Просто обнял чуть сильнее, прижал к себе так, будто хотел запомнить её форму, её вес, её дыхание.
Она повернулась к нему лицом, ладони легли ему на грудь – чувствовать, как под кожей бьётся сердце.
Несколько лет – письма, ожидание, осторожность – как будто собрались в ней в один-единственный порыв: сейчас. Без «потом», без «нельзя», без «что будет дальше».
Их губы встретились сами – не аккуратно, как в первый раз, а жадно, сбивчиво.
Она чувствовала его дыхание, вкус, едва слышный стон, который вырвался у него, когда она запустила пальцы в его волосы, притягивая ближе. Он отвечал ей так, словно всё это время жил на пол-оборота и только теперь позволил себе включиться до конца.
Её пальцы блуждали по горячей коже, от каждого прикосновения внутри поднималась волна тепла.
Ткань мешала. Клер рывком стянула рубашку – больше никаких преград.
Тело отзывалось на её движения слишком остро, почти болезненно – как если бы все чувства много лет держали под водой, а теперь отпустили. Она уже не понимала, где кончается страх и начинается желание; где заканчивается желание и начинается то самое чувство, которое она столько лет пыталась назвать иллюзией.
Когда они наконец затихли, запутавшись в простынях и дыхании, Клер лежала, прижавшись к его груди.
Он медленно водил ладонью по её плечу – туда-сюда, по знакомой траектории, как будто вычерчивал на коже невидимый знак.
Она слушала ровное, ещё чуть учащённое дыхание и думала, что её сердце давно уже подстроилось под его ритм.
– Скажи что-нибудь по-турецки, – попросила Клер вдруг. – Я всё равно не пойму.
Ахметусмехнулся, поцеловал её в висок и шепнул что-то мягкое, шуршащее, с гортанными звуками, которые она не могла повторить.
Но понимала и без перевода – по голосу, по дыханию, по тому, как крепче обняли руки.
– Что это было? – спросила она.
– Лучше не переводить, – тихо ответил он. – Пусть это останется между нами… и Аллахом.
Клерзасмеялась – тихо, коротко, как человек, который давно разучился смеяться в темноте, а теперь вдруг вспомнил, как это делается.
И в этом смехе было всё: счастье, страх, вина и благодарность за то, что хотя бы раз в жизни ей досталось вот это – целиком.
Утро всё равно наступило. Свет пробился сквозь занавески.
В номере пахло застоявшимся теплом, его кожей и чем-то ещё – еле уловимым, но таким явным: их ночью.
Клер смотрела на чемодан у двери и думала, что это самый жестокий предмет на земле.
Ахмет молча застёгивал рубашку, и этот простой бытовой жест внезапно показался ей непереносимым – слишком нормальным для того, что происходило внутри неё.
– Если хочешь, я провожу тебя до вокзала, – сказал он.
– А если я не хочу до вокзала? – попыталась улыбнуться она.
Ахметподошёл ближе, коснулся её лица.
– Тогда я пойду туда один, – мягко сказал он. – А поезд всё равно уйдёт, Клер.
Она кивнула. К горлу снова подступил знакомый ком – тот самый, что стоял там, когда она врала мужу.
Только теперь к вине добавилось ещё кое-что – отчётливая, почти физическая жажда не отпускать.
Когда они шли к вокзалу по утренним улицам Шартра, город казался другим. Менее сказочным, более реальным.
Мостовая под ногами была слишком твёрдой, небо – слишком светлым. Она шла, держась за его руку, и думала, что запомнит этот путь до последнего камня.
На платформе они стояли почти вплотную. Объявили её поезд.
Вокруг двигались люди: кто-то смеялся, кто-то спорил у кассы, кто-то доедал круассан на бегу – мир жил своей жизнью, в которой их встреча была лишь крошечной, никому не нужной подробностью.
– Напиши мне, когда приедешь, – попросил он.
– Ты тоже, – ответила она. – Только… не сегодня. Дай мне день… прийти в себя.
Он кивнул. Провёл пальцами по её щеке, по линии подбородка, коснулся губ – почти не поцеловал, лишь оставил на них свой тихий знак.
– Я подожду, – сказал Ахмет. – Я умею ждать. Ты же знаешь.
Она шагнула в вагон и, найдя своё место у окна, долго смотрела на платформу, пока поезд не тронулся.
Ахмет не махал ей рукой. Стоял на платформе, заложив руки в карманы, – и в этой неподвижности было что-то страшнее любых слов. Это был не жест прощания, а молчаливое подтверждение закона, по которому они жили: у каждого своя платформа, и поезд всегда уходит вовремя.
Только когда Шартр окончательно остался позади, а ровный стук колёс установил свой гипнотический ритм, Клер достала фотографию. Рассматривала её, пока лица на снимке не поплыли перед глазами от слёз. На фотографии были не просто двое, стоящие слишком близко. На бумаге была запечатлена правда: они – пара. Маленькая вселенная для двоих. И эта вселенная только что закончилась.
Слеза упала на уголок снимка, Клер поспешно вытерла её, но мокрое пятно осталось – маленькая круглая метка горя, уже вписанная в их общую историю. Она осторожно убрала фотографию во внутренний карман куртки – подальше от чужих глаз, ближе к сердцу.
На губах ещё держался его почти-поцелуй, на коже – прикосновения, в теле – отголосок ночи.
И вместе с этим – медленно, но настойчиво – уже возвращалась другая реальность: дом, дети, муж, кухня, уроки, почта.
Остались две жизни: та, где её ждали дома, и та, что уместилась в несколько дней. Вторая не была записана ни в одном календаре – только в её памяти и на маленькой фотографии, спрятанной у сердца.****
В кухне Энн воцарилась тишина.
Камила впервые оторвалась от своих мыслей и машинально посмотрела на стол. Чай в её чашке полностью остыл – тонкий ломтик лимона лежал неподвижно на поверхности. Она так ни разу и не сделала глотка.
Энн тоже перевела взгляд на чашки и едва заметно усмехнулась:
– Похоже, чай у нас сегодня совсем не задался, – мягко сказала Энн. – Давай-ка лучше перекусим. Я продолжу, но не на пустой желудок, – добавила она, заметив нетерпеливый жест дочери.
Камила молча кивнула. Теперь, когда рассказ на время оборвался, она вдруг почувствовала, как устало тело и как странно звенит в груди услышанное – Шартр, вокзал, чемодан у двери.
Энн поднялась, открыла холодильник, достала сыр, немного ветчины, банку оливок. Движения её были привычными, хозяйскими, но в них всё ещё чувствовалась та внутренняя сосредоточенность, с которой она только что вела дочь по чужой жизни.
Через пару минут на столе стояла простая закуска, хлеб, заново налитый чай. Они поели почти молча: нож стукал о тарелку, тикали часы.
– Ну?.. – первой не выдержала Камила, отодвигая тарелку. В её голосе смешались усталость и нетерпение. – Ты ведь не остановишься на этом?
Энн посмотрела на неё внимательно – чуть дольше, чем требовал обычный ответ.
– Нет, – тихо сказала она. – Это не конец истории. Дальше всё становится только сложнее.
Энн обхватила ладонями чашку, словно ей нужно было ещё немного тепла, чтобы вернуться в тот внутренний Шартр, где Клер уже сидела в поезде, а жизнь незаметно меняла линии её пути.
Глава 5. Приговор
На парижском вокзале шёл снег.
Не колючий, зимний, а мягкий, пушистый – первый снег, от которого город кажется чуть светлее. Снежинки кружились под жёлтым светом фонарей, медленно опускались на рельсы, на крыши поездов, на плечи спешащих людей.
Клер вышла из вагона на платформу, и холодный воздух коснулся лица. Пара снежинок растаяла на щеке – она ощутила влажные точки, но не прохладу. Внутри было куда холоднее.
На вокзале Клер встречали Адриан с девочками.
Он держал их за руки, и издалека они выглядели как одно пятно – три капюшона, прижатые друг к другу. Лицо у мужа было спокойным, даже довольным – видно, что он неплохо справился с ролью отца-одиночки.
Это спокойствие резануло её сильнее, чем любые упрёки.
Дочери, не замечая её внутренней бури, бросились к матери. Обняли сразу обе, прижались, заговорили наперебой:
– Мам, а мы ходили в зоопарк! А папа купил нам по два шарика мороженого! А ты скучала? Правда скучала?
Снег таял на их одежде, оставляя тёмные разводы на рукавах.
Клер наклонялась к ним по очереди и целовала в раскрасневшиеся от холода щёки.
В нос ударил влажный, тягучий запах мокрой шерсти шапок и шарфов.
– Конечно, скучала, – выдавила она. Губы будто онемели от этих слов.
И тут её ударила одна-единственная мысль: за все дни в Шартре, рядом с Ахметом, она ни разу по-настоящему о них не подумала.
Не то чтобы стерла из памяти – просто их мир отодвинулся куда-то в сторону, стал тихим фоном, пока она жила в другой, резкой и яркой реальности.
Лишь в ту последнюю ночь, когда Ахмет, уткнувшись лбом в её плечо, звал с собой, сквозь туман страха и желания всплыли два детских лица – Оливии и Люси.
А за ними – Адриан. Как ни крути, он всё равно был частью её жизни, сложенной по кусочкам за многие годы.
Клер слишком ясно чувствовала корни, вросшие в дом, в страну, в привычные маршруты. И остановила его.
«Не сейчас», – сказала она, откладывая решение, которого всё равно не избежать.
Вернувшись домой, Клер так и не смогла написать Ахмету. Несколько раз садилась за ноутбук, открывала почту, набирала первое предложение – и сразу чувствовала: не то. Слова получались чужими, неправильными, будто говорила не она.
Клер стирала написанное, захлопывала крышку и уходила, продолжая «писать» письмо у себя в голове – снова и снова. Там оно и оставалось.
Ахмет тоже молчал. Прошёл день. Второй. Третий. Тишина тянулась, как пауза перед чем-то неизбежным.
Письмо пришло только через неделю, на рассвете.
Клер проснулась раньше будильника – от странной тишины. Дом ещё спал. За окном падал редкий снег, по стеклу тянулись неровные влажные следы. Свет был молочным, расплывчатым.
Она включила ноутбук почти машинальным движением – проверить почту, как всегда.
Окно почты открылось. На экране вспыхнула надпись: «1 новое сообщение».
Сердце болезненно дёрнулось. Пальцы вдруг стали чужими.
Клер щёлкнула по письму.
Через секунду перед ней был текст – простой и предельно ясный:
Дорогая Клер,
Я очень долго не решался написать это письмо. Несколько раз начинал и удалял, потому что не хотел причинятьтебе боль.
Пожалуйста, знай: в том, что я сейчас скажу, нет ни упрёка, ни обиды на тебя.
Я тебя люблю. По-настоящему. И чувствую, что ты тоже любишь меня – по-своему, насколько можешь. Это остаётся для меня большим даром.
Наши письма и те несколько дней в Шартре стали самым светлым воспоминанием в моей жизни за последние годы. Я благодарен за них больше, чем могу выразить словами.
Но в какой-то момент понял: дальше так нельзя. Я больше не справляюсь с этой жизнью «наполовину».
Ожидание писем, украденные часы и дни, когда мысленно был рядом с тобой, а физически – в другом месте, перестали быть радостью. Всё это стало похоже на пытку. Я всё время между «быть рядом» и «не иметь права просить об этом».
Вижу, как много для тебя значит твоя семья. Я уважаю это.
Знаю, что ты не уйдёшь от них, и не имею права даже просить тебя об этом. Любая такая просьба стала бы для тебя тяжёлой ношей, а я не хочу класть её тебе на плечи.
Поэтому единственное честное решение для меня – отступить.
Я не могу больше писать тебе так, как прежде, будто мы просто друзья. Мне этого мало. Я хочу большего – и понимаю, что дать это ты не можешь, не предав саму себя.
Мне нужна ты. Вся. Не только в письмах и редких встречах. Я хотел бы видеть твои глаза по утрам, чувствовать твои волосы у себя на руке, слышать твой смех на кухне, засыпать рядом, зная, что завтра ты снова будешь здесь. Но для нас это невозможно – и в этом никто не виноват. Так сложилась наша жизнь.
Пойми меня и прости. Я ухожу не от тебя, а от той формы связи, которая делает несчастными нас обоих.
Пожалуйста, живи так, чтобы тебе было тихо и спокойно с собой. Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо.
Я буду за тебя молиться, как молятся за самого близкого человека.
И если когда-нибудь тебе действительно понадобится моя помощь – любая, – просто напиши. Я отвечу.
Твой Ахмет.
Клер застыла перед ноутбуком. Она понимала его слишком хорошо. Внутри не вспыхнуло ни протеста, ни удивления – только горькое, тихое согласие. Ей самой уже было мало этих строк, этой жизни «в переписке», тени вместо присутствия.
Пустота, которая разлилась внутри, не была похожа на удар – скорее на внезапно выключенный звук. В комнате всё оставалось на своих местах: те же стены, тот же стол, тот же ноутбук.
Снег ложился на крыши и на ветки деревьев во дворе, смешиваявсё в один бледный фон.
Внутри становилось так же бело и глухо. Тяжесть в груди не болела – просто мешала дышать.
То, по чему они столько лет осторожно ходили, – хрупкий мост между двумя жизнями – в одно утро перестал существовать.
Между ними осталась только узкая полоса выжженной земли, как след от костра, который когда-то пылал слишком ярко, а теперь засыпан тихим, равнодушным снегом.
***
– И это всё? – не выдержала Камила, и в её голосе прозвучало почти детское отчаяние. – Просто… взяли и перестали писать?
– На тот момент Клер не видела иного выхода, – мягко, но твёрдо ответила Энн. – Но наберись терпения. Это ещё не конец истории.