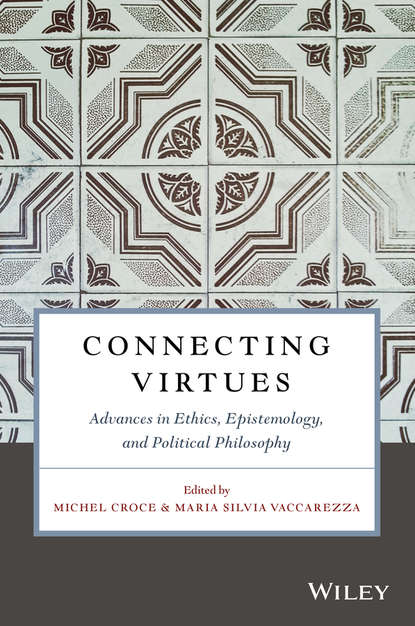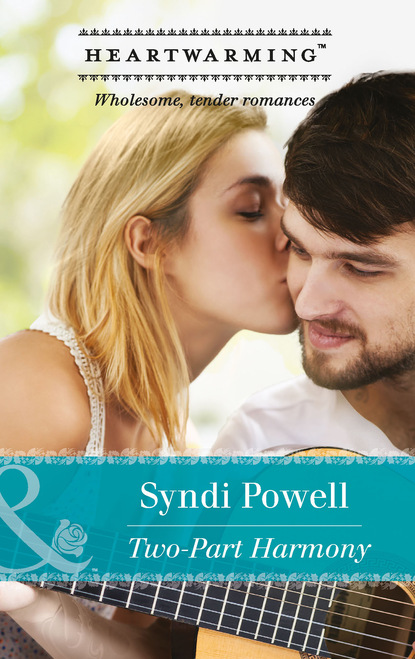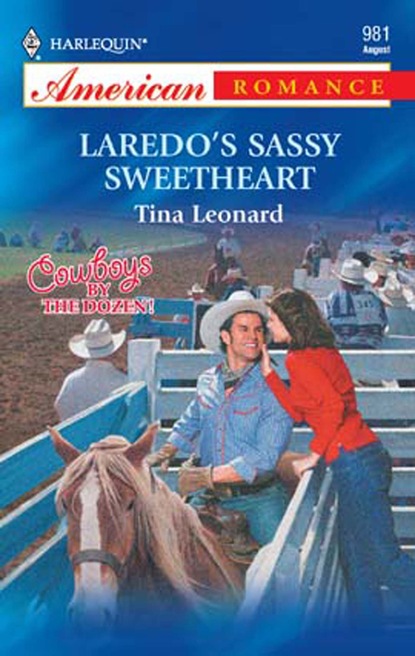Страшные истории. Часть 1

- -
- 100%
- +

ТЕНЬ ПОД КОЖЕЙ
Они нашли его в день, когда солнце стояло в зените, но лёд в его сердце не растаял.
Доктор Артем Семёнов, ведущий археолог экспедиции Института этнологии, стоял на краю раскопа, и его разум, вышколенный годами академической строгости, отчаянно сопротивлялся тому, что видели его глаза. Череп, извлечённый из вечной мерзлоты, был несомненно человеческим, но в нём было что-то решительно неправильное. Лобные и теменные кости были неестественно удлинены, будто тянулись к небу, образуя легкий, но отчетливый конус. Орбиты глазниц были слишком широкими, слишком круглыми, словно существо, которому они принадлежали, привыкло вбирать в себя весь свет мира. Но самое жуткое обнаружилось, когда студентка-практикантка Лиза аккуратно щеткой смахнула рыжую глину с челюсти.
«Доктор Семёнов, посмотрите, – её голос дрожал, не от холода. – У него… нет зубов».
Не было ни альвеол, ни следов кариеса или стачивания. Были лишь идеально ровные, сросшиеся десневые дуги, будто у новорожденного младенца, только в масштабе взрослого человека.
«Аборигены называли их «Те, Кто Вкушает Тишину», – прошептал позади него голос. Это был их проводник, старый эвенк Игорь Петрович. Его лицо, иссеченное морщинами, как карта забытых земель, было бесстрастно, но глаза, черные и глубокие, как проруби в темной воде, выдавали первобытный ужас. – Они не ели плоти. Они не пили воду. Они вкушали сны. И сны вкушали их».
Артем фыркнул, пытаясь вернуть себе почву рационального под ногами. «Мифология. Поэтическая метафора первобытного сознания».
Игорь Петрович только покачал головой, его взгляд скользнул по черепу, затем по лицам членов экспедиции, задержавшись на секунду дольше на каждом. «Метафора – это когда знаешь, что это не так. Они знали, что это так. И если вы разбудили тень, она захочет утолить голод».
В тот вечер, когда багровое заполярное солнце только коснулось горизонта, Артем сидел в своей палатке, вертя в руках череп. Лампа отбрасывала дрожащие тени, и ему вдруг показалось – нет, почудилось – что пустые глазницы следят за его пером, которым он делал записи в полевом дневнике. Он положил находку в пластиковый контейнер, щелкнул защелками, но чувство наблюдающего присутствия не исчезло. Оно висело в спертом воздухе палатки, густом, как сукровица.
А ночью ему приснился первый сон.
Он стоял в центре круга из таких же конусоголовых существ, но они были одеты не в звериные шкуры, а в нечто, напоминающее струящийся туман, застывший в форме балахонов. Они не двигались. Не дышали. Они просто смотрели на него. И во сне Артем понял, что смотреть можно не только глазами. Они смотрели на него его же воспоминаниями: запахом первой любви, горечью отцовских похорон, острым восторгом от первой научной публикации. Они пробовали их на вкус. И он, Артем, чувствовал, как эти воспоминания истончаются, бледнеют, становятся чужими.
Он проснулся с криком, в холодном поту. Палатка была залита странным, фосфоресцирующим светом полярного сияния. На внутренней стороне брезента, прямо напротив его лица, кто-то вывел тонким инеем три символа: круг, внутри которого была спираль, а из центра спирали росло нечто, похожее на кривое древо. Иней таял даже в морозном воздухе, оставляя влажные потёки, будто слезы.
Он выскочил наружу. Лагерь спал. Только у палатки Лизы горел свет. Подойдя ближе, он заглянул в узкое окошко. Девушка сидела на раскладушке, спиной к нему, и что-то монотонно чертила в своём блокноте. Страницу за страницей. Все тот же знак: круг, спираль, древо.
Артем постучал, вошел. Лиза обернулась. Её обычно живые глаза были пусты и стеклянны, как у той рыбы, что замерзает в толще льда.
«Он объясняет, – её голос звучал механически. – Он говорит, что мы едим не тем ртом. Мы кричим в пустоту, а надо… слушать тишину. Вкушать её».
«Кто говорит, Лиза?»
Она улыбнулась, и эта улыбка была неестественно широкой, растягивающей губы до болезненного предела.
«Тот, Кто Ждал. Он в земле. Он в костях. Он уже в нас».
И тогда Артем заметил, что её собственные зубы, ровные и белые, казались чуть более… сглаженными. Будто их аккуратно сточили.
Когнитивный диссонанс, та самая трещина в фундаменте реальности, разверзлась под ним с сейсмическим гулом. Учёный в нём кричал об массовой истерии, отравлении угарным газом, воздействии магнитных бурь. Но человек, простой, животный человек, смотрел в пустые глаза студентки и видел в них ту же бездну, что и в глазницах черепа. И понимал, что Игорь Петрович был прав.
Они разбудили тень. И теперь она смотрела на них изнутри.
Игорь Петрович исчез на рассвете. Оставил у потухшего костра связку сушеной рыбы и свой старый нож в потёртых ножнах. Больше – ничего. Ни записки, ни следов. Словно растворился в холодном воздухе тундры.
«Сбежал, – бурчал бородатый геолог Вадим, наливая себе крепчайшего кофе. – Напугали его ваши костяшки. Суеверный народ».
Но Артем видел, как дрожат руки у Вадима, когда тот подносит кружку к губам. И как он второй день избегает смотреть на контейнер с находками.
Лиза вела себя нормально. Слишком нормально. Она завтракала, помогала упаковывать образцы, шутила с другими практикантами. Но её смех был чуть громче обычного, а глаза, блестящие и быстрые, постоянно что-то искали по периметру лагеря, будто выверяя границы невидимой клетки. И она никогда не смотрела прямо на череп.
Артем принял решение. Они сворачивают экспедицию. Научное открытие меркло перед растущей, необъяснимой угрозой. Он связался по спутниковому телефону с институтом, сообщил о необходимости срочной эвакуации по «медицинским показаниям». Директор бубнил что-то о деньгах и сроках, но в голосе Артема звучала такая беспримесная сталь, что тот сдался. Вертолёт должен был прибыть через двое суток.
Эти двое суток стали для лагеря временем тихого, ползучего распада.
На второй день пропал Борис, опытный радист. Его нашли в километре от лагеря, сидящим на корточках посреди голой тундры. Он голыми руками рыл мерзлую землю, содрав ногти до мяса. На вопрос «что ты делаешь?» он ответил, не оборачиваясь, тонким, детским голосом: «Ищу свои молочные. Они должны прорасти. Он обещал».
Его увели, забинтовали руки. Он покорно позволял всё, но непрестанно что-то жевал. Его челюсти двигались медленно, ритмично, хотя во рту не было ни крошки. Вечером Артем застал его в палатке-лазарете. Борис смотрел в потолок и на выдохе выпускал в холодный воздух странные, сложные узоры из пара. Не кольца, а те самые знаки: круги, спирали, древовидные ответвления. Они висели секунду, прежде чем раствориться.
Страх перестал быть острым. Он стал фоном, тягучим и плотным, как смола. Он въелся в кожу, вбился под ногти, скрипел на зубах вместе с песчинками полярного ветра. Люди перестали разговаривать. Они перешептывались. Их взгляды скользили друг по другу, выискивая признаки перемены: слишком пристальный взгляд, странную улыбку, тихое бессмысленное бормотание.
Антагонист не был монстром из плоти. Он был идеей. Вирусом сознания. Передавался он не через укус или воздух, а через сам акт наблюдения, через понимание. Увидеть знак – значит дать ему возможность укорениться. Понять его смысл (или почувствовать его бездонную чуждость) – значит открыть дверь. Зло было когнитивной наркотой, и первый укол они получили, вглядевшись в пустые глазницы черепа.
Накануне прилёта вертолёта Артем не выдержал. Он взял контейнер и один, без фонарика, под свет звёзд и бледной луны, пошёл к раскопу. Он собирался вернуть череп туда, откуда тот был извлечён. Закопать. Забыть. Пусть вечная мерзлота хранит свои секреты.
Яма в земле зияла чернотой, словной вход в глотку планеты. Артем спустился по верёвке. Холод, идущий от стен, был не просто отсутствием тепла. Он был активным, враждебным, пожирающим. Артем открыл контейнер, вынул череп. И в лунном свете, падающем сверху, он наконец увидел то, что упустили при дневном освещении.
На внутренней стороне черепной коробки, там, где должен был помещаться мозг, тончайшей резьбой был нанесён тот самый лабиринт из линий. Это не было гравировкой в привычном смысле. Кость была изменена изнутри, будто некий росток пророс сквозь неё, оставив после себя эти ходы. Узор был невероятно сложен, фрактален. Вглядевшись, Артем понял, что видит карту. Но не местности. Карту нейронных связей. Схему сознания. Или ловушки для него.
«Это не череп, – осенило его с леденящей ясностью. – Это семя. И мы его посадили».
Из темноты раскопа, из щелей в мерзлоте, послышался шепот. Не голос, а его подобие, звук трения крыльев моли о стекло. Он складывался в слова на языке, которого Артем не знал, но понимал всем своим нутром.
«Голод… так долго… спал… ты принёс мне пищу… ты сам…»
Артем отшатнулся, череп выпал у него из рук и с глухим стуком покатился по глиняному полу. Он не разбился. Он остановился у стены, и его глазницы, казалось, поймали лунный луч и направили его вглубь ниши, которую они раньше не заметили.
Там, в нише, сидел Он.
Его фигура была человеческой, но нечеловечески худой, обтянутой кожей цвета старого пергамента, просвечивающей над причудливыми изгибами костей. Его голова была тем самым конусом, но живым, увенчанным седыми, спутанными прядями волос. Его лицо… на нём не было глаз. Там, где должны были быть глазницы, кожа была гладкой и натянутой. Но он смотрел. Весь его облик был взглядом. А где должен был быть рот, зияла впадина с гладкими, сросшимися краями.
Существо подняло длинную, костлявую руку и провело пальцем по воздуху перед собой. На морозе застыл сложный инейный узор.
«Мы учились вкушать иначе… – шепот вился в костях Артема. – Плоть груба… сны чисты… страх… самый насыщенный вкус… ваш страх сейчас… это пир…»
Артем хотел закричать, но его горло было сжато невидимым обручем. Он хотел бежать, но ноги стали ватными. Он мог только смотреть, как существо поднимается с каменного трона, и его движения подобны пауку, выходящему из воронки.
«Я спал… ждал новых снов… вы принесли их… вы – сны, которые снятся друг другу… такая сложность… такой вкус…»
Палец, длинный и сухой, как ветка, протянулся к лицу Артема. Он чувствовал леденящий холод, исходящий от него, за сантиметр до своего лба.
И в этот момент сверху раздался крик. «Артем! Доктор! Где вы?!»
Голос Лизы. Наполненный настоящим, человеческим страхом.
Иллюзия рухнула. Существо отпрянуло, его слепое лицо повернулось к источнику звука с выражением… нет, не злости. Любопытства. Гастрономического интереса.
Артем, воспользовавшись мгновением, рванул за верёвку. Он карабкался наверх, не чувствуя рук, слыша снизу не шепот, а тихий, сухой смешок, похожий на шелест сухих листьев.
Он вывалился из ямы и побежал к лагерю, не оглядываясь. За спиной чёрный раскоп дышал тишиной, которая была громче любого крика.
Вертолёт был уже близко. Его далекий стук разрывал мертвый воздух тундры, звучал спасением.
Лагерь представлял собой сюрреалистическую картину. Люди метались, собирая вещи, но делали это молча, механически. Их лица были масками ужаса. Вадим сидел на ящике из-под снаряжения и плакал, беззвучно, по-мужски, крупные слёзы катились по щетине. Бориса держали двое практикантов – он вырывался, уставившись в небо, и беззвучно шептал что-то, облизывая свои окровавленные, лишённые ногтей пальцы.
Лиза стояла у выхода из своей палатки, сжимая в руках маленькое зеркальце. Увидев Артема, она подошла.
«Он у меня во рту, – сказала она просто, без эмоций. – Я чувствую, как он растёт».
«Кто?»
«Мой новый зуб. Он гладкий. И он… звонит. Тихим-тихим звоном. Как колокольчик под водой». Она открыла рот. И Артем увидел. На месте одного из верхних коренных зубов был… нарост. Гладкий, цвета слоновой кости, чуть заострённый. Он не был похож на зуб. Он был похож на крошечный, свернутый в раковину, вариант того знака. Спираль.
«Он придёт за нами, – сказала Лиза, закрывая рот. – Не в теле. Он в тишине между нашими мыслями. Он в том, о чём мы боимся подумать».
Вертолёт приземлился, поднимая вихри снега. Пилот, краснощекий детина, весело крикнул: «Погрузка, быстрее! Погода портится!»
Люди бросились к машине, запихивая вещи в грузовой отсек. Артем помогал втаскивать Бориса, который вдруг обмяк и стал податливым, как тряпичная кукла. Последним взглядом Артем окинул лагерь: покосившиеся палатки, потухший костёр, чёрную дыру раскопа вдалеке. Он чувствовал, как из той дыры на них смотрит что-то древнее и голодное. Он схватил контейнер с черепом (он всё же взял его с собой, теперь это было доказательство, улика) и прыгнул в вертолёт.
Лопасти завертелись быстрее, машина оторвалась от земли. Артем прильнул к иллюминатору. Лагерь уменьшался, превращаясь в игрушечный. И тогда он Его увидел.
Оно стояло на краю раскопа. Одинокое, высокое, в струящихся туманных одеждах. Его слепое лицо было поднято к небу, к улетающему вертолёту. Оно не махало руками. Не делало угрожающих жестов. Оно просто стояло. И Артему показалось, что расстояние не имеет значения. Что этот взгляд, безглазый и всевидящий, уже здесь, в салоне, скользит по его затылку, по его вискам, ищет лазейку.
Потом фигура медленно подняла руку и провела пальцем по горизонтали перед своим… ртом? Нет, перед той впадиной, где должен был быть рот. Жест был однозначным и ужасающим: тише. Тише.
Затем существо развернулось и шагнуло в чёрный раскоп, словно вода, уходящая в песок.
Артем откинулся на сиденье, закрыл глаза. Сердце колотилось где-то в горле. Они улетали. Они спаслись. Рациональное начало в нём цеплялось за эту мысль, как за спасательный круг. Но глубоко внутри, в том тёмном подвале сознания, где живут первобытные страхи, что-то знало. Это был не побег. Это была отсрочка.
В городе, в своей уютной, заваленной книгами квартире, Артем пытался вернуться к жизни. Он сдал образцы в институт, написал предварительный отчёт, умолчав о самом главном. Он объяснил странное поведение команды тяжёлыми полевыми условиями и «полярным психозом». Директор хмыкал, но закрыл тему. Наука не любит рассказов о слепых сновидцах, питающихся страхом.
Но город уже не был прежним. Он был полон щелей.
Артем ловил себя на том, что видит узоры там, где их нет: в прожилках мрамора на полу метро, в трещинах на асфальте, в пенке на кофе. Спирали, круги, древовидные ответвления. Они мерцали на секунду и исчезали, оставляя послевкусие паники.
Ему начали сниться сны. Не такие яркие, как в тундре, но оттого более пронзительные. Он стоял в толпе людей на улице, и вдруг все они разом оборачивались к нему. У них не было лиц. Только гладкая кожа, а на месте ртов – те самые знаки, выжженные, как клеймо. И во сне он понимал, что это не угроза. Это – приглашение. Присоединиться. Перестать быть одиноким сном и стать частью общего, безликого Сновидения.
Он проснулся среди ночи от тихого скрежета. Звук шёл из кухни. Артем крадучись подошёл и заглянул в дверь.
На столе при свете уличного фонаря сидела Лиза. Она не должна была быть здесь. У неё была своя квартира в другом конце города. Но вот она, в его кухне, в его ночной рубашке. Перед ней лежал ряд белых, аккуратных объектов. Зубы. Её собственные зубы, вырванные или выпавшие. Она брала их один за другим и наждачной бумагой, медленно, тщательно, стачивала до гладких, округлых форм. Скрип был тем самым звуком.
«Лиза… – прошептал Артем.**
Она повернулась к нему. Её лицо было бледным, но спокойным. Во рту зияли чёрные дыры, и только один «зуб» – та самая спираль – белел среди них.
«Он голоден, Артем. Город шумный. Много снов, но они все грязные, быстрые, несфокусированные. Как фастфуд. Ему нужна… кухня. Повар. Чтобы готовить сны правильно. Чтобы очищать их от шума».
«Кто? Кому нужна кухня?»
«Тому, Кто Ждал. Он выбрал тебя. Он в твоих мыслях о нём. Чем больше ты боишься, чем больше пытаешься понять, тем сильнее он здесь». Она ткнула пальцем себе в висок, потом – в лоб Артема.
«Уходи, Лиза. Это больница. Завтра же…»
Она улыбнулась беззубым ртом, жуткой, младенческой улыбкой. «Не я пришла. Ты меня позвал. Во сне. Ты хотел, чтобы кто-то был рядом. Чтобы не быть одному со своим страхом. Страх вкуснее, когда им делятся».
Она встала, собрала свои сточенные зубы в ладонь, как драгоценные камни, и вышла в прихожую. Артем не стал её останавливать. Он слышал, как щеколда тихо clicked. Он остался один. Но одиночество это было обманчивым. Он чувствовал присутствие. Оно не было в углах комнаты. Оно было в углах его разума. В промежутках между мыслями. Тихий, внимательный, голодный наблюдатель.
На следующий день Артем пошёл в институтский архив. Он искал любые упоминания, любые параллели. И нашёл. В отчёте полузабытой экспедиции 1930-х годов на Таймыр. Жёлтые страницы, выцветшие чернила. Учёный-энтузиаст описывал находку «аномального захоронения» и контакт с местным шаманом, который говорил почти слово в слово то же, что и Игорь Петрович: «Они не ушли. Они уснули в костях земли. И ждут, когда шум в головах людей стихнет, чтобы снова начать Пир Безмолвия». Отчёт был помечен грифом «Не подтверждено». Рядом лежала фотография: группа людей в меховых комбинезонах на фоне палатки. Все они улыбались. И у всех у них, если приглядеться, были странно сглаженные, почти десеновидные контуры ртов. Фотография была подписана: «Последний снимок перед выходом на маршрут. Связь прервалась 12.09.1938».
Артем отшвырнул папку. Его тошнило. Это не было локальной аномалией. Это была… эпидемиология. Древняя, медленная, циклическая. Паразит, питающийся не телами, а самой тканью человеческого сознания, его страхами и снами. И он, Артем, стал нулевым пациентом в новой вспышке.
Он вернулся домой и взял контейнер с черепом. Он вынул его и поставил на стол. В свете настольной лампы кость казалась теплой, почти живой.
«Чего ты хочешь? – прошептал Артем. – Чего?»
И тут он понял. Понятнее, чем когда-либо. Он не задавал вопрос. Он предлагал его. Он протягивал пищу. Свой страх перед неизвестностью, своё отчаяние, свою потребность понять.
В воздухе перед черепом дрогнула струйка тепла от батареи. И сложилась в знак. Не инейный, а из дрожащего, тёплого воздуха. Круг. Спираль. Древо.
А потом, в тишине комнаты, раздался звук. Тихий-тихий звон. Как колокольчик под водой. Он шёл от черепа. От его зубов… нет, от его беззубых десен.
Звон был голодом. И он был направлен на Артема.
Распад ускорился. Но не в нём. Вокруг.
Вадим, геолог, выбросился из окна своей мастерской на девятом этаже. В предсмертной записке, написанной детским почерком, было одно слово: «Тихо». Бориса нашли в психиатрической лечебнице. Он часами мог сидеть, уставившись в стену, и на выдохе создавать в воздухе сложные, устойчивые узоры из пара, которые не рассеивались минутами. Медсестры боялись заходить к нему. Практиканты разъехались, но Артем слышал слухи: у одного началась кататония, другой безостановочно рисовал в записных книжках лабиринты, третий… исчез.
Лиза стала его тенью. Она появлялась в его квартире без приглашения, молчала, смотрела. Её беззубый рот постепенно менялся. Края дёсен начали срастаться, образуя ту самую гладкую впадину. Она почти перестала есть. Пила только воду, и то по капле. Она говорила, что «питается иначе».
Артем перестал спать. Снотворное не действовало. Каждый раз, когда он начинал проваливаться в забытьё, он чувствовал, как его сознание начинает растекаться, как пятно, и из темноты проявляется Оно – Тот, Кто Ждал – и начинает пить его, всасывать, как нектар. Он бодрствовал, доведённый до состояния животного измождения, и череп на столе звенел для него всё громче. Теперь этот звон слышал только он.
Однажды ночью, в лихорадочном бреду от недосыпа, он наткнулся в интернете на форум маргинальных исследователей. Там обсуждали «феномен сросшихся десен» в контексте неких «эволюционных скачков» и «телепатических культур». И он увидел фото. Нечёткое, сделанное, видимо, скрытой камерой. Подземное помещение, похожее на бункер. И в нём – люди. Десятки людей. Они сидели в круге, склонив головы. У всех были гладкие, лишённые ртов лица. А в центре круга, на каменном постаменте, лежал предмет, отдалённо напоминающий череп. Подпись: «Община Нового Безмолвия. Штат Орегон. Снимок 2019. После рейда община рассеялась».
Его теория о локальной аномалии рухнула окончательно. Это была пандемия. Древняя, спорадическая, незаметная. Культ не был религией в человеческом понимании. Это был симбиоз. Или паразитизм высшего порядка. Существо, или существа, питались психической энергией, экстрактом снов и страхов. А люди… что получали люди? Избавление от шума? От мук выбора, от боли самоосознания, от ужаса одиночества? Они становились частью целого, безликого, вечного Сновидения. Их индивидуальность растворялась, как сахар в воде, питая хозяина.
Артем сидел перед черепом, и его охватило не отчаяние, а холодная, клиническая ярость. Он не хотел растворяться. Он не хотел становиться пищей. Он был учёным. Даже если предмет изучения пытался съесть его разум, он должен был документировать.
Он взял хирургическую пилу (приобретённую бог знает зачем неделю назад) и подошёл к черепу. Его рука не дрожала.
«Ты хочешь мои сны? – сказал он вслух. – Получишь. Самый страшный сон учёного – не найти ответа. Вот он. Лови».
И он вонзил пилу в теменную кость.
Раздался звук, от которого Артем чуть не выронил инструмент. Это был не скрежет по кости. Это был крик. Немой, пронзительный, звучащий прямо в его черепе, вибрирующий в зубах. Это был звук чистейшей, невыразимой агонии. Не физической. Метафизической.
Из пропила хлынул не прах, не труха. Полился густой, серебристый, мерцающий туман. Он стелился по столу, переливался, в нём плавали искры, похожие на миниатюрные звёзды. Это были сны. Сны того народа. Сны, которые они собрали за тысячелетия. И теперь они вырывались на свободу.
В тумане замелькали образы. Древние тундры, мамонты, стада оленей, люди с копьями… но всё это было призрачно, нереально. Потом образы сменились. Он увидел лица членов экспедиции: испуг Лизы, пустоту Бориса, панику Вадима. Увидел самого себя в палатке, в вертолёте, здесь, у стола. Он видел свои собственные страхи, вывернутые наизнанку и парящие в этом серебристом тумане, как рыбы в аквариуме.
И посреди этого вихря воспоминаний и снов он увидел Его. Того, Кто Ждал. Но теперь оно было не грозным. Оно было… раненым. Его фигура дрожала, расползалась, как клякса в воде. Безглазая голова была запрокинута в немом крике. Оно питалось снами, а теперь его собственная «пища», его сущность, утекала в мир, растворяясь в нём.
«Стоп… – прошептал голос в голове Артема, но теперь он был слабым, прерывивым. – Я… есть… страх твой… без меня… ты один… со всей своей… пустотой…»
«Я принимаю, – сквозь стиснутые зубы сказал Артем. – Лучше пустота, чем быть твоей едой».
Он провёл пилой ещё раз, расширяя трещину. Крик в его сознании достиг пика и оборвался. Серебристый туман хлынул с новой силой, залил комнату, на мгновение скрыв всё из виду. Артем почувствовал головокружение, его накрыло волной чужих воспоминаний, чужих жизней, древнего ужаса и древнего покоя. Он потерял сознание.
Очнулся он на полу. В комнате было светло – утро. Туман исчез. На столе лежал расколотый череп. Теперь это была просто кость, древняя и безжизненная. Не было ни звонов, ни ощущения присутствия. Тишина была обычной, бытовой, наполненной отдалённым гулом города.
Артем поднялся. Он чувствовал странную лёгкость. Как будто из его головы вынули раскалённый гвоздь, который сидел там неделями. Страх ушёл. Но ушло и что-то ещё. Острота восприятия, может быть. Чувство постоянного ожидания. Осталась лишь глубокая, костная усталость.
Он вышел из квартиры. Город кипел своей жизнью. Люди спешили на работу, разговаривали по телефону, смеялись. Никаких знаков на асфальте. Никаких безликих людей. Всё было нормально. Слишком нормально.
Он зашёл в кафе, заказал кофе. Впервые за много дней он почувствовал голод. Настоящий, физический. Он съел круассан, и он показался ему невероятно вкусным. Простым и ясным.
Лиза нашла его сама. Она сидела на его диване, когда он вернулся. Её лицо было опустошённым, потерянным. Сросшиеся десны больше не выглядели чуждыми – они казались уродливым шрамом. Спиральный «зуб» выпал, оставив после себя обычную дыру.
«Он ушёл, – сказала она тупо. – Звон прекратился. Во мне… тихо. Пусто».
«Он питался нашим страхом, Лиз, – сказал Артем, и его голос прозвучал грубо в этой новой тишине. – Когда нечего бояться… он голодает. Когда ему наносят рану… он отступает».
«А что теперь?» – в её голосе была детская растерянность.
«Теперь мы живём. С нашими шумными, неидеальными, человеческими головами».