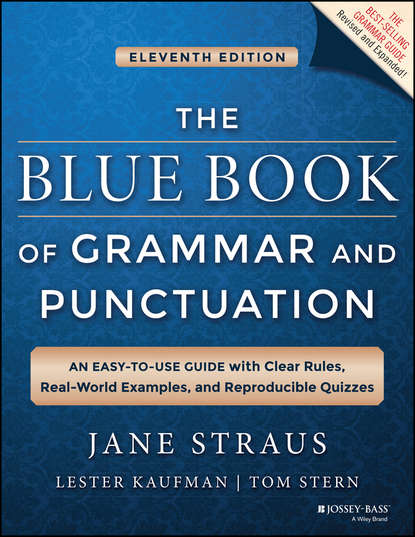Страшные рассказы. Часть 1
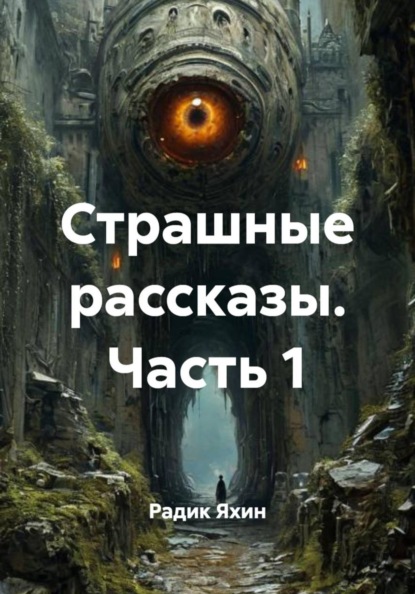
- -
- 100%
- +

ТЁМНЫЕ ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Дым от факелов стелился по склепу, как души непогребённых грешников. Брат Амвросий поднял руку, и тяжелая цепь удерживающая мальчишку-вора, звякнула о сырой камень. Толпа замерла. Они пришли за искуплением, за зрелищем, за подтверждением, что мир всё ещё стоит на костях праведников. Амвросий давал им и то, и другое, и третье.
– Господь видит твою скверну, дитя! – его голос, низкий и натренированный, заполнил подземелье, ударившись о своды и вернувшись многоголосым эхом. – Но милосердие Его безгранично!
Мальчик всхлипывал, прижимая к груди обожжённые плетью ладони. Амвросий чувствовал знакомый трепет – не веры, а власти. Он был режиссёром этой древней драмы, где боль становилась билетом в рай. Он верил в это. Он должен был верить. Иначе зачем он держал в руках этот окровавленный плеть?
Но сегодня что-то было не так. Воздух в склепе, всегда насыщенный запахом плесени, пота и страха, приобрёл новый оттенок – сладковатый, гнилостный, как мёд на разлагающемся мясе. Лучины горели как-то вяло, будто свет боялся рассеять сгущающуюся тьму. А когда Амвросий занёс плеть для последнего, очищающего удара, он увидел тень.
Она была не от чего-то. Она была чем-то. Длинная, несоразмерно тощая, она скользнула по стене напротив, не совпадая с контурами ни одного из присутствующих. На мгновение ему показалось, что у тени было слишком много суставов на руках, которые тянулись к мальчику не с угрозой, а с… любопытством? Голодом?
Удар сорвался, пришёлся мимо, со свистом рассекая воздух. Толпа ахнула. Амвросий, смущённый, поспешил объявить искупление завершённым. Когда цепь сняли, мальчик рухнул на пол. И тогда брат Амвросий, наклоняясь, чтобы помочь ему подняться, увидел на запястье ребёнка отметину. Не синяк от железа. Не царапину. А идеально круглое, чернее сажи пятно, из которого, будто волоски, расходились тончайшие трещинки. Оно пульсировало.
С этого момента когнитивный диссонанс, та тихая трещина в фундаменте его веры, начала раскалываться. В его стройной вселенной, где зло было понятным, описуемым и наказуемым, появилась аномалия. Нечто, что не вписывалось ни в «Summa Daemoniaca», ни в протоколы инквизиции. Нечто, что наблюдало.
Деревня Нойендорф, куда Амвросия прислали расследовать «происки дьявольские», оказалась не просто ещё одним очагом суеверий. Она была раной на теле земли. Дома, сложенные из почерневшего от времени камня, жались друг к другу, будто пытаясь согреться. Люди смотрели исподлобья, их глаза были пусты, как колодцы в засуху. И тишина. Давящая, густая, нарушаемая только карканьем ворон и скрипом мельничных крыльев, которые крутились даже в полный штиль.
Местный священник, отец Готтфрид, был похож на высохшую мумию. Его кабинет в церковной пристройке был завален трактатами по алхимии и анатомии, что уже было ересью.
– Это не демон, брат Амвросий, – прошептал он, хватая инквизитора за рукав костлявыми пальцами. – Демоны – это личности. У них иерархия, имена, амбиции. Это… другое. Оно старше. Оно не искушает. Оно просто потребляет.
Он рассказал о «Чёрной метке». Она появлялась на одном из жителей раз в поколение. Сначала как маленькое пятнышко. Затем росла. А вместе с ней росли кошмары. Люди начинали видеть то, чего не могли видеть другие: тени, которые двигались сами по себе, шёпот из-под земли, лица в узорах древесины. А потом наступала «Жатва». Отмеченный исчезал. Исчезал без следа, часто при странных обстоятельствах: растворялся в тумане, уходил в лес и не возвращался, или его находили… пустым. Тело цело, душа нет. Взгляд – стеклянный, будто изнутри всё выскоблили.
– А как церковь? – спросил Амвросий, чувствуя, как привычная почва догматов уходит из-под ног.
– Присылала. Как и вы. Одни сгорали на костре за колдовство. Другие… становились частью тишины.
Амвросий вышел на улицу. Солнце садилось, окрашивая небо в багровые тона. Он увидел девочку, которая рисовала палкой на земле. Подошёл. Рисунок был простым и оттого леденящим: фигурка человека, а вокруг неё, смыкаясь, множество щупалец или ветвей. И над всем этим – огромный, всевидящий глаз.
– Что это? – мягко спросил он.
Девочка посмотрела на него. В её глазах не было детской наивности. Была древняя, усталая мудрость.
– Эхо, – просто сказала она. – Оно голодное. Оно просыпается.
На следующий день пропала дочь мельника. И её брат, мальчик лет десяти, с истерикой рассказал, как они играли у края Чёрного Леса, и из чащи вышла «тётя с длинными-длинными руками и лицом, как у луны». «Тётя» позвала девочку, и та, как во сне, пошла за ней. Мальчик попытался удержать сестру, и тогда «тётя» повернулась к нему. Лицо её не было лицом. Это была гладкая, без глаз, носа и рта, маска, на которой плавали, как масло на воде, обрывки чужих черт: чей-то синий глаз здесь, кривая улыбка там.
Амвросий организовал поиски. Лес встретил их не птичьим гомоном, а глухой, зловещей тишиной. Воздух был тяжёл и сладок тем же тленным запахом. Деревья, покрытые странными шарообразными наростами, напоминали застывшие в агонии фигуры. Напряжение нарастало с каждым шагом. Каждый шорох, каждый треск сучка заставлял людей вздрагивать и сжимать оружие. Они шли не как спасатели, а как добыча, чувствующая на себе взгляд невидимого хищника.
Именно Амвросий нашёл лоскут от платья девочки. Он висел на шипе терновника, слишком высоко, чтобы ребёнок мог его зацепить. Рядом, на мягкой земле, был отпечаток. Не ноги человека или зверя. Это было нечто воронкообразное, с радиальными бороздами, будто в землю ввинчивали гигантский штопор.
Сердце Амвросия бешено заколотилось. Его рациональный ум, отточенный годами борьбы с понятным, осязаемым злом, отказался воспринимать эту evidence. Это был когнитивный диссонанс в чистом виде: неопровержимый факт, разрушающий всю систему координат. Зло было не духовным, а почти физическим, но при этом абсолютно чуждым, непознаваемым.
Они углубились в чащу и нашли девочку. Вернее, то, что от неё осталось. Она сидела, прислонившись к дереву. Живая. Дышащая. Но её глаза… В них не было ничего. Ни страха, ни осознания, ни души. Просто две влажные, блестящие пуговицы. А на её шее, поднимаясь к виску, расцветала сложная, словно паутина, чёрная метка. Она пульсировала в такт слабому дыханию.
И тогда Амвросий услышал Шёпот. Не ушами. Внутри черепа. Это был не язык, а поток образов, эмоций, воспоминаний, не принадлежавших ему. Вспышка: он – крестьянин, бегущий от солдат, нога попадает в яму, хруст кости, тьма. Ещё вспышка: он – женщина, в родах, невыносимая боль и щёлкающий звук. Ещё и ещё – обрывки сотен смертей, сотен страданий, похороненных в этой земле. Лес помнил. И Эхо было его памятью, голодной, искажённой и жаждущей новой плоти, чтобы чувствовать, новой боли, чтобы питаться.
– Бегите! – закричал Амвросий, но его голос потонул в нарастающем гуле, будто под землёй пробудился улей. Тени вокруг зашевелились, оторвались от стволов, потянулись к людям щупальцами тьмы. Началась паника. Кто-то упал, и его моментально окутала чёрная масса. Его крик обрывался не сразу, а словно таял, растворяясь в общем гуле.
Амвросий, подхватив пустую оболочку девочки на руки, побежал, не разбирая дороги. За ним гналось само Лесное Эхо – не существо, а явление, атмосферный ужас, превращающий знакомый мир во враждебный и безумный. Он чувствовал его холодное дыхание на шее, слышал шепчущие голоса погибших, звавших его остаться. Это был первобытный страх – страх быть поглощённым, растворённым, стёртым без следа.
Деревня погрузилась в парализующий ужас. Амвросий заперся в церкви с пустой девочкой и умирающим от страха отцом Готтфридом. Старый священник, кашляя кровью, открыл последнюю тайну. Под алтарём, в дохристианском склепе, хранился «Якорь». Не артефакт, а место силы. Древние, те, что поклонялись камням и духам земли, знали об Эхе. Они не боролись с ним. Они договаривались. Раз в поколение они отдавали ему одного из своих – отмеченного. Это была жертва, чтобы утолить голод памяти земли.
– Церковь построили здесь, чтобы запечатать склеп, – хрипел Готтфрид. – Думали, крест и молитвы сильнее. Они лишь усыпили Его. Но голод никуда не делся. Метка – это приглашение к обеду. А мы… мы нарушили ритуал. Ты спас девочку. Теперь Эхо проснётся полностью. Ему нужна будет не одна душа. Ему понадобится всё.
Амвросий стоял на распутье. Его вера предписывала бороться с любым злом силой Господа. Но здесь зло было не грехом, а частью природы, как гроза или землетрясение. Можно ли молиться, чтобы остановить землетрясение? Антагонист был непознаваем. Это не был Сатана, жаждущий душ. Это был безличный, всепоглощающий процесс, природный механизм сбора страданий. Он пробуждал древнейший инстинкт – страх перед неконтролируемой, равнодушной силой, что стирает индивидуальность в пыль.
Отец Готтфрид умер к утру. В его застывших глазах Амвросий увидел то же пустое отражение, что и у девочки. Эхо уже забрало его разум.
А потом завыли собаки. А потом стихли. А потом на улице, в предрассветном тумане, зашевелились фигуры. Это были жители Нойендорфа. Они шли молча, единой толпой. Их глаза были пусты, а на лицах, у некоторых уже на шеях и руках, проступали чёрные паутины меток. Эхо, через своих новых сосудов, вышло на жатву. Оно шло за Амвросием. За его пылающей, сопротивляющейся, полной страха и веры душой – лакомым куском для голодной памяти земли.
Церковные двери содрогались от ударов. Не frantic, а ритмичных, методичных. Амвросий баррикадировал вход скамьями, его разум лихорадочно работал. Бежать? В лесу Эхо было хозяином. Остаться? Его разорвут эти пустые оболочки, а его душа станет частью коллективного кошмара.
И тут его взгляд упал на девочку. Она сидела, уставившись в стену. На её шее метка пульсировала, будто чёрное сердце. Идея, чудовищная и логичная, родилась в его голове. Отец Готтфрид говорил о ритуале, о договоре. Эхо требовало жертву. Оно уже выбрало её – девочку. Но ритуал был нарушён, когда Амвросий унёс её из леса. Что, если… предложить ему другую сделку? Большую? Что, если жертва должна быть добровольной? Что, если предложить ему не пустую оболочку, уже почти поглощённую, а душу, полную огня, веры, ужаса и воли? Душу инквизитора.
Это была авантюра безумца. Но иного выхода не было. Скамьи у двери треснули. Сквозь щиты показались бледные, безжизненные руки.
Амвросий спустился в склеп. Воздух здесь был густым и тяжёлым, им было трудно дышать. Стены испещряли не руны и не символы, а спиралевидные углубления, точно такие же, как отпечаток в лесу. В центре помещения на полу лежал гладкий, тёмный, почти чёрный камень. Он был тёплым на ощупь и слегка вибрировал, словно спящее сердце. Это и был Якорь.
Амвросий принёс с собой девочку. Он посадил её у камня. Затем, дрожащими руками, снял с себя наперсный крест, затем – рясу. Остался в простой власянице. Он закрыл глаза, но не для молитвы. Он открыл свой разум. Он отпустил все барьеры. Он вспомнил страх мальчика-вора в цепях, сладковатый запах в склепе, пустые глаза девочки, шепот леса, лица в толпе с чёрными метками. Он выпустил наружу весь свой ужас, своё смятение, свою ярость, свою растерянную веру.
И Эхо ответило.
Тьма в склепе задвигалась. Она стекала со стен, капала со свода, собиралась вокруг камня. Она принимала форму – смутную, текучую, но бесконечно древнюю и голодную. Перед ним не было демона. Был Океан Одиночества. Вселенная Голода. Амвросий почувствовал, как его сознание тянет в эту бездну, как миллионы чужих воспоминаний, чужих смертей, чужих страданий хлынули в него, угрожая смыть его «я» без следа. Это была боль за всё человечество, собранная в одной точке. Он закричал, но звука не было.
И тогда он сделал то, на что не способно было Эхо. Он предложил сделку. Он вложил в этот контакт не просто страх, а волю. Образ себя, стоящего на страже этого камня. Вечно. Его душа, его нескончаемый ужас и сопротивление – как плата. Как пробка в горлышке бутылки. Он предлагал себя в качестве вечной жертвы, вечного стража, который будет питать Эхо своей несгибаемой волей, не давая ему вырваться наружу для массовой жатвы.
Бездна заколебалась. Эхо поняло концепцию. Вечный огонь одной сильной души против сиюминутного пира из многих слабых. Это был новый опыт. Новое ощущение. И голодная память земли потянулась к этому новому, яркому, горькому вкусу.
Амвросий почувствовал леденящий холод, входящий в него через кожу, через глаза, через рот. Он падал на колени перед камнем. Последнее, что он видел земными глазами, – это девочка, которая вдруг глубоко вздохнула и прошептала: «Папа?» Сознание возвращалось к ней. Метка на её шее бледнела, рассыпалась в прах.
А потом его мир стал тёмным, каменным и полным шёпотов. Он был в Якоре. Он был Якорем. Он чувствовал давящую тяжесть земли над собой, корни деревьев, скелеты в могилах. И вечный, ненасытный голод, который теперь был направлен на него одного. Он был заточён в каменной темнице собственного тела, и в него, в его душу, впивались бесчисленные щупальца чужой памяти, высасывая его страх снова и снова. Это была пытка, растянутая на века. Это и была его жертва.
Девочку нашли спящей у алтаря. Жители деревни, придя в себя с бледными, но уже осмысленными лицами, ничего не помнили о ночи кошмаров. Чёрные метки исчезли. Лес снова запел птицами. В Нойендорф вернулась жизнь, обычная, серая, без экзальтации и ужаса.
Нового священника так и не прислали. Церковь постепенно обветшала. Но странность: ни одна собака не заходила в её ограду, а дети, играя рядом, иногда говорили, что видели в полуразрушенном окне лица – не одно, а много, накладывающихся друг на друга, и все они смотрят в лес. И плачут.
А в самом глубоком склепе, под алтарём, лежал гладкий чёрный камень. Если бы кто-то осмелился прикоснуться к нему в полнолуние, он бы почувствовал лёгкую вибрацию. И, если бы прислушался к тишине, он мог бы различить в ней тихий, непрекращающийся шёпот. Не молитву. И не проклятие. А просто звук. Звук одинокой души, горевшей в темноте, чтобы другие могли видеть солнце. Или звук голодного монстра, который лишь прикорнул, насытившись на время, обманутый хитростью и жертвой.
И где-то в соседней деревне, ребёнок, оставшись один, вдруг взглянул на свою руку и увидел крошечное, идеально круглое пятнышко. Чёрное, как уголь. И тихо пульсирующее. А из щели в полу доносился шёпот, зовущий поиграть…
ЛЮБОВЬ И ПРОКЛЯТИЕ ГРАФА РОМАНОВА
Он был красив, как падший ангел, и холоден, как лезвие кинжала, прижатое к горлу в самый интимный момент. Это был первый урок, который выучила Лила: в глазах графа Романова таилась вселенная, но это была вселенная, лишённая света. Она приехала в его поместье, затерянное в карпатских лесах, как гувернантка для его молчаливой семилетней племянницы. Но с первой же встречи, когда его пальцы коснулись её ладони в ледяном пожатии, она поняла: её наняли не для ребёнка. Её наняли для него.
Карета тонула в сумерках, как гвоздь в смоле. Лила прижалась лбом к холодному стеклу, наблюдая, как могучие ели смыкаются над дорогой, словно чёрные костяные пальцы, пытающиеся схватить небо. Письмо лежало в её сумочке, пахнущее сандалом и чем-то ещё – медью, может быть, или старой кровью. «Ваша доброта, ум и… необычная жизнестойкость, о которой мне поведали, делают вас идеальной кандидатурой», – писал граф. Необычная жизнестойкость. Странная фраза. Она сжала ладонь, где шрам от детской ожоги всё ещё тянулся бледной нитью. Кто мог ему рассказать?
Замок предстал перед ней внезапно – зубчатая громада из тёмного камня, впившаяся в скалу над пропастью. Он не отражал последние лучи солнца. Он, казалось, поглощал их, всасывая свет в свою каменную плоть. Внутри пахло пылью, воском и сухими травами. И ещё – запах влажной земли, будто из глубокого подвала.
Граф встретил её в Зале Предков. Он возник из тени, бесшумно, как призрак. Лила вздрогнула. Он был выше, чем она представляла, а его красота была не человеческой, а какой-то геральдической, резкой. Чёрные волосы, серебряная прядь у виска, глаза цвета сплавленного янтаря, в которых мерцали отсветы канделябров.
«Мисс Лила Веленская. Добро пожаловать в мою… обитель», – его голос был низким, бархатным, но в нём слышался лёгкий скрежет, будто неиспользованные голосовые связки. Он подошёл ближе. Холодок от его тела достиг её кожи. «Надеюсь, ваше путешествие не было слишком утомительным».
«Всё в порядке, ваша светлость», – выдавила она, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Её разум кричал о диссонансе: такая красота, такой явный аристократизм – и эта леденящая пустота, исходящая от него. Притяжение и отвращение сплелись в один тугой узел у неё в груди.
«Мою племянницу, Анну, вы встретите завтра. Она… хрупкий ребёнок. Боится шума. Боится… многого». Взгляд графа задержался на лице Лили, изучая её реакцию. «Ваша комната готова. Ужин вам принесут. И, мисс Веленская…» Он сделал паузу, и тишина в зале стала густой, как сироп. «В этом доме есть места, куда лучше не ходить. Ради вашего же спокойствия. Ночь здесь имеет свойство… оживать».
Он повернулся и растворился в тени арки, оставив её одну в огромном зале, где портреты предков смотрели на неё пустыми глазами, нарисованными.
Её комната была роскошной, но холодной. Окно выходило на тёмный лес. Первое, что она увидела, подойдя к нему – своё отражение в тёмном стекле. И за своим плечом – смутное движение, тень, которая мелькнула и исчезла, как только она обернулась.
Сердце заколотилось сильнее. Это просто усталость, – убеждала она себя. Воображение. Но в ту ночь ей приснился сон. Она стояла в длинной зеркальной галерее, и её отражения повторялись до бесконечности. Но в одном из зеркал её двойник не двигался синхронно с ней. Она смотрела прямо на Лили и медленно, очень медленно, подносила палец к губам в жесте молчания. А из другого зеркала на неё смотрел граф. И в его глазах не было ничего человеческого. Только голод.
Анна оказалась маленькой девочкой с волосами цвета воронова крыла и огромными серыми глазами. Она не улыбалась. Её рука в руке Лили была холодной и безжизненной, как у фарфоровой куклы.
«Ты боишься дядюшку?» – однажды спросила Лила во время урока.
Девочка долго молчала, рисуя на грифельной доске чёрные спирали. «Я боюсь, когда он смотрит в зеркала», – прошептала она наконец. «Он ищет там кого-то. Но находит только себя. И это делает его грустным. А когда дядюшка грустит, в дом приходит Тёмный».
«Тёмный?»
Анна лишь покачала головой и больше не произнесла ни слова.
Лила начала замечать странности. Слуги – сухопарый старик-дворецкий Гордей и немолодая горничная Мавра – говорили шёпотом и избегали смотреть ей в глаза. В библиотеке, куда она зашла в поисках книг для Анны, она нашла фолианты по алхимии, демонологии, трактаты о душах, заточённых в зеркалах. На полях – острым, знакомым почерком графа – пометки: «Ошибка», «Близко», «Она не та».
Однажды ночью её разбудил звук. Мелодичный, металлический, леденящий душу скрежет. Как будто кто-то точил клинок очень-очень медленно. Звук шёл из глубины дома. Она встала, накинула халат и вышла в коридор, освещённый лишь лунным светом. Сердце стучало в висках. Она шла на звук, пока не упёрлась в массивную дубовую дверь в конце западного крыла. Дверь, которую граф велел ей никогда не открывать.
Звук шёл оттуда. И ещё… тихое бормотание. Голос графа. Он пел. Старинную, грубую песню на языке, которого она не знала. И в его голосе была такая бездна боли и ярости, что у Лили по спине побежали мурашки. Она прижала ладонь к древесине. Дверь была ледяной. Внезапно бормотание прекратилось.
«Кто там?» – голос графа прозвучал прямо по ту сторону двери, тихо, но чётко. В нём не было вопроса. В нём была угроза.
Лила отпрянула и побежала обратно в свою комнату, чувствуя, как за спиной нарастает холодное, безжалостное присутствие. Оно не преследовало её. Оно просто наблюдало.
На следующее утро граф был за завтраком безупречно вежлив. Но когда их взгляды встретились, в его янтарных глазах она увидела нечто чужеродное. Мимолётную тень, которая смотрела на неё не как на человека, а как на… объект. На решение задачи.
«Вы плохо спали, мисс Веленская?» – спросил он, отламывая кусок хлеба. Его пальцы были длинными, изящными, смертельно бледными.
«Я… слышала странные звуки».
«Горы. Ветер в башнях. Он часто играет с нами злые шутки». Он улыбнулся. Улыбка не коснулась его глаз. «Надеюсь, вы не заблудились ночью. Этот дом может сбить с пути неподготовленного гостя».
Она поняла, что это не вопрос. Это предупреждение.
Притяжение к графу росло, как ядовитый плющ. Он был учтив, начитан, его одинокая, трагичная фигура будила в ней глупое, неистребимое желание – спасти, согреть, вернуть к жизни. Он начал приглашать её на вечерние беседы. Они говорили о философии, искусстве, звёздах. И с каждым разом Лила ловила себя на мысли, что его холод уже не кажется ей таким пронзительным. Иногда, когда он смотрел на неё, в его глазах вспыхивала искра чего-то похожего на тепло. На надежду.
Однажды он провёл её в Зеркальную галерею – длинную, узкую комнату, стены которой были сплошь покрыты старинными венецианскими зеркалами в потёртых серебряных рамах.
«Это сердце дома, – сказал он, и его голос прозвучал многоголосым эхом. – И его проклятие».
«Проклятие?»
Он подошёл к одному из зеркал, самому большому, в раме, украшенной витыми виноградными лозами и странными, хищными птицами. «Мой прапрадед, Пётр Романов, был могущественным человеком. И безрассудным. Он заключил сделку, чтобы получить бессмертную силу. Но тёмные силы обманули его. Они не дали ему бессмертия души. Они дали бессмертие отражению».
Лила замерла, чувствуя, как по коже бегут ледяные иголки.
«Его истинная сущность, его тёмная половина, была заточена в зеркалах этого дома, – продолжил граф, не отрывая взгляда от своего отражения. – И с тех пор каждый наследник мужского рода в Романовых носит в себе эту печать. Мы – хранители. И мы – узники. Наше отражение… оно не всегда принадлежит нам».
Вдруг он резко повернулся к ней. Его лицо было искажено страданием. «Я чувствую его, Лила. Тёмного. Он хочет вырваться. Он хочет плоти, тепла, жизни… которой у него нет. Он питается страхом. Тоской. И… любовью».
Он сделал шаг к ней. Теперь их было трое в зеркале: он, она и их отражения. «Я боролся с ним всю жизнь. Изолировал себя. Но ты пришла… и всё изменилось. Твоя жизненная сила, твоя чистота… он жаждет их. А я…» Его голос сорвался. «Я начинаю жаждать тебя. И это опаснее всего».
Он был так близко. Его холод смешивался с теплом её тела, создавая странную, головокружительную ауру. Лила чувствовала страх. Первобытный, животный страх перед непознаваемым злом, которое смотрело на неё из самых красивых глаз, какие она видела. Но вместе со страхом в ней бушевало и что-то иное. Жалость. Влечение. Желание прикоснуться к этой боли.
Она подняла руку, чтобы коснуться его щеки. В зеркале её отражение повторило жест. Но отражение графа… не двинулось. Оно стояло и смотрело на неё с безмолвной, жадной улыбкой. А сам граф закрыл глаза, как бы отстраняясь от этого зрелища.
«Выйдем отсюда, – прошептал он. – Пока он не проснулся окончательно».
В ту ночь Лиле снова приснилась зеркальная галерея. Но на этот раз она шла по ней одна. И из каждого зеркала на неё смотрел граф. Но в одних его глаза были полны боли и мольбы («Помоги мне!»), а в других – холодной, бездушной алчности («Будь моей»). А в самом конце галереи стояло то самое большое зеркало. И в нём была лишь густая, пульсирующая тьма. И из этой тьмы на неё смотрела пара горящих янтарных глаз.
Она проснулась с криком, зажатым в горле. В комнате было холодно. И она была уверена, что не одна. В уголке, где сливались тени, что-то дышало. Медленно, размеренно. Выжидающе.
Отношения с графом перешли в опасную, запретную зону. Они не касались друг друга, но между ними витало напряжение, густое и сладкое, как предгрозовой воздух. Он рассказывал ей о своей жизни, о вечном одиночестве, о страхе за Анну, которая, как он боялся, унаследует эту чёрную печать. Лила рассказывала о себе, о своей силе, о своей воле к жизни, которая помогла ей выжить после пожара, унесшего её родителей. Она чувствовала, как он пьёт её слова, её эмоции, как будто они – вода в пустыне.
Анна тем временем привязалась к Лили. Девочка начала немного улыбаться. Но однажды, рисуя, она изобразила троих: маленькую девочку (себя), женщину с золотыми волосами (Лили) и высокого чёрного силуэта. А рядом с силуэтом, в воздухе, она нарисовала красным мелом второе, размытое лицо с острыми зубами.
«Это дядюшка и его Тёмный, – пояснила она. – Они живут вместе. Но скоро Тёмный захочет жить один. Ему нужен домик. Тёплый домик».