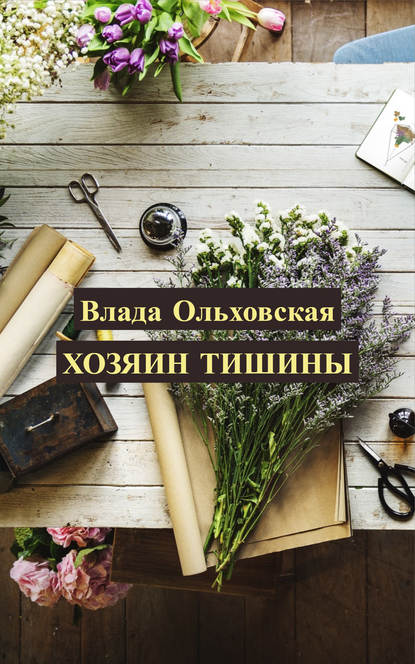- -
- 100%
- +
Ночь, или точнее её остаток, не была Пот Это было забытьё, прерываемое вспышками
осознания: я здесь, она здесь.
Я медленно поднялся на локоть. Её лицо в утреннем свете было спокойным. Слишком
спокойным. Я искал следы бури, а находил лишь усталую безмятежность. И тогда я
увидел не свою боль, а её. В лёгкой складочке между бровей, в чуть напряжённых
уголках губ. Она не просто терпела – она страдала, так же, как и я. И это страдание
было мне непонятно. Почему? Если ты любишь меня, откуда эта боль? Вопрос
родился и тут же был задавлен. Я боялся ответа.
Я отчаянно хотел вернуть всё в норму… Норму.
Я наклонился и поцеловал её в щёку.
– Доброе утро, – мой голос скрипел.
Она приоткрыла глаза. Не улыбнулась, но и не отстранилась. Она смотрила в мои
глаза, будто всматриваясь, пытаясь в них что-то увидеть. Её взгляд был прозрачным, и
в этой прозрачности я прочитал усталую тревогу. И тень вины? Но не отчуждение. А ту
же жалость и страх, что грызли и меня. Это меня и успокоило, и ранило. Если бы она
была холодна – я бы боролся. Но это… это было непонятно. И потому – ещё
страшнее.
Мы вставали молча, как сапёры. Каждое движение было осторожным, выверенным. Я
пошёл в душ первым. Горячая вода обжигала кожу, но не могла прогнать внутренний
холод. Всё тело била мелкая дрожь. Я мылился механически, глядя на кафель, и в
голове картины всплывали сами. Как он всегда уступал ей место рядом со мной. Как он
запоминал, какой чай она любит. Как он смотрел на неё, когда она читала или
смеялась. Этот его «добрый, усталый взгляд». Я всегда думал – он просто такой
человек. Глубокий. А он… он просто смотрел на неё.
Всё это время…
Когда я спустился, она готовила завтрак, и я видел, как её руки двигаются – привычно, но с новой, хрупкой осмотрительностью. Она не отстранялась от меня, когда я
подходил, но будто боялась лишним жестом что-то разбудить. И мне казалось: она
цеплялась за наш утренний ритуал так же отчаянно, как и я. Это была наша общая
лодка, и мы оба гребли, стараясь не смотреть в пугающую глубину по сторонам.
Мы сели за стол.
– Спала хорошо? – спросил я. Вопрос был шифром: «Мы ещё вместе?»
Она подняла на меня глаза. И в них было что-то, от чего сердце сжалось – знакомая, тёплая нежность, смешанная с неизбывной грустью.
– Нет, – тихо сказала она. Это была правда. – А ты?
– Тоже нет, – признался я. И в этом признании было облегчение. Мы хотя бы в этом
были вместе.
После завтрака, когда я мыл свою тарелку, она подошла и протянула свою. Наши
пальцы не сопкнулись, но в этом не было отчуждения. А была как будто негласная
общая договорённость – не обжигать друг друга, когда кожа и так содрана.
Перед уходом она поправила мне воротник. Старый жест. Но сейчас в нём была не
только привычка, а что-то большее – забота, прощение… Прощание? Нет! Нет! Её
пальцы коснулись кожи, и я почувствовал мурашки. Не от желания, а от щемящей
боли, потому что в этом прикосновении была вся её любовь ко мне. Настоящая, живая.
И это окончательно сбивало меня с толку. «Если ты любишь меня, если твои руки так
обо мне заботятся, если ты так смотришь НА МЕНЯ, тогда что это было вчера? Что за
взгляд?»
Я взял её за лицо, заглянул в глаза. Я искал ответа, но боялся его найти. Я видел
любовь. Я видел боль. И она смотрела на меня как на единственного. Прямо сейчас —
как на единственного. И это было моим спасением и моей пыткой.
– Ты… ты же знаешь, что я тебя люблю? – выдохнул я. Это была мольба о
подтверждении.
Она улыбнулась – мягко, печально, но по-настоящему. Поцеловала меня в губы.
Легко, но с той самой нежностью, что всегда была нашей.
– Я знаю. Я тоже, Игорь – она посмотрела мне прямо в глаза и от этого взгляда всё
сжалось внутри до кома массой с чёрную дыру. «Любит…»
Этот поцелуй был одновременно и правдой, и ложью. Правдой о её любви ко мне.
Ложью о том, что этой любви достаточно? Может, годы, привычка? Чёрт!
Я вышел из дома. В машине, уставившись на руль, я понимал одно: я не хочу, не могу
её потерять… Я так её люблю. И я же вижу и её любовь, я чувствую её отзыв. Но
между нами пролегла тень.
ГЛАВА 7. ТИКАЮЩИЕ ЧАСЫ
Игорь.
Прошла неделя. Потом вторая. Жизнь обрела новую, зыбкую нормальность, похожую
на тонкий лёд над глубокой водой. Мы с Тоней двигались по дому по отлаженным
траекториям, как планеты, чьи орбиты чуть сдвинулись, но ещё не рухнули в хаос.
Я стал гипербдительным. Мои чувства обострились до болезненной остроты. Я ловил
каждое её движение, каждый вздох. И я видел. Я видел, как её взгляд на секунду
замирал на его пустом месте за обеденным столом по воскресеньям. Как её пальцы
чуть дольше обычного задерживались на его кружке, когда она подвигала её в шкафу.
Это были микроскопические моменты, невидимые глазу, но для меня – громкие, как
выстрелы. Она не говорила его имени. Но её молчание о нём было оглушительным.
Мы занимались любовью. Чаще, чем раньше. И это было по-прежнему страстно, но
теперь в этой страсти был привкус отчаяния. Каждый раз я искал в её объятиях
подтверждение. И каждый раз находил его – её тело отзывалось мне с той же
искренностью. Но когда всё заканчивалось, и мы лежали в темноте, я чувствовал, как
её мысли улетали куда-то далеко. В тишине между нами висел невысказанный вопрос.
И я боялся его задать, потому что боялся, что её ответ будет не «нет», а «да, но…».
Я начал думать об Алексее. Не как о друге, а как о… явлении. Проблеме. Сопернике.
Мы не виделись с тех пор и не звонили друг другу. Я не мог смотреть ему в глаза. Что я
увижу там? Вину? Торжество? Или ту же самую, знакомую мне усталую боль, которую
я теперь вижу в зеркале каждый день? И я не знаю, что из этого страшнее.
В моей голове прокручивалась пленка наших с ним жизней. Столько лет. Он всегда
был рядом. На моей свадьбе он был свидетелем. Он был первым, кому я сообщил, что
Тоня беременна. Он носил на руках нашего маленького сына, пока он, смеясь, тянул
его за волосы. Он был частью семьи. Частью. А теперь я думал: когда? Когда простое
восхищение женой друга превратилось в это? Или это всегда было в нём, а я, ослеплённый своим счастьем и доверием, отказывался видеть?
Тоня пыталась. О, Боже, как она пыталась. Она была нежна, заботлива, готовила мои
любимые блюда, смеялась над моими шутками. Но её смех теперь имел иной отзвук —
словно эхо в пустой комнате. Её нежность была похожа на повязку на рану, которая
никак не зарубцовывалась и продолжала кровоточить, и её можно лишь постоянно
перевязывать. Иногда я ловил её взгляд на себе, полный такой щемящей жалости и
любви, что мне хотелось кричать. «Не жалей меня! – кричал я внутри. – Люби меня!
Борись за нас!» Но я молчал. Потому что понимал: она и боролась. Просто её битва
была другой. Она боролась с самой собой. А это самая безнадёжная из всех битв.
К концу третьей недели я поймал себя на том, что ревную наши же воспоминания к
нему. Мы с Тоней смотрели старые фотографии, и на каждой третьей был он. С
улыбкой, с добрыми, преданными глазами. И я с ненавистью думал: «Ты уже тогда
смотрел на неё так?» Я начал проверять её телефон. Тайком, чувствуя себя
последним подлецом. Ничего. Ни одного сообщения. Ни одного звонка. Эта чистота
была хуже любой переписки. Она означала, что всё самое важное происходит где-то в
другом месте. В их молчаливом сговоре. В их взглядах. В том самом «особенном
моменте».
На четвертой неделе я впервые за всё время вышел из себя. Мы выбирали обои для
гостевой комнаты. Та самая, где он обычно останавливался.
– Может, синие? – предложила она, показывая на образец. – Спокойный цвет.
Алексею нравятся спокойные тона.
И всё. Этого было достаточно. Такое невинное, бытовое упоминание.
– А почему мы должны выбирать обои, исходя из его предпочтений? – мой голос
прозвучал резко и громко. – Это наш дом! Твой и мой! Или уже нет?
Она отшатнулась, как от удара. Её глаза наполнились слезами. Не злыми, а горькими.
– Я просто… хотела, чтобы гостям было уютно, – прошептала она.
– Ему? Ты хотела, чтобы ему было уютно? – не мог я остановиться и зашёлся
каким-то истерическим, беззвучным смехом. – Он что, теперь постоянный жилец? В
наших стенах? В нашей жизни? В твоей голове?
Она не ответила. Просто развернулась и ушла. А я остался стоять посреди комнаты с
образцом синих обоев в дрожащей руке, понимая, что только что подтвердил все её
худшие опасения. Я показал ей своё дно. Свой животный, неконтролируемый страх.
Мы помирились. Конечно, помирились. Я валялся в ногах, я извинялся, я говорил, что
это нервы, работа, что я сорвался. Мы не говорили о нём. Мы говорили обо всём, кроме него. Но с тех пор в нашем доме поселился новый звук – тиканье часов.
Обратный отсчёт до чего-то неминуемого.
Я понял, что больше не могу так жить. Я либо должен всё взорвать, либо принять. Но
принять что? Что моя жена любит моего лучшего друга? А что, если она любит нас
обоих? Возможно ли это вообще? Эта мысль была настолько чудовищной и настолько
новой, что мой мозг отказывался её обрабатывать.
ГЛАВА 8. АД СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Алексей.
Я словно перерезал последний канат, который удерживал меня на краю их общего
мира. Теперь я падаю в тишину, и эта тишина гудит в ушах оглушительным звоном.
Первые дни были похожи на белую горячку. Я постоянно проверял телефон. Ждал
звонка от Игоря – с проклятиями, с угрозами, с вопросами. Любой звук был бы
милостью. Я ждал хоть какого-то знака от Тони – оправдывающего, просящего о
помощи, проклинающего. Но тишина была абсолютной. Их общее молчание было
страшнее любой ярости. Оно означало, что они остались по одну сторону баррикады, решая свою судьбу. А я – по другую. Изгой.
Я отменил все встречи, отключился от всего. Мир сузился до четырёх стен моей
квартиры, которая вдруг стала похожа на камеру. Я мог часами сидеть в кресле, глядя
в одну точку, прокручивая в голове тот вечер. Её взгляд, полный бездонной печали и
понимания. Его руку на её плече – жест, который я видел тысячу раз, но который в тот
миг показался мне вызовом. И мой собственный, предательский внутренний голос, прорывавшийся наружу после пятнадцати лет заточения: «Я люблю её».
Я почти перестал есть. Еда казалась безвкусной, пресной, как песок. Кофе обжигал
пустой желудок, вызывая спазмы. Сон приходил урывками, под утро, и в нём мне
снился один и тот же сон: я стою за толстым стеклом витрины и смотрю, как они
смеются, а мои стуки в стекло заглушаются звуком их счастья.
Я видел их лица везде. В узоре на потолке. В пенке на остывшем кофе. В пятнах
дождя на стекле. Игоря, с его широкой, открытой улыбкой, которая теперь, наверное,
искажена болью и непониманием. И её… Тоню. Её спокойные, глубокие глаза, в
которых я теперь, наверное, смогу прочитать только упрёк и сожаление.
Но самое страшное – это даже не ревность. Ревность – это огонь, она жжёт, но она
жива. А это – ледяное, тотальное безмолвие. Это знание, что я, своим молчаливым
обожанием, своей невысказанной правдой, стал миной, на которую они наступили, сами того не ведая. Я разрушил их покой. Нашу дружбу. Их веру в нас троих.
Я думаю об Игоре постоянно. «Как он?» Эта мысль – как тупая игла под ногтем. Я
знаю его. Он не злой. Он – взрывной, прямолинейный, его ярость – это вспышка. Но
она быстро сгорает, оставляя после себя чистую, незащищённую рану. И сейчас он, наверное, мучается так же, как и я. Только его боль – от предательства. Моя – от
осознания, что я предатель. И от этой мысли мне в тысячу раз больнее. Я предал
брата. Не делом, но мыслью.
И я думаю о ней. Запутавшейся, испуганной, разрывающейся между двумя
верностями. Я хочу быть рядом, чтобы стать для неё тем самым «тихим берегом», укрытием от бури, которую я же и вызвал. Но я не могу. Моё присутствие теперь – яд, который будет отравлять любую попытку примирения.
Однажды ночью я не выдержал. Я встал, оделся и поехал к их дому. Я не знал, зачем.
Просто постоять под окнами. Увидеть свет в спальне. Уловить тень за шторами. Может
быть, это принесло бы какое-то болезненное, извращённое утешение – знать, что они
там, вместе, и что я хоть как-то, даже из тьмы, причастен к их миру.
Но когда я подъехал, в доме было темно. Все окна – чёрные, пустые, слепые
квадраты. Они уехали. На дачу? В отпуск? Неважно. Они уехали вместе. Без меня.
Я сидел в машине и смотрел на тёмный фасад, и понимал, что это и есть единственно
верная метафора моей жизни теперь. Я всегда снаружи. Вне их света. Вне их общего
мира. Я – тень.
Я вернулся домой.
На следующее утро я посмотрел на себя в зеркало в прихожей. Из него на меня
смотрел незнакомец с впалыми щеками, тёмными кругами под глазами и потухшим, ничего не выражающим взглядом. Я пытался злиться на этого человека, ненавидеть
его. Но даже на это не осталось сил. Осталась только тихая, всепоглощающая пустота.
И странное, щемящее чувство ответственности. Как у сапёра, который подорвался на
собственной мине и теперь должен принять решение – уползти подальше, чтобы не
ранить осколками других, или позвать на помощь, рискуя добить тех, кто придет.
Я должен исчезнуть. Окончательно. Дать им шанс заживить раны, найти новый баланс
без моего присутствия, которое будет вечно напоминать о трещине, о предательстве, об «особенном моменте». Но мысль о том, чтобы никогда больше не видеть её
улыбки, не слышать его смеха, не чувствовать этого странного, полного уюта от
принадлежности к их семье, ощущения… она физически невыносима. Это как
перестать дышать.
Так я и живу. В подвешенном состоянии между долгом и желанием, между раскаянием
и любовью. В аду, который собрал своими руками из самых чистых материалов —
дружбы, преданности и тихой, невысказанной любви. Где самое страшное и самое
заслуженное наказание – это не боль, а полное, абсолютное отсутствие права на неё.
ГЛАВА 9. ИСПОВЕДЬ
Игорь.
Я не мог больше. Не мог притворяться, что не вижу её отсутствующего взгляда в
некоторые минуты каждого дня, не слышу этой новой, звенящей тишины в доме.
Четыре недели я носил эту боль в себе, как осколок, и сейчас она начала рвать меня
изнутри.
Я подошёл к ней на кухне. Не сзади, по-привычному, а встал напротив, упёршись
руками в столешницу, загораживая ей путь. Физически и метафорически.
– Тоня. Хватит. Мы должны поговорить.
Она не стала отнекиваться, не попыталась спастись бытовой суетой. Просто кивнула, выключила воду и пошла в гостиную. Села в кресло, подобрав под себя ноги, съёжившись – готовясь к удару. Я сел напротив, на диван.
– Ты любишь его? – выпалил я, без предисловий, без намёков. Голос был ровным, но
в нём дрожала сталь. – Да или нет?
Она закрыла глаза, словно молясь о силе, а потом посмотрела на меня прямо, обречённо и смело.
– Да.
Воздух выстрелил. Это слово, короткое и простое, повисло между нами живым, пульсирующим существом. Я сжал кулаки, почувствовав, как по телу разливается
жгучий, тошнотворный холод. Худшие подозрения подтвердились. Мир рухнул.
– С каких пор? – мой собственный голос прозвучал чужим.
– Всегда, Игорь. Кажется… всегда.
– Всегда? – я задохнулся. – То есть всё это время? Наша свадьба, рождение Миши, все наши победы… ты в это же время любила его? – мой голос был ужасающе
ровным. Картины нашей общей жизни проносились перед глазами, и на каждой теперь
лежала тень.
– Нет! Не «в это же время»! – она вскинула на меня глаза, и в них горел странный
огонь – отчаяния и яростной правды. – Это не так работает! Это не два отдельных
ящика в моей душе! Это… это всё ты. Ты – это моя жизнь. Моя кровь. Ты – это
восторг и паника, шторм и штиль. Когда ты рядом, мир громкий, яркий, он бьёт через
край. Я люблю тебя так, что у меня перехватывает дыхание, когда ты входишь в
комнату, когда я думаю о тебе. Так было и есть.
Она сделала паузу, ловя воздух, пытаясь найти слова, которые не будут похожи на
оправдание, а станут хоть каким-то объяснением.
– А Лёша… он как тишина после твоей грозы. Как тёплый свет настольной лампы в
тёмной комнате. Он… часть нашего дома. Часть нашей жизни. И где-то по дороге эта
часть… стала частью моего сердца. Не вместо тебя. Вместе с тобой. Это не страсть.
Это… потребность души в покое. В том самом покое, который он олицетворяет. Я
люблю его молчаливо. Как он меня. – Это была моя личная, тихая боль. И моя вина.
Я слушал, и моё лицо было каменной маской. Но внутри бушевал ураган. Ревность, ярость, чувство абсолютного предательства… и странное, пробивающееся сквозь них
понимание. Я ведь и сам думал о Лёхе. Думал с болью, но и с какой-то искажённой
любовью. «Каково ему сейчас?»
– Стоп, – перебил я её, голос хриплый от сдерживаемых эмоций. – Ты говоришь…
ты любила меня всё это время? Любила? Сильно? По-настоящему?
– Да, – её ответ был бездыханным шёпотом, но абсолютно твёрдым, как гранит. —
Безумно. Беззаветно. Все эти годы. И сейчас. Сейчас, глядя на тебя, я люблю тебя так, что мне физически больно. Больно от того, что я тебя тебя ранила.
И вот оно. Облегчение. Странное, горькое, окровавленное, но облегчение. Оно
нахлынуло, смешавшись с болью, создавая невыносимый коктейль. Худший кошмар —
что она меня никогда не любила, что вся наша жизнь была построена на лжи – не
подтвердился. Она любила. Любила страстно. И любила… моего друга.
Одновременно. Это невозможно, абсурдно, против природы. Но это факт. И этот факт, каким бы чудовищным он ни был, лучше, чем пустота, чем обман, чем предательство.
– Как? – спросил я, и в этом слове была уже не злость, а жажда понять, прощупать
эту новую, невероятную реальность. – Объясни мне. Как ты любишь меня? А как его?
Я должен это знать. Я должен это понять.
Она смотрела на меня, и слёзы текли по её лицу беззвучно, оставляя мокрые дорожки.
Я хотел их стереть, хотел обнять её и закрыть от этой боли, но пока не мог…
– Тебя… тебя я люблю телом и душой. Я хочу тебя, ревную, злюсь на тебя, восхищаюсь тобой. Ты – действие. Ты – глагол. А его… – она закрыла глаза, уходя в
себя, – его я люблю… той частью моей души, которая льнёт к спокойствию, ровности.
Его я люблю тишиной. Его я люблю как данность. Как воздух, которым дышишь, не
замечая, пока не перестанет его хватать. Я люблю в нём… часть тебя. Того тихого, спокойного тебя, которого так мало, но который мне тоже дорог.
Я молчал. Долго. Я впитывал её слова. Они обжигали, как раскалённое железо, но и
лечили, как антисептик. Она не выбирала между нами. Она описывала два разных
измерения своей любви, два разных языка, на которых говорило её сердце. И я, к
своему ужасу и изумлению, начал это понимать. Я ведь и сам чувствовал, что Лёха —
это моя тихая часть.
– Ты хочешь быть с ним? – задал я последний, самый страшный, самый прямой
вопрос.
– Нет, – она ответила мгновенно, без тени сомнения. Слишком быстро. Слишком
решительно. – Я хочу быть с тобой.
Я увидел это. Увидел страх в её глазах. Страх потерять его. Страх разрушить всё. И я
понял, что её «нет» – это не вся правда. Это правда, выстраданная и искренняя, но
это была правда страха, а не правда желания.
– Но… я не хочу, чтобы он исчез, – тихо, почти неслышно, добавила она. – Я не могу
представить наш мир без него. Так же, как не могу представить его без тебя.
Я откинулся на спинку дивана и уставился в потолок, как будто ища ответов в текстуре
штукатурки. Боль никуда не ушла. Ревность, тёмная и едкая, клокотала где-то глубоко.
Но паника, слепящая, животная паника – отступила. Вместо хаоса и обломков старой
жизни начала проступать чудовищная, непривычная, невозможная картина. Картина, в
которой было место нам троим. Не в том извращённом смысле, о котором я думал
сгоряча. Или?… А в каком-то другом, глубоком, трагическом и, возможно, единственно
верном для нас.
Я не знал, что с этим делать. Не знал, смогу ли принять. Не знал, прощу ли
когда-нибудь. Но я услышал самое главное: её любовь ко мне – настоящая, живая, дышащая. Она не сбежала. Она здесь. И она борется за меня, за нас, так же отчаянно, как я теперь должен буду бороться за нашу новую, пугающую, странную реальность.
Я опустил взгляд и посмотрел на неё – измождённую, заплаканную, прекрасную.
– Я не знаю, что будем делать, – сказал я честно, разводя руками. – Я в ярости. На
тебя. На него. На себя. Но… – я сделал паузу, встречая её взгляд, – но я слышу тебя.
И в этих словах не было победы, не было прощения. Это была просто констатация
факта. Самый страшный и самый честный разговор в нашей жизни начался. И первый, самый трудный шаг был сделан.
ГЛАВА 10. МЕЖДУ БОЛЬЮ И БЫТИЕМ
Игорь.
День после её «исповеди» прошёл в гулкой, неестественной тишине. Не враждебной, а
тяжёлой, как свинцовый колокол. Я не ушёл. Я не собрал вещи, не хлопнул дверью.
Вместо этого я «заперся» в кабинете, но оставив дверь приоткрытой – неловкий, но
важный символ.
Я сидел в кресле и думал. Не линейно, не логично, а обрывками, как дышит раненый
зверь.
«Она любит его. Тишиной. Как воздух». Эти слова жгли мозг. Я вспоминал её лицо, когда она это говорила – не с восторгом влюблённой, а с глубокой, выстраданной
нежностью. И это было хуже. Страсть можно переждать, она выгорает. А это… это
было частью её души.
«Она любит меня. Громко. Как шторм». Я сжимал подлокотники кресла, пытаясь
ухватиться за это. Это была моя правда. Мой якорь. Она не лгала. В её глазах, когда
она говорила обо мне, горел тот самый огонь, что я видел все эти годы. Я не был
обманут. Моя любовь к ней не была фальшивкой. Это было облегчение, горькое, как
полынь, но настоящее.
Я думал об Алексее. О своём друге. И тогда, сквозь толщу ревности и гнева, я вдруг с
невероятной ясностью увидел его страдание. Не торжество победителя, а ту же
самую, знакомую мне боль. «Каково ему сейчас? – пронеслось в голове. – Он там
один, в своей пустой квартире, и думает, что разрушил всё». И странное, почти
предательское чувство – желание позвонить ему. Не для выяснений, а просто чтобы
сказать: «Я знаю. И я жив. А ты?». Но я не мог. Рана была ещё слишком свежа, слишком кровоточаща.
К вечеру мысли начали укладываться. Не в стройную систему, а в некое подобие
порядка, как обломки после землетрясения. Да, она любит двоих. Это факт, противный, невозможный, но факт. И у меня есть выбор.
Вариант первый: уйти. Сохранить свою раненую гордость, свою картину мира. И
потерять её. Навсегда. Остаться с «чистой» болью утраты вместо этой «грязной», сложной боли сохранения.
Вариант второй: остаться. Принять этот абсурд. Попытаться жить с этой правдой. Не
закрывать на неё глаза, а впустить её внутрь и посмотреть, не убьёт ли она меня, не
превратит ли в жалкое, униженное существо.
Выбора, по сути, не было. Потому что мысль о жизни без неё была в миллион раз
страшнее мысли о жизни с этой правдой.
Я вышел из кабинета. Она сидела в гостиной, не включая свет, смотрела в окно. Я
подошёл и сел рядом. Не обнял. Не прикоснулся. Просто сел.
– Я не понимаю, как это возможно, – тихо сказал я, глядя в ту же темноту за окном.
– Мой мозг отказывается это принять.
– Я тоже не понимаю, – так же тихо ответила она.
– Мне больно. И будет больно ещё долго.
– Я знаю – я видел, что она не хотела произносить глупое «прости», но в её взгляде
всё было.
Я повернулся к ней. В полумраке её лицо было бледным и бесконечно усталым.
– Но я не хочу терять тебя, – это была самая честная фраза за весь день. – Так
что… так тому и быть. Будем пытаться с этим жить. Я не ждал благодарности. Не ждал
слёз счастья. Я просто констатировал решение. Она кивнула, и в её глазах читалось
не облегчение, а глубокая, бездонная ответственность. Мы вдвоём взвалили на плечи, казалось, неподъёмный груз.