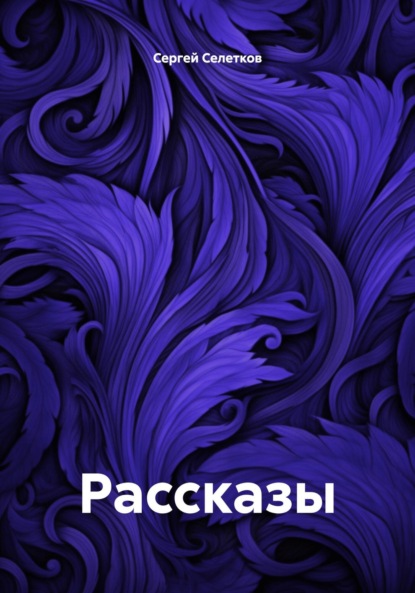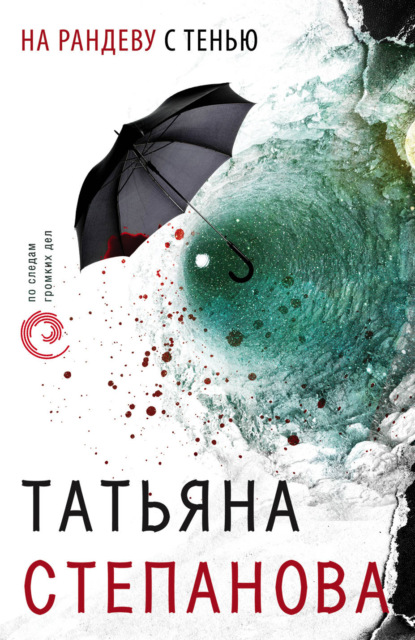- -
- 100%
- +

ЗАРЕЧНАЯ СТОРОНА
Дорога солдата
Эти воспоминания фронтовика
Якова Ильича Каткова
я записал со слов его дочерей
в 2020 году.
Более восьмидесяти лет прошло со дня Великой Победы, а Бессмертный Полк все собирает под свои знамена героев, стоявших насмерть перед коричневой чумой двадцатого столетия. Их единицы, ветеранов Великой Отечественной, последних живых свидетелей смертельных боев за наши жизни. Наша им вечная память.
Ефрейтор Яков Ильич Катков ушел еще в девяностые, пополнив ряды Бессмертного Полка, но три поколения его потомков свято берегут о нем память и слова его завета:
– В семье нас было пятеро – я и мои братья: Александр, Афанасий, Федор и Петр. Все ушли на фронт в сорок первом. Александр был летчиком, Афанасий – связистом, Федор воевал командиром стрелкового взвода, Петр – солдатом пехоты. А я, Яков Катков, стал артиллеристом.
Домой вернулись трое, Петр и Федор погибли. На Петра пришло извещение в ноябре сорок первого – пропал без вести, на Федора принесли похоронку в январе сорок четвертого. Мне с Александром и Афанасием повезло больше – вернулись с фронта контуженные, но с руками и на своих ногах. Ребятишки, надо сказать, рожденные еще до войны, не сразу признали в нас своих отцов, но вскоре все обустроилось. Началась послевоенная нелегкая, но мирная трудовая жизнь, ждали которую в холодных окопах, блиндажах, часто под обстрелом без надежды на чудо спасения.
Мое поколение почти не сомневалось, что война с немцами будет, но какой она будет, сильно ошибались, представляя баталии с быстрым отпором врагу и лихими атаками кавалерии, преследующей неприятеля. Все оказалось иначе. То была другая война – война машин: самолетов, танков, артиллерии, и не было тяжелее испытаний, чем в те четыре долгих года Великой Отечественной. Но как сейчас стоят перед глазами августовские дни сорок первого.
Моя беременная жена Устинья и первенец Игорь, пацан двух годков, провожали меня на фронт. Устинья сшила из наволочки нехитрый рюкзак, положила в него пару шерстяных носков и кулёк с едой на сутки. На прощанье у ворот родные меня обняли, поцеловали и перекрестили на дорожку. Помню, пошел я тогда, оглянулся. Игорь махал маленькой ручонкой, Устинья прикрывала платком заплаканные глаза. Подумал еще: увидимся ли? Глянул на дом: эх, пристрой к дому чуток не достроил.
Соседка вышла мне навстречу, сказала: «Устинья у тебя счастливая, потому домой живой вернешься, верь мне». В таком случае говорят: – «Её бы слова да Богу в уши».
В семнадцать часов двадцать восьмого августа 856-й артиллерийский полк 313-й стрелковой дивизии получил приказ на погрузку в эшелоны на станции «Ижевск» и в тринадцать часов на следующий день тремя эшелонами с промежутком в один час выбыл на Карельский фронт. Через три дня миновали Ярославль, впереди Вологда. Особых происшествий не было. Только один боец в нашем вагоне умудрился остаться без пилотки – ветром сдуло. «Плохой знак», – загрустил парень. А так – настроение у всех бодрое. Вперед, вперед!
Первые месяцы боев на Карельском фронте прошли при непрерывном перемещении фронта боевых действий. Приказы о наступлении сменялись приказами об отступлении. Батареи артиллерийского полка часто оказывались в окружении, но мы упорно с боями через болота вновь выходили из этих окружений. С питанием было совсем туго: грибы, клюква и кусок конины – через два-три дня съедали по одной кобыле из обоза. Но к весне 1942 года фронт стабилизировался. Началась позиционная война: снайперы, вылазки за «языком», разведка боем, выявление огневых точек противника и их подавление. В часы затишья – занятия по боевой подготовке, читали и писали письма родным под тусклым светом лампочки-коптилки из гильзы, краткий сон в холодной землянке под шинелью.
Были и горькие потери, но именно они врезались в память и остались навсегда, словно рубцы на теле от глубоких ран. И через годы просыпаюсь в холодном поту от жутких снов: как будто это меня зарезал финский десант вместе со взводом спящих бойцов, или как будто это я бегу в атаку с ротой только что прибывших новобранцев под режущим огнем пулеметов. Нам, новобранцам, вот только что, перед самым боем, раздали «смертные медальоны» – капсулы, в которые мы вложили бумажки со своими фамилиями и группой крови, написанные огрызком простого карандаша…
Никто не вернулся из той атаки… Вечная им память…
А как я ждал весточки от родных! Их тепло до сих пор помню на руках. Узнаю подчерк Устиньи: «Родился, Яков, у тебя мальчик. Назвали Виктором. У нас все хорошо, не переживай. Очень тебя ждем. Пристрой к дому так и стоит, тоже тебя дожидается. Береги себя. Твои Устинья, Игорь, Виктор».
После капитуляции Финляндии в ноябре сорок четвертого Карельский фронт был расформирован, и в последние месяцы войны 313-я стрелковая Петрозаводская дважды Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия в составе 19-й армии 2-го Белорусского фронта была переброшена на север Польши. Освобождала Польшу, Померанию, Восточную Германию.
Известие о капитуляции Германии пришло в наш полк в ночь на 9 мая. Такого ощущения великой радости я не испытывал никогда. Обнял всех, кого встретил. Расстрелял в воздух из личного карабина весь боекомплект, пальнул бы из пушки, да комполка пригрозил: «Не настрелялись еще, мальчишки!» Ну, братцы артиллеристы, теперь домой! От жены Устиньи давно писем не было, старшему сыну уже шесть, второму, Витьке, скоро четыре. Какие они, сынки? Выросли, мамке уже помогают. Думал, скоро, скоро буду дома и пристрой смастерю. Да не тут-то было.
Приказ о переводе нашего полка на восток добивать милитаристскую Японию в составе 1-го Дальневосточного фронта застал нас в поезде, сразу после посадки. Сердце сжалось от тоски, душа как будто окаменела. Но приказ есть приказ. За окном мелькали города в руинах, колоннами торчали печные трубы выжженных деревень, но майское победное солнце ярко светило в те дни всем. На редких и коротких остановках в крупных населенных пунктах всегда многолюдно: женщины, дети, старики, инвалиды на костылях, цветы, радостные лица, крики, иногда игра маленьких оркестров, но ощущение странное – как будто это не для нас, а тем, кто едет домой. Наш час окончательной победы еще не пробил.
Проехали Москву, потом Казань, подъезжаем глубокой ночью к моему родному Ижевску. Поезд мчит, остановка не предусмотрена. Казанский вокзал почти пуст. Еще несколько километров и прямо за городом из вагона можно увидеть мой дом. Проезжаем поселок Вараксино, за ним – моя деревенька Труд-Пчела. Вспомнились вдруг, как в тумане: Устинья с платком, маленький Витька у нее на руках, пристрой недостроенный. Темно. Хоть бы огонек мелькнул. Как там Устинья, сынки? Вот здесь они, рядом, а крикнуть – не услышат, и рукой не махнуть. Не ведают, что их папка здесь, совсем рядом, мимо проезжает. Сердце стучит в висках, боль застыла в груди, слезы навернулись… Все! Проехали! Даст Бог, вернусь с победой, крепко обниму всю деревню и пристрой к дому доделаю – другому не бывать!
И дал Господ милость – вернулся я живой только осенью сорок пятого. Видно, права была соседка, не ошиблась, что счастливая у меня Устинья. Началась мирная жизнь. Первым делом пристрой достроил, стайку для буренки перебрал. Потом у нас с Устиньей, еще трое сыновей родилось: Василий, Александр, Анатолий да четыре девчонки: Люба, Галина, Тамара и Алевтина. Вместе с рожденными до войны Игорем и в войну Виктором их у меня с моей благоверной, считай, девять кровиночек. По праздникам, перебирая мой нагрудный «иконостас» из медалей, пацаны частенько просят рассказать: что за медаль, да за что получил. Рассказываю уж в который раз.
Первую медаль «За отвагу» вручили летом в сорок четвертом за бои под Медвежьегорском и переправу через реку Кивач. В топовзводе штабной батареи из опытных реечников, пожалуй, я один и остался. Кстати, реечник – это тот, кто заблаговременную до залпа артиллерии привязку позиции батареи должен выполнить. Ну, мне и поручили это дело. Выполнил я приказ под сильным обстрелом противника. Чудо, что жив остался. Все ползком да на четвереньках. Пули свистят и рядом шлепаются. Слава «небесной канцелярии», как-то и на этот раз не зацепило.
А вторую медаль «За отвагу» получил уже весной в сорок пятом. Шли упорные бои в Польше. Освобождали городок, если память не изменяет, Клайн-Катц. Пальба шла из всех орудий, из укрытий головы не поднять, и вторые сутки полк оставался без еды. Ну, я и вызвался добровольцем: три раза под огнем доставлял продукты питания на командный пункт полка. Но страшнее всего было, когда под Гдыней – город тоже в Польше – враг неожиданно предпринял контратаку. Вот тогда и сошлись артиллеристы в рукопашной. Враг был отброшен. Лишь потом до меня дошло: какое чудо, что жив тогда остался в той резне и не погиб, как многие мои боевые товарищи.
Прошли годы. «Вчера, – вспоминает ветеран, – День Победы отмечали. Мои парни говорят, что опять я во сне по-японски разговаривал и батареей командовал… Это уж, наверное, до конца дней…»
Пополнил ряды Бессмертного полка артиллерист Яков Ильич Катков в июле 1993 года. Просил похоронить во всем солдатском. Дорога солдата Великой Отечественной закончилась. А его правнучка, Анна Шадрина, ученица 2-го «Б» класса 86-й школы города Ижевска, в своем сочинении «Честь имею» написала:
«Мой прадед прошел всю войну, защищал Родину верой и правдой. Он не любил рассказывать о войне, а больше слушал разговоры о мирной жизни. Враг был повержен. На рейхстаге в Берлине наши бойцы написали: «Мы из Карелии», «Мы из Удмуртии». Как знать, может быть, это мой прадед артиллерист Яков Катков написал эти слова. Я не видела моего прадеда, но крепко его люблю за нашу Великую Победу».
Банька
Посвящается
Петру Егоровичу Ушакову –
моему дяде, фронтовику.
Баня, три на четыре, досталась мне вместе с купленным домом. Хорошая банька, но поначалу капризная, с причудами. За год регулярного протапливания, бывало, по два раза в неделю, характер баньки был познан, она стала мягче и послушнее. Никто из пробующих «первый пар» уже не угорал. Процесс посещения превратился в продуманное до мелочей действие, доставлявшее огромное удовольствие.
Суббота. Банный день. Так не нами заведено. Последнее время хожу в баню один. Открываю теплый предбанник. Захожу. Снимаю и вешаю на гвозди полотенце, одежду, часы. Почему часы? Да просто забываю их оставить в доме. На часах двадцать часов двадцать девять минут с «копейками». Дожидаюсь, когда «копейки» истекут. Дергаю массивную дверь парной. Процесс пошел. У меня на него уходит ровно сорок пять минут.
Не знаю, как другие, но веники я запариваю, предварительно заварив. Дело, в общем-то, нехитрое. Положу в таз пучок сушеной мяты, может, травки еще какой, развешанной пучками по стенкам холодного предбанника, и два веника: один свежий, другой – оставшийся от прошлой бани, заливаю все четырьмя ковшами кипятка. Это процесс заваривания. Банный ковш у нас большой – литра на два. Березовый дух, перемешавшись с мятным ароматом, растекается быстро и заполняет всё пространство небольшого уютного парного отделения.
На правую руку надеваю варежку, на голову –шляпу из грубого сукна, открываю крышку бака с горячей водой и заслонку каменки. Зачерпываю кипяток из бака и начинаю плескать его через заслонку на раскаленные камни каменки. Горячий пар плотным белым потоком с шипением вылетает обратно. На его пути держу на весу заваренные веники – это процесс их запаривания. После этой процедуры листья на вениках подсыхают и долго не отпадают. Плещу, пока опускающийся с потолка раскаленный пар не согнет меня до буквы «Г». Беру веники в руки и, как ящерица, вытянув шею, медленно вползаю на полок. Быстро двигаться не получается. При ускорении воздух обжигает, притормаживая малейшее движение. Перевернувшись, выпрямляюсь, нос отворачиваю в сторону, иначе с него слезет кожа. Помаленьку пекло спадает. Чувствую, нос можно повернуть в прокопченный потолок. Легко обмахиваюсь вениками, терплю горячий ветерок. Потихоньку сажусь. Сначала бережно, а потом нещадно хлещу себя. Отстегав бока и плечи, останавливаюсь передохнуть. Хорошо! Душа просит от тела песню и получает ее.
«Ой, мороз, мороз…» – потянется со звоном. Нет, как пою! Я ли это? Прогретый паром, окрепший голос пытается раскатить баньку по бревнышкам. А голос, голос! Переливается, переполняет, звенит и радует.
Время остудиться. Выхожу в предбанник, сажусь. Вот тут-то они и приходят – всякие мысли! То вспомню случай забавный, то чего-нибудь новенькое изобрету по хозяйству, а то сюжетец нового рассказика в голову придет. Мысль о баньке написать тоже, кстати, в предбаннике пришла. И ведь, что характерно, складно все так в баньке-то получается.
Вот и нынче сижу, жду. Ни одна тоненькая извилинка в голове не порадует. Жду дальше. Дождался! Поплавок мысли задрожал на ровной глади тихого омута воспоминаний и резко пошел ко дну…
– Серьга, веники замочил? Ты куда? На полок или под лавку? – прикрикивал мне мой дядька Петр Егорович Ушаков, фронтовик, сапер-дорожник, мастер по дереву, сейчас учитель по труду в школе, где я учусь в пятом классе. – Берегись! Поддаю! – и выплескивает ковш воды на раскаленные камни.
И так каждую субботу в шестидесятых прошлого века.
Банный день устраивался в семье Петра Егоровича всегда. Строго в субботу. И мысль у него была твердая – новый дом построить, большой, каменный, да баню покрепче. Эту мысль он мне в старой бане частенько сказывал.
После бани следовал ужин, обычно картошка в мундире да соленая селедка с хлебом и в обязательном порядке сто пятьдесят грамм, по мерке в стакане. Так было положено и закреплено семейным уставом. Водку пил Петр Егорович, сильно вытянув шею, – локоть с осколком после Сталинграда до конца не сгибался.
Принятые сто пятьдесят уносили его от нас в его саперный полк, в лихие дни, но былин про то, как воевал, я почти не слышал. Только обрывки коротких историй. Как в одном из подвалов украинского городка, оставшиеся в живых бойцы после дневного боя, не разобравшись в темноте, наелись, черпая голыми руками из бочки, горчицы, приняв ее за повидло. Как товарища держал на руках со смертельной, открытой раной в боку после бомбежки, да как ударил по врагу оглушительный гром тысяч орудий девятнадцатого ноября 1942 года
– Де-вят-над ца-тое ноября! Де-вят-над ца-тое ноября! Мать вашу… «Трам, тарарам» – с подвыванием и дребезгом в голосе начинал повторять захмелевший дядя Петя.
– Все! Дошел до ручки, – шептала тетя Полина Андреевна, жена фронтовика, и Петр Егорович отправлялся под руку почивать до воскресенья.
– Степь да степь кругом… – тянулась по пути до кровати русская народная, и все смолкало.
Полина Андреевна, заслуженный учитель, частенько сетовала, что Сталинград Петю до сих пор не отпускает:
– Он тогда, – рассказывала, – чудом жив остался, на шинели как-то раз одиннадцать разрезов от осколков снаряда насчитал, а ему только в локоть прилетел проклятый да в мизинец. Сознавался, что, когда фрицы бомбили наших в окопах, хотел высунуться из окопа, чтобы его убило, и разом кончить этот ад! Не дал товарищ, Махмудом звали.
Но как-то раз разговорился Петр Егорович, и курьезов хватало. – Сидим, – говорит – в окопах, мерзнем, в степь поглядываем, фрицев караулим. Они тоже сидят, видать к наступлению готовятся, Сталинград брать собрались…, ну и мы ждем подкрепления, последние сухари подъели. А тут фрицы придумали на машинах по степи гонять и в рупоры орут: «Рус, сдавайся! Рус сдавайся!» – И так третий день. Хрен им! А тут один солдат из нашего взвода азиатской наружности учудил. На штык винтовки свою шапку надел, из окопа её высунул, да как заорет: «Рус нет! Узбек надо?! Узбек надо?!» Не ожидали фрицы такой наглости, пулеметы застрочили, прямо уши затыкай. Шапка в дырах со штыка слетела. Узбек шапку поднял, натянул на голову все, что от нее осталось. По большой дыре с каждой стороны и без левого уха. Мы, кто был рядом, хохочем. А комвзвода крепко ругнулся и давай узбеку выговаривать, откуда теперь ему шапку взять, дурную башку от мороза спрятать. Но выход нашли. Ходил бедолага с перебинтованной головой, а потом, у друга, что погиб, позаимствовал.
А сейчас фронтовик спал, не видя картин страшной войны или снов постройки будущего нового дома с крепкой баней.
Позже Петр Егорович почти в одиночку построил новый двухэтажный каменный дом и баню рядом. Мебель из-под его рук от стульев до шкафов с большими зеркалами у многих в округе была, он и телевизор первым на улице купил. Вся улица, от мала до велика, тогда его целый год приходила смотреть. Всем места хватало…
– Да, размечтался я сегодня что-то! – картинки из шестидесятых растворились в моей голове и нарисовались висящие в предбаннике сушеные веники. – Пора ополоснуться.
Концовка банного процесса могла проходить с закрытыми глазами. На помывку головы уходит пять ковшей воды: три холодных, два горячих. Моя вехотка вверху, справа, на третьем гвозде от стенки. Шампунь, мыло – слева, как сядешь, на расстоянии вытянутой руки. На ополаскивание наливается в таз шесть ковшей: четыре холодных, два горячих. Двигаюсь четко, быстро, как самомоющийся автомат. Заключительный аккорд – набираю таз прохладной воды и со словами: «С гуся вода, с лебедя вода, с меня Сергея все скорби и вся худоба, на все времена» – выливаю его себе на голову. Кстати, тоже дядькина поговорка. Все!
– Спасибо, банька! Вот она русская твердыня! – говорю с сознанием глубокой благодарности и выхожу из парной. Смотрю на часы: двадцать один час, двадцать минут – на пять минут больше обычного. Дядьку Петра Егоровича вспомнил и всегда буду помнить.
Духов день
Рассказ из жизни после
Великой Отечественной войны,
когда на полках продуктовых магазинов
картошку было трудно найти.
В наших краях высаживать картошку по весне или в начале лета на небольшом участке было крепким правилом жизни почти всех заводчан послевоенного времени. Полоски окученных ровных рядков тянулись вдоль дорог, у кромок леса на сотни метров пригородных районов. Что ни говори, а несколько мешков картошки в своей овощной яме считалось делом обычным – оно по жизни сытнее и спокойнее.
Из года в год мы, большие любители жареной картошки, высаживали свою кормилицу на одном и том же участке в две сотки, что у железной дороги, в поселке Вараксино, как раз напротив дома тети Коки. Так мы звали тетю и одновременно крестную. Участок достался нам в наследство от родителей, точнее, от моей тещи, при жизни безраздельно управлявшей всем процессом посадки и выращивания нового урожая источника крахмала. Царство ей небесное.
В том году, начитавшись разных пособий для овощеводов, мною был предложен дополненный список потребных ингредиентов и новая последовательность операций, что, по сути, давало новую технологию посадки картофеля. Инновационная технология на заключительном совещании, конечно, не без замечаний и легкого ворчания, разбавленного иронией и неверием в светлый путь к картофельному благополучию, в целом была одобрена.
Высаживали в этот раз не картофелинами с прорастающими ростками, а самими ростками, срезанными с картофелин вместе с кожурой. Поскольку эксперимент был довольно рискованным – очень не хотелось остаться без собственной картошки – решено было создать наиболее благоприятные условия для прорастания ее ростков. Это строгая разметка лунок на участке: между рядами семьдесят сантиметров, а между лунками в ряду – по сорок, и все по мерке, и еще в каждую лунку кроме золы от колорадского жука решили положить по две рыбки свежемороженой кильки, купленной специально для такого случая в качестве удобрения. Все сделали, как задумали.
Через месяц настала пора окучивать нашу красавицу. Собрались, как ни странно, в понедельник, на следующий день после Троицы, то есть в Духов день. Говорят же, что в этот день землю лучше не тревожить, что она именинница. Так нет, пошли. Надо стало, не жить – не быть, проявить заботу о своей кормилице.
Пришли на наш подопечный участок. Какая перед нами открылась красота и парадность картофельного строя! Ростки взошли просто на радость: стройные, с ярко-зелеными толстыми стеблями – такие, что сопутствуют самым радужным ожиданиям картофельного изобилия. С какой стороны ни посмотришь – ряды прямые, кустики ровные, пушистые, одного ярко-зеленого цвета и роста – сантиметров по сорок, а стебли – с палец толщиной.
Участок мы быстро и дружно окучили, потом на его обочине покушали нехитрую стряпню, что с собой принесли, и, попрощавшись с нашей любимой тетей Кокой, направились вдоль улицы домой. Но отошли недалеко, всего на несколько домов, как вдруг из «худого угла» – так наш дед говорил – налетел волной порывистый ветер. Небо враз пугающе потемнело, а над нами нависла огромная свинцовая туча, предвещая редкой силы грозу. Возвращаться к тете не стали, только ускорили шаг, но, видно, напрасно. Под оглушительные раскаты небесного гнева на нас обрушилась стена воды. Сообразили, спрятались под узким навесом ворот ближайшего дома. Его хозяева, увидев толпу людей, терпящих бедствие в легких летних, уже промокших насквозь одеждах, приютили и гостеприимно напоили чаем. Вскоре и гроза прошла, может быть, за каких-то пятнадцать минут; побушевала, от души пошумела, высказала все, что хотела, и внезапно растворилась, как и появилась. А мы, чуть обсохнув и поблагодарив хозяев, откланялись и, шлепая по лужам, поспешили домой, на Малиновую Гору. И все бы ничего, да как-то тревожно стало на душе.
Пришли через неделю снова проведать свою чудо-картошку. Какая жалкая картина предстала перед нами. Гроза загубила все наши старания. Участки с картошкой, те, что у соседей справа и слева от нашего, совершенно не пострадали, и только наш был похож на месиво грязи с погибшей зеленью кустов. Грязный поток с горы, что сейчас называется Липовой Рощей, во время грозы прорвался сквозь главную улицу Вараксино, лавиной сполз к железнодорожному полотну и растекся по нашему участку, не оставив в живых ни одного кустика экспериментальных насаждений.
Ну что теперь делать? Что случилось – то случилось. Какие тут могут быть объяснения? Со стихией не поспоришь. Видимо, это знак свыше – не получится из меня картофельный Мичурин, или теща на небесах обиделась за новый способ посадки на завещанном участке. Но все окончательно согласились с версией, что наказаны мы за наше непослушание – потревожили землю в Духов день.
Участок с той поры у нас пропал, и картошку мы больше не садили ни по-новому, ни по-старому.
Поедем, посидим
Рассказ из историй, случающихся
в общественном транспорте.
У нас, на заречной стороне города, если надо что купить из приличных вещей, так не всегда и найдешь. Частенько приходится ездить в центр города на автобусе. Наша заречная слобода уж два века вроде спального района. Из магазинов только продуктовые да хозяйственные с одним прилавком, а все остальные удовольствия «на горе» – так раньше старики говорили, то есть в центре города, что на другом, высоком, берегу реки и городского пруда. Зато у нас воздух чище, его-то уж точно в центре не купишь.
Поехала нынче моя благоверная Лариса Семеновна, в прошлом предприниматель и успешный руководитель небольшой строительной фирмы, а в настоящее время домохозяйка и пенсионер, в центр, точнее, в ветеринарную аптеку. Наш алабай по кличке Рахим заболел: чуть ходит по двору, а больше отлеживается в своих апартаментах. Ветеринарных аптек на нашей заречной стороне, конечно, нет. Позвонила жена в справочную, и ей сказали, что нужное лекарство для нашего алабайчика есть только в ветеринарной аптеке около известного в городе базара, ранее называвшегося сенная. Ветврач посоветовал взять лекарство «Гамавит», уверил, что поможет. Вот Лариса Семеновна и покатила. Туда доехала на общественном транспорте без приключений, взяла лекарство, прошлась по базару – как без этого – и собралась обратно. Сначала села на троллейбус, потом у завода «Ижсталь» пересела на автобус.
Вот тут и случилась с ней эта коротенькая история. Но если приглядеться, то, я бы сказал, что история из разряда приоткрывающих занавесочку в мир человеческого бытия, с полной радугой душевных состояний.
– Зашла я, – рассказывает Лариса Семеновна, – в автобус, огляделась – мест свободных поблизости не оказалось, встала, держусь за поручень у передней двери, рядом с местом для кондуктора. С переднего одиночного сидения, что под значком «места для инвалидов и пассажиров с детьми», поднялась молодая женщина и предложила мне сесть. Я ее поблагодарила, присела. Проехали до следующей остановки. Тут в автобус с трудом поднимается пожилая женщина и, как говорится, с порога, требовательно так, громко, на весь автобус, обращается ко мне: