Пограничник
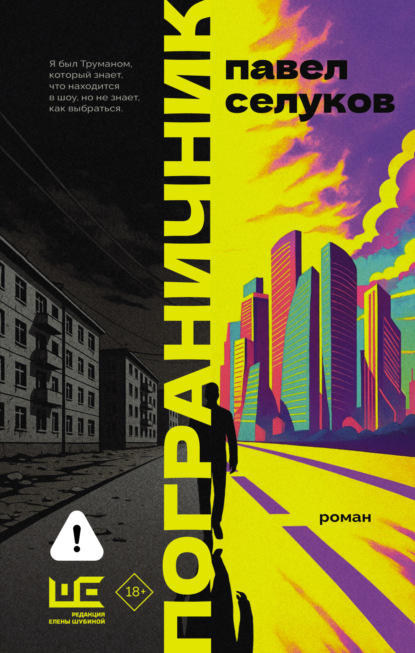
- -
- 100%
- +
Я отвлекся. В седьмом классе нашу параллель охватило новое увлечение – выяснить, кто самый сильный боец в этой самой параллели. В нашем классе учился третьегодник Витя Зюзя Чупа-чупс. Он был на голову выше нас, такой дяденька среди детишек. Однажды мы с Витей подрались. Он оторвал рукав моего пиджака, а я кинул в него цветочным горшком, но не попал. Нас разняли девчонки. Все они были пацанками, хоть и красивыми. Я понимаю, что это неправда, но мне помнится, что все наши девчонки были красивыми. Объективно красивой была Настя Спиридонова – бледная волоокая брюнетка с рано поспевшей грудью. Мне кажется, мы так тогда красоту и воспринимали: поспела – красивая, не поспела – расти над собой. Вообще девочки ставили нас в тупик, потому что в зоне девочек нет и наши понятия, исторгнутые оттуда, обращению с ними в принципе не учили. Нет, там был запрет на еду-питье после девушки, практиковавшей оральный секс, и запрет на куннилингус, но в положительном ключе о девушках там не говорилось. Мы как бы жили в зоне, не живя в зоне, да еще и с таким неопределенным фактором под боком, как девушки. Большинство из нас их сторонились. Но чем старше мы становились, тем сильнее нас к ним тянуло. Девчонки же жили своей женской зоной, заигрывали с нами и были такими свободными, что казались нам чокнутыми. Чтобы хоть как-то растормошить инертность нашей касты, девочки придумали анкеты. Там были всякие личные вопросы, мальчик на них отвечал и отдавал девочке, а девочка давала ему точно такую же анкету, только заполненную ею. Бумажная версия Тиндера. Первой с такой анкетой подошла Настя Спиридонова. Избранником был Яша Тихий, брат Витамина. Настя протянула тетрадь и сказала:
– Тут анкета. Заполни, пожалуйста.
– Нафига?
– Взамен я тебе свою отдам.
– Нафига?
– Узнаем друг друга.
– Нафига?
Настя взорвалась:
– Людское потому что! Заполни, блин!
– Ладно.
Вскоре в игру с анкетами включился весь класс, кроме меня и Вити, нам анкет никто не предлагал. Я не подавал виду, но в глубине души переживал. Идет в мою сторону какая-нибудь девочка с тетрадкой, я в стойку – сейчас анкету даст! Нет, мимо. Прошел месяц. Я пошел за школу на турники, на лавке сидел Витя, курил сигарету или «шабил сижку», как он говорил. Я поздоровался:
– ПТ, Витя.
– Падай.
Я сел. Выждав, спросил равнодушным тоном:
– Тебе девчонки анкету давали?
– Не.
– И мне. Почему, думаешь?
– Да страшные мы. Ха-ха-ха!
Витя это так сказал, так засмеялся и так быстро ушел, что сейчас бы я подумал – вешаться. Тогда я истолковал его слова в пользу собственной опасности. Я такой опасный, что девчонки боятся со мной связываться. Как Ван Дамм. Хотя с Ван Даммом девчонки постоянно связывались. Вот – как Боло Янг. Я – Боло Янг. В юном возрасте, да и в любом, сложно набрести на мысль, что ты можешь просто не нравиться, что тебя могут просто не любить.
Но вернемся к выявлению самого сильного бойца в параллели. Не знаю, кому в голову пришла эта грандиозная идея, но одобрение она встретила во всех классах, даже в умненьких «А» и «Б». Что-то древнее наползло на нашу параллель: большие пальцы, опущенные вниз, лавровый венок на челе, гладиатор, забрызганный кровью. Сейчас мне кажется, что дело было не столько в зрелище, сколько в сладком гаденьком чувстве, когда бьют другого, не тебя, а ты в шаге от опасности, но шаг этот защищает тебя вернее бетонного забора, поэтому ты одновременно и зритель, и участник драки.
В «Е» классе вслед за преподавателями могли исчезнуть какие угодно предметы, неизменными оставались труды, музыка, театр и шахматы. Последние два держались на энтузиазме учителей. Денег за свою работу они практически не получали, это были крохи даже по сравнению с зарплатами педагогов, которые вели базовые предметы. Театр преподавала Анжела Борисовна. Помню, мы ставили какие-то незатейливые пьески, много ржали и постоянно ходили красномордыми то ли от смущения, то ли от свободы. На урок театра мы шли смущенными, потому что не знали, чего ждать, не знали такой свободы, а уходили счастливыми, потому что ее распробовали. Воровской закон, блатная оптика, феня, ужимки сползали с нас, мы снова становились детьми. Но стоило нам покинуть кабинет, как все возвращалось. Однажды мы с Антипом сидели на лавке после театра, Антип курил. В его лице доплясывала свобода, какая-то хитрая радость Емели, поймавшего щуку, он играл его в спектакле и будто бы все еще был им там, на сцене. Но вот его лицо захлопнулось, как забрало рыцаря, стало плоским, мрачноватым. Антип отщелкнул сигарету в клумбу и резюмировал:
– Ладно, чё. Поморосили, ваньку поваляли, и будет.
Я заинтересовался:
– Что будет, Антип?
Антип вздохнул, как двенадцатилетний взрослый, и ответил:
– Ничего хорошего.
Шахматы вел Дмитрий Павлович, которого все звали Дмитрий Палыч. То ли язык стремится к лапидарности, то ли туда стремился Дмитрий Палыч. Работал он машинистом на железной дороге, рано вышел на пенсию и пришел в школу преподавать шахматы и вести шахматный кружок. Денег за это ему не платили вовсе. Дмитрий Палыч любил шахматы. Он был советским кандидатом в мастера спорта. Загаром, лысиной – она ему шла, диким темпераментом – он часто швырял фигуры по доске, попав в цейтнот, привычкой нависать над доской и обхватывать голову руками Дмитрий Палыч здорово походил на Каспарова[1]. За глаза мы называли его Кимыч. Кимыч – это отчество Гарри Каспарова.
К шахматам я пристрастился легко и быстро. Это как с детьми: сначала учишься ходить, потом ходишь, а потом начинаешь думать, куда пойти. Собственно, думать, куда пойти, и ходить, куда подумал, это и есть шахматы. А еще, в отличие от нардов и покера, в шахматах нет встроенного элемента удачи. Никакой вам сильной руки или кубиков, выпадающих шестерками. Одинаковые фигуры, одинаковое количество времени. Все зависит от тебя. Но в этом и жестокость шахмат. В покере и нардах ты можешь сказать – не повезло! В шахматах ты так сказать не можешь. Кимыч быстро заметил, что я не умею проигрывать. Бешусь, швыряю фигуры. Поэтому он стал играть со мной лично. Каждый раз я проигрывал, а он заставлял меня разбирать эту партию. И показывал мне, где я повернул не туда. Заставлял меня учиться.
Шахматный клуб находился в подвале школы, где была и столярная мастерская. Туда вел отдельный вход с торца здания. После школы я шел в клуб, и мы с Кимычем играли три партии в рапид, разбирая потом каждую. Мы играли третью, я свистел в эндшпиле без пешки, когда в клуб спустился Антип и встал у нашего стола. Я бросил взгляд – у Антипа было такое лицо, будто он вот-вот начнет повизгивать. Кимыч предложил ничью, я пожал руку, но заметил:
– Тут проиграно.
– Нет. Пешка крайняя, король в квадрате. Оппозиции нет.
Я посмотрел на доску еще раз, посчитал:
– Темп в темп.
Кимыч улыбнулся.
– Темп в темп.
Кимыч ушел, оставив мне ключи от клуба. Напоследок он посмотрел на меня с укоризной. Это из-за того, что я до сих пор не решил этюд. Кимыч подарил мне штук тридцать советских шахматных журналов «64», где много задачек и этюдов. И партий Карпова с Каспаровым. Мы это всё решаем и изучаем.
Едва Кимыч вышел, Антип сел на его место и внимательно на меня посмотрел. А потом взахлеб рассказал про турнир. Шесть классов в параллели, шесть бойцов, каждый с каждым, один на один, после уроков, первый бой завтра, с Арсением Бузыкиным из «Г», за школой на спортплощадке, где турники. Я кивал, потом уточнил:
– А Зюзя?
– У Зюзи усы, конь такой. С ним никто драться не будет.
– Ладно, я в деле.
– Ништяк. Завтра в два. В школе еще словимся.
Антип убежал, а я вспомнил. У меня была тайна. Вот уже полгода. Я никому о ней не рассказывал. Знала только сестра, но ей было пять, поэтому не считается. Каждый день по будням ровно в 14:20 я смотрел сериал «Элен и ребята». Это девчачий сериал, вдруг вы не видели. Там три девушки и три парня живут в Париже, учатся в университете и играют в рок-группе. Все это по отдельности – Париж, универ, рок-группа – было мне не очень интересно, но всё вместе – глаз не отвести. Не знаю, почему я их так любил. Наверное, мне не хватало нежности и дружбы, хотелось в мир без насилия, в мир доброты, где люди красиво улыбаются, смеются, песенки поют. Уже тогда во мне проявилось это свойство – проникать в чужой мир и поселяться в нем, он становился для меня таким же реальным, как мир вокруг. Когда я смотрел «Элен и ребята», я смотрел «Элен и ребята», больше ничего. Никакие звуки из этого мира не долетали до меня, никакие мысли из этого мира не отягощали меня, я будто физически находился там, а не тут. Это был эскапизм, но эскапизм высшей пробы – я не бежал от реальности, я менял одну реальность на другую, как меняют перчатки: раз – белые, раз – черные.
На футбольном поле за школой собралось человек пятьдесят. Я смотрел на песок под ногами, тут и там усеянный острыми камешками. Накануне я волновался и с трудом уснул. Перед соревнованиями со мной происходит то же самое. Раз за разом я прокручиваю в голове сценарии боя. Если он правым прямым, я влево и на скачке в печень, если он джебом, я на подшаге подсеку из приседа, если он лоу-кик, я навстречу маваши гери и так далее и так далее. В иных сценариях я выдавливал сопернику глаза, в других перегрызал глотку, где-то ломал пальцы. Чудовищная смелость этих действий внутренне меня окрыляла и добавляла железобетонной уверенности. Я знал, что в своем желании победить способен зайти дальше моего соперника, а значит, больше заслуживаю победу и непременно ее отпраздную.
Я посмотрел на часы – 14:05. Мой противник опаздывал. Я пнул камешек. Если схватка перейдет в партер, все брюки изорву, надо заканчивать в стойке. Подошел Антип, я отдал ему портфель и часы. Потом вышел в круг. Народ гомонил, но я не вслушивался. Я стал спокойным до флегматичности, сонным даже. Будто организм сам по себе экономил силы для решительных действий.
14:10. Подошел мой соперник Арсений Бузыкин из 7 «Г», встал напротив меня и глуповато завращал кистями, сцепленными в замок. Я пишу «Арсений», потому что он действительно был Арсением, а не Сеней. Блондин, серьезный, чуть повыше меня, спортивный, красивый, с модельной стрижкой и в дорогом костюме из магазина, а не с рынка. Я начал снимать пиджак. Когда он сполз на локти, Арсений метнулся ко мне, схватил за волосы и три раза ударил коленом. Кому-то это покажется подлым, но это не так, просто Арсений меня боялся, вот и решил воспользоваться, а так он хороший. Все заорали. Он думал, что бьет в лицо, но бил в лоб. Он думал, что бьет костью, но бил мягким бедром. Сзади подлетел Антип и сдернул пиджак с моих рук, я тут же оттолкнул Арсения и встал в стойку. Все замолчали. Только Арсений зачем-то заговорил:
– Я тебя щас уделаю, сдавайся лучше.
Арсений стоял в левосторонней стойке, он был левшой. Правая впереди, левая у подбородка. Я был в правосторонней. Сократив дистанцию до средней, я начал отводить правую руку Арсения своей левой. Арсений зачастил:
– Чего ты добиваешься? Сдавайся, я тебя уделаю!
Отведя руку Арсения в третий раз, я пробил правый прямой между рук. Из носа Арсения хлынула кровь. Он обхватил нос двумя руками. Я тут же пробил в печень. Арсений сел на корточки. Я обрушил на него град ударов ногами, Арсений растянулся на песке. Я отступил и огляделся. Антип и все наши улыбались и недружно похлопывали в ладони. Они знали, что я его отделаю, их интриговало, отделаю ли я всех самых-самых из параллели. «Самых-самых» я приплел из фильма «Любовь и поножовщина» с Адриано Челентано. Там в каждом районе Рима были самые-самые, и они занимались такой же ерундой, как и мы, только на ножах, а ведь взрослые вроде люди.
Я еще раз оглядел толпу, которая уже расходилась. На большинстве лиц была грусть несбывшейся надежды. В нашей вселенной Арсений был положительным героем, а я отрицательным. Все классы, кроме моего, хотели, чтобы он победил. Добро победило. Но оно проиграло. С ним это часто.
14:20. Я схватил рюкзак, забрал у Антипа часы и побежал смотреть «Элен и ребята». Там Кри-Кри подсел на наркотики, и я решил, что никогда не подсяду на наркотики. Какая ирония. Через неделю я опять вышел в круг.
Те соревнования я выиграл. Пять драк, пять побед, быстрых и злых, не обременивших меня даже одышкой. Тогда эти победы казались мне подтверждением моей исключительности, торжеством духа. Теперь я понимаю, что торжеством духа было бы отказаться драться, не играть по чужим правилам. Хотя, возможно, лет через пять мне покажется торжеством духа не писать этот роман или, по крайней мере, никогда его не издавать.
Из «Е» класса я исчез так же внезапно, как туда попал. В августе мы играли в футбол, на поле пришел Андрей Хомяков, тихий мальчик с челкой и круглыми щеками, и сказал мне, что нас с ним переводят в 8 «Б». Событие было чудовищным. Во-первых, это был самый умный класс в параллели, а во-вторых, там училась Лена Лопатина – красивая брюнетка с голливудскими зубами, рано повзрослевшей грудью и смуглой, как у цыганки, кожей. Однажды я прочитал «Тараса Бульбу» и вдохновенно пересказал на уроке. Это был разовый случай, когда я что-то прочитал. Наша учительница Вера Павловна Головня рассказала о моем подвиге всей параллели. Через пару дней на перемене к нам зашла Лена в расстегнутой норковой шубе и громко спросила:
– Где Паша Селуков?
Я испуганно признался. Лена подошла ко мне, обняла, прижавшись грудью, и поцеловала в щеку.
– Это за Тараса Бульбу. Молодец.
Разумеется, я тут же в нее влюбился. А теперь представьте – меня переводят в самый умный класс параллели, да еще и к ней! Как это пережить в тринадцать лет? У древних греков есть четыре разновидности любви: эрос, филия, агапэ и сторге. Или эротическая, дружественная, божественно-жертвенная и семейная. Моя любовь к Лене, да и к большинству женщин в моей жизни – это агапэ. Эрос был мне недоступен, ведь в лагерных понятиях секс – инструмент насилия, доминации. Как говаривал мой приятель Пейджер: «Ты что, в живого человека хуй засунул?» Мне казалось, если я пересплю с Леной, она станет частью лагерной тьмы, ее свет померкнет. Лена была моим цыганским божеством, которому я поклонялся. Я не понимал, что Лена созрела, что она хочет иного, я только знал, что «трахают “петухов”». Я искал свет, Бога и нашел этого Бога в Лене.
В 8 «Б» меня невзлюбили все, кроме Лены, – от классной руководительницы Суховой до одноклассников. Как-то они украли на перемене мой портфель и наплевали в него. Я нашел его на высоченном шкафу. Надо было отвечать, и я ответил – избил трех самых крепких одноклассников. На выбор.
Программа «Е» класса сильно отставала от этой, особенно плохо я разбирался в математике, физике и химии. Химичка, женщина лет пятидесяти с лицом тяжелым, как у Татьяны Толстой, и опытом преподавания в ПТУ, к доске меня не вызывала и давала отдельные задания, чтобы я хоть что-то понял. Математичка Сухова и физичка, ее звали Шуша, дергали меня к доске каждый раз. Решить их примеры я не мог, три года у меня практически не было этих предметов. Как-то раз я тянул время до звонка, оставалось пять минут, я очень медленно мыл доску, потом уронил тряпку, нагнулся, чтобы поднять, и как бы нечаянно пнул ее в другой конец класса. Все засмеялись, кто-то громко констатировал:
– Был дебил, теперь клоун.
Все засмеялись еще громче. Лена вскочила, вышла к доске, схватила мел и написала ответ. Класс заткнулся. С того дня мы после уроков сидели с Леной в библиотеке, она помогала мне с предметами. Ей тоже доставалось. Недели через две Сухова позвала меня к доске:
– Селуков. Или ты, Лена, пойдешь?
Кто-то крикнул:
– Лена Селукова!
Мое сердце куда-то ухнуло. Больно уж сладкозвучным оказалось словосочетание. Знаете, я хотел бы составить человеческие портреты Суховой и Шуши, но не могу, ничего человеческого я в них не разглядел.
Все эти придирки, двойки, стояние у доски наверняка озлобили бы меня, и будь это тогда на слуху, я пришел бы в школу с ружьем, но из-за того, что все эти придирки, двойки и стояния у доски подарили мне Лену каждый день на два часа, я был им даже благодарен и с каким-то наслаждением принимал очередное издевательство, стоически его снося и представляя глаза Лены.
В конце восьмого класса за двумя верхними передними зубами у меня выросли еще два зуба. Стоматолог не разрешил их удалять, по его мнению, они должны были вырасти полностью. По моему мнению, я превратился в уродца. Подходя к учителям или к одноклассникам, которые сидели, я разговаривал, почти не открывая рта, чтобы никто не увидел моих дополнительных зубов. Говорил я плохо, неразборчиво. Через неделю меня вызвали к за-вучу, где была и Сухова. Завуч сказала:
– Позови маму завтра к двум. Мы готовим твой перевод в школу для умственно отсталых. Речь у тебя никакая, по предметам двойки.
Сухова добавила:
– Еще и агрессивный. Нечего тебе у нас делать, Паша. Там тебе будет лучше, на твоем уровне.
Я кивнул, вышел из кабинета и сел. Сначала 89-я школа, потом 3 «Г», 5 «Е», 8 «Б», теперь вот умственно отсталая. В умственно отсталую я решил не идти. Задумал уехать автостопом на юг и там что-нибудь придумать. Формулировал я так: обстряпаю там фартовое дело. Поймите правильно, родители меня любили, просто у мамы появилась Даша, моя сестренка, а отец впахивал на двух работах. Я никого не оправдываю, это невозможно хотя бы потому, что я никого не осуждаю. Я уже тогда понял – работать нужно с данностью, в противном случае работать не с чем.
Я сидел на лавке и фантазировал темпераментный грабеж, когда рядом села Лена и бросила на меня обеспокоенный взгляд:
– Что случилось?
– Ничего.
– Я серьезно.
– Меня переводят в школу для умственно отсталых.
С сидячей Леной я говорил нормально, но тут она вскочила, и я стал прятать лишние зубы языком. Лена воскликнула:
– Кто переводит? Почему?
– Вавуч. Плохо голорю.
– Ты только что нормально говорил. Я наблюдала – сидя нормально, стоя шепелявишь. Почему?
– Ни потиму!
Лена шагнула ко мне и обхватила мою голову руками, откинула и подняла вверх. От ее горячих рук во мне все обмерло.
– Открой рот! Быстро открой! А-а-а!
Лена показала, как открыть. Я открыл. Не думал, что так трудно открыть рот. Лена рассмотрела лишние зубы и отпустила меня.
– У тебя лишние зубы выросли?
– Да.
– Поэтому ты так говоришь?
– Да.
Лена обняла мою голову, прижала к себе, поцеловала в затылок, отстранила, заглянула в глаза.
– Дурачок ты мой. Пошли.
– Куда?
– К завучу.
– Лена!
– Паша!
Лена потащила меня за руку в кабинет завуча. Там я второй раз за пять минут обнажил рот. Мне было плевать. Она сказала: дурачок ты мой! Ее!
От меня отстали, перевод не состоялся.
Параллельно школе происходило дзюдо. Я тренировался пять раз в неделю. Школа, дом-уроки, дзюдо, сон. В выходные помогал отцу с машиной, безошибочно считывая его недовольство моим равнодушием к технике. Из происшествий помню только случай в девятом классе. Сестре было семь, мне четырнадцать. Она прибежала с улицы зареванная и с царапиной на щеке. Соседские мальчишки Дима и Ярик, на год меня младше, вымогали у нее деньги на мороженку и поцарапали ножиком щеку. Я спустился вниз и избил обоих. Ярик обкакался, я попал ему носком ботинка в печень, боль его ослабила. У Ярика был брат Серега, на два года меня старше, все детство я его боялся. У него передо мной была психологическая доминанта. Естественно, Серега пришел мстить за брата. Но к тому времени со мной что-то случилось. Я перестал чувствовать себя частью семьи, школы, секции, я понял, что один. Это чувство, когда ничему не принадлежишь, здорово меня освободило. Сереге я прошел в ноги, повалил, взял руку на болевой и вывихнул плечевой сустав.
В девятом классе дела в школе наладились. Вернее, меня перестали замечать, смирились с моим бессмысленным присутствием. Я сидел у турников, курил, подошла Лена.
– Паша, я влюбилась в Сашу Павлюченко! Мы с ним встречаемся.
Я молчал. Саша Павлюченко – это смазливый брюнет годом старше. Отец ему машину дает по району покататься.
– Паш, не делай с ним ничего, ладно?
Я почему-то захотел спать. Будто вся усталость, которую я знал в жизни, легла мне на плечи. Губы сказали:
– Не буду.
– Он классный. Я вас познакомлю. Вы подружитесь.
Я не хотел этого, но Лена все время проводила с Сашей и его компанией, поэтому я покорился и стал гулять вместе с ними. С точки зрения иерархии «Е» класса, Саша и его компания относились к мужикам, а некоторые ниже. Они пили на веранде пиво, я смотрел на них и не мог понять – почему она выбрала его, а не меня, я ведь дерусь лучше!
После школы я часто провожал Лену домой, она жила на другом конце Пролетарки. Мы курили, я нес ее портфель. Мы не обсуждали, но, кажется, нам обоим эта старомодность казалась милой и какой-то сближающей. В этом изменчивом мире мы могли, по крайней мере, опереться на Ленин портфель в моих руках.
Возле Лениного дома мы зашли в киоск «Сюрприз» и купили сигареты, моя пачка закончилась. На выходе к нам прицепились старшаки – Жданов и Вова Бумага. Жданов был высоким и тощим. Он так быстро говорил, что понимали его только избранные. Вова был обычный, но с такими ушами, будто взлетит. Оба были старше меня на два года. Бумага попросил:
– Угости сигаретой.
Я раскрыл пачку, Бумага ловко вытащил почти все сигареты, после чего они с Ждановым быстро ушли. Я растерялся и, получается, позволил себя отжать. Я, получается, лох. Это было немыслимо. Лена высказалась:
– Блин, да забей на них! Купить сигареты?
Я помотал головой. Лена поцеловала меня в щеку, взяла портфель и ушла. Я умер от стыда и пошел домой, где взял подкову, нож, переоделся в спортивное и через полчаса нашел Жданова, Вову и Илью Поносова на пятаке. Не мешкая, я подсек Жданова и ударил подковой Вову. Подковой получилось по касательной, Вова сел на задницу. Жданов упал, но тут же вскочил. Я достал нож. Жданов, Вова и Поносов бросились бежать, я бежал за ними, но передумал.
Кому-то может показаться чрезмерной такая реакция на отобранные сигареты, но никаких сигарет не было, было унижение на глазах любимой женщины. Помню, в голове звенела грозная пустота, и заполнить ее могла только месть. Если б дошло, я бы не задумываясь ударил ножом любого из них. Ну, кроме Ильи, он ни при чем. Единственное, за что я себя ценил, если не сказать – терпел, это храбрость и умение драться. Эти двое попытались украсть мою суть.
На следующей день после школы меня ждали Панц и Пейджер – старшаки. Они тоже были из «Е», только этажом выше. Через полгода Панц и мой одноклассник Витя Зюзя Чупа-чупс напьются бормотухи и полезут грабить квартиру на второй этаж в бараках. В квартире будут муж и беременная жена. Муж возьмет топор, убьет Витю, голова повиснет на лоскуте кожи, как у Почти Безголового Ника, Панц выживет, отделается титановой пластиной в голове. Тогда его и станут звать Панцем от слова «панцирь», а сейчас я зову его Панц, потому что не помню, как его звали до топора. Топор дал Вите надгробие, а Панцу – имя. Довольно щедрый топор.
Пока же Пейджер преградил мне дорогу и сказал:
– В восемь вечера на пятаке у почты.
Панц присовокупил:
– Лучше сразу закусон неси и пойло.
Так мне забили первую в жизни стрелку. Звать с собой мне было некого, да я и не хотел. Нож, подкова, спортивный костюм. Я, наверное, боялся, просто надвигающийся новый опыт, казавшийся мне колоссальным, растворил страх, превратив его в волнение, как перед соревнованиями.
До стрелки оставалось пятнадцать минут. Я сидел во дворе соседнего с почтой дома, настраивался. Я знал, что старшаков будет толпа, знал, что повалят и будут пинать, но надеялся зацепить хоть кого-то.
Из подъезда вышел парень лет восемнадцати и сел рядом. Я нагнулся завязать шнурки – из джинсовки выпал отцовский охотничий нож. Парень отреагировал:
– На охоту собрался?
– Нет.
– А куда?
– Есть дело.
– Какое?
Я посмотрел на парня – чернявый, гибкий, смуглый и с таким телом, какое бывает, когда много подтягиваешься на турнике. Черная водолазка с горлом, черные джинсы, черные тупоносые туфли. Цыган? Видимо, оттого что парень был мне не знаком, я выложил ему всё. Общеизвестно – быть откровенным с незнакомцем легче, чем с женой. Нет контекста, то бишь истории, а раз нет истории, то нет и героев, а раз нет героев, то и больно делать некому, а раз некому, то можно говорить что думаешь, не опасаясь. Иногда мне кажется, что чужой боли мы боимся больше, чем собственной.
Парень посмотрел на меня внимательно, его черные глаза заблестели. Протянул руку.
– Олег.
Я пожал. Твердая, как перила.
– Спортик. Эээ… Паша.
– Я щас домой забегу, дождись меня.
Я кивнул. Олег ушел. Через пять минут он вернулся с пластиковой бутылкой из-под лимонада «Уралочка» и дал ее мне. Я уставился:








