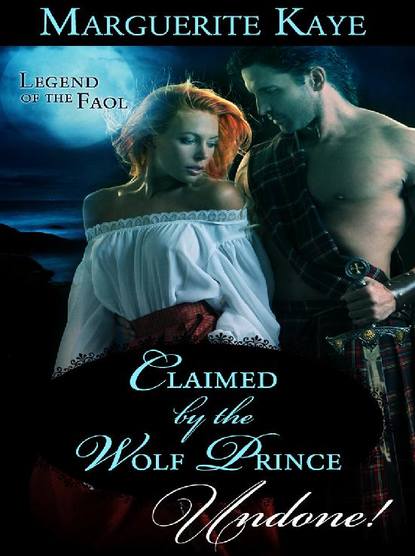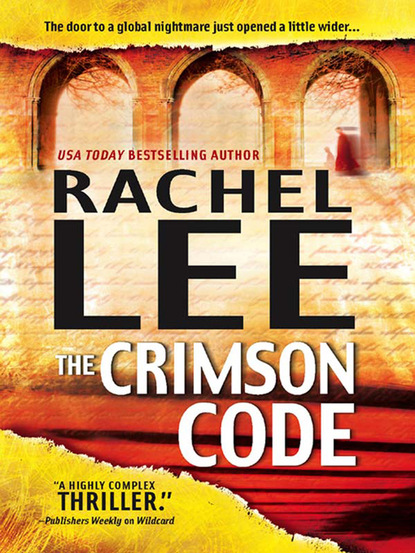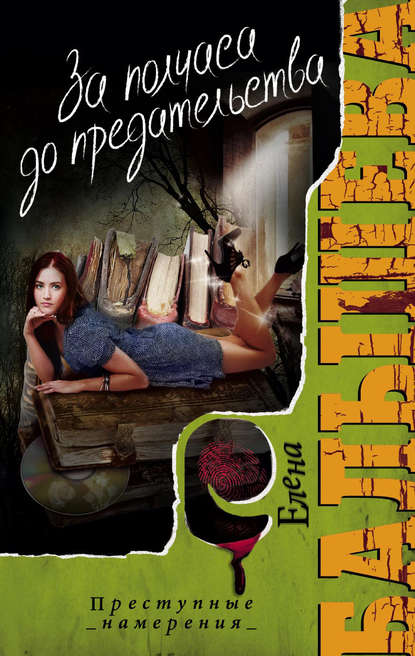Пограничник
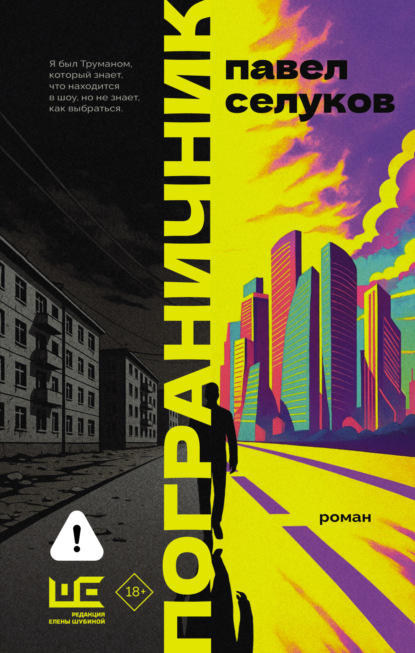
- -
- 100%
- +
– Это что?
– Вода. Подойдешь на пятак и скажешь: «Пейджер, ты хотел бутылку, вот бутылка, Панц, ты хотел пойла, вот пойло». Повтори.
Я повторил, но у меня были возражения.
– Меня убьют.
– Just do it.
– Чё?
– Просто сделай это. При твоих раскладах это лучший вариант.
Олег посмотрел на часы. Они были массивными, блестящими, я раньше таких не видел.
– Мне пора. Удачи.
Я остался один. Спрятал бутылку в карман. Достал нож из ножен, опустил его лезвием вниз во внутренний карман джинсовки, встал, переложил подкову в задний карман боком, чтобы сразу легла в руку. Я устал ждать, я хотел, чтобы уже состоялась эта стрелка, чтобы меня побили, убили, я бы попал в кого-то подковой, воткнул нож, пусть будет больница, тюрьма, смерть, лишь бы действия, лишь бы я вышел из предбанника ожидания, муки воображения.
Я посмотрел на часы. У меня они командирские, желтые, дедушка подарил. Это сейчас я могу называть его «дедушка», а тогда он был для меня исключительно «дед». Дед родился в 1947 году от мамы, которую знал, и от офицера, которого так никогда и не увидит. Офицер, узнав о беременности уже в Москве, он был родом оттуда, напишет прабабушке письмо, предложит помогать деньгами. Прабабушка откажется. Она была гордой, глупой и молодой. Дальше бараки, Мотовилихинские заводы, тяжелый героический путь матери-одиночки. Правда, героический и тяжелый он только снаружи, изнутри баба Рита не унывала – ходила на заводские дискотеки, пыталась обрести личную жизнь, пела деду перед сном «Журавлей» и «Катюшу». Дед был не только ее ребенком, он был ребенком барака. Каждый сидел с ним понемножку, каждый что-то ему говорил, как-то воспитывал. В четырнадцать лет дед бросил школу и пошел на завод. В шестнадцать он встретил мою бабушку, она была двумя годами старше, они скоропалительно поженились. С точки зрения нашей эпохи скоропалительно, с точки зрения их эпохи все было естественно. Через два года дед ушел в армию и попал в ВДВ. Тогда дедовщины не было, поэтому дед прыгал с парашютом, а не красил газоны. Напрыгал он шестьдесят прыжков, чем всю жизнь гордился. Голубой берет и значок парашютиста извлекались из шкафа каждое 2 августа и водружались на свои места с физической значительностью. Пока дед был в армии, через девять месяцев, как он ушел, бабушка родила мою маму. Ее назвали Лена. Из армии дед пришел через три года. Его попросили остаться на год инструктором, и он остался. Пришел дед не с пустыми руками – купил по дороге килограмм лимончиков. Это такие желтые дешевые конфеты в сахаре. Взяв одну в руку и пососав, мама швырнула конфету на пол и захныкала. Бабушка вручила деду мусор и лимончики.
– Выбрось. Лена ест только шоколадные.
Бабушка не знала, какую очередь отстоял дед за этими конфетами и как корил себя за дополнительный год. Он и согласился-то из-за полковника Арсеньева, который прошел всю войну, герой Сталинграда, Берлин брал, таким людям не отказывают, но надо было отказать. Стоя посреди кухни с мусорным ведром и лимончиками, дед почувствовал, что потерял семью. Конечно, это было не так, постепенно бабушка, он и моя мама сложатся. Но сложатся криво. Каждый раз, продавливая что-то свое, дед будет орать. Это нельзя назвать абьюзом, скорее это крик сидящего в очереди, которого пытаются оттереть от кабинета. Дед отчаянно хотел быть отцом и мужем, просто ему повсюду мерещилось покушение на эти статусы, и он с этими покушениями нервно воевал. Со временем бабушка научилась предупреждать и гасить эти вспышки, воевать с ней деду стало неинтересно, он проигрывал, поэтому он переключился на дочь, потом на вторую дочь – Марину, но и с девчонками воевать было неинтересно, затем появился мой отец, с ним дед повоевал недолго, отец мог просто его убить, но зато, когда родился я, у деда появился идеальный объект для воспитания, утверждения. Не скажу, что дед ко мне как-то особо цеплялся, просто он подмечал мои несовершенства и незамедлительно об этом сообщал с довольным лицом. К пятнадцати я стал совершенен – пиджак не мят, рубашка бела, туфли сияют, ногти не обкусаны, волосы расчесаны, уши почищены, пушок на лице сбрит.
Посмотрев на часы, я вспомнил про деда, не про все, что я сейчас написал, а про шестьдесят прыжков с парашютом. Он падал в бездну, а я к людям боюсь идти? Сижу тут, как мороженая рыба. Я сунул руку в джинсовку и сжал нож. Кинутся – бей! И подковой. Прямыми, коротко. И пяться. Не по прямой, зигзагами. Не беги. А если побежишь, подпусти поближе и присядь, споткнутся – добьешь. Палку бы. Загонят – лезь на дерево. Кирпичом еще попасть надо. А с дерева на гараж и во весь опор, потом на заброшенную стройку, оттуда на кран, там по стреле и по тросу вниз, пускай-ка повторят! Я засмеялся всем этим воображалкам, выдохнул, встал и пошел на пятак.
На пятаке собралось человек двадцать – спортивные костюмы и куртки из свиной кожи, крупнопористые, с привкусом фальши. Были тут Жданов, Вова Бумага, Илья Поносов, Панц, Пейджер, еще кто-то, не вспомню, и старшак Дима Цаплин, ему двадцать три года, на КАМАЗе работает. Рядом с ним стояла Лена, она его обнимала, когда я подошел, они поцеловались, я глазам не поверил.
– Ты же с Сашей?!
– Была. Ну, параллельно. Я тебе не говорила, чтобы ты не проболтался. Как с итальянцем.
Лена ездила летом в Болгарию и рассказала мне, что потеряла девственность с итальянцем. Попросила никому не говорить, а я всем растрепал. Мне было плохо, я хотел лететь в Италию и убить всех Джованни, так его звали.
На передний план выступили Панц и Пейджер. Жданов и Вова Бумага стояли рядом. Жданов спросил:
– Ты чё на нас напал?
– А чё он сигареты у меня забрал. При ней.
Я кивнул на Вову и Лену. Жданов продолжил:
– Ты по фазе поехал? С ножом из-за сигарет.
– А ты не трогай чужое, и ножа не будет.
Пейджеру надоело.
– Хорош этот треш-меш. Принес чё-нить?
Я достал бутылку, протянул Пейджеру.
– Пейджер, ты хотел бутылку, вот бутылка, Панц, ты хотел пойло, вот пойло.
Пейджер отреагировал:
– Синдикат?
Я промолчал. Синдикатом на Пролетарке называют бормотуху. Толпа сгустилась, как туча. Я посмотрел на Лену. От нее помощи не жди. Ей пятнадцать, ему двадцать три, Лена млела. Рука Цаплина была за ее спиной, но вряд ли на спине.
Пейджер открыл бутылку и глотнул, тут же сплюнув на асфальт. Он был в ярости.
– Тут вода! Ну всё, пиздец тебе!
Пейджер отшвырнул бутылку. Туча стала грозовой, я достал нож и подкову. Вова бросился к лавке и прибежал с тремя арматурными прутами, один оставил себе, а два других сунул Пейджеру и Панцу. Приготовились. На короткую секунду мне это польстило. Я прижался спиной к забору садика. Перелезть я не успевал, бежать было некуда. Пейджер замахнулся, я выставил нож, надеясь принять прут на гарду, но это была обманка, Пейджер ударил по ногам, каким-то чудом я успел подпрыгнуть. Раздался резкий властный свист. Будто Соловей-разбойник свистел купцам незначительной гильдии. Все обернулись, а я видел и без этого – к нам шел Олег, а за ним еще человек пятнадцать, все в черной одежде. Олег рассек толпу и встал рядом со мной, остальные тоже заняли мою сторону. У «цаплинских» вид был ошарашенный, будто они смотрели один фильм, а начался другой. Где главные герои не они. Паузу прервал Олег:
– О чем трем?
Жданов высказался фальцетом:
– С ножом на нас бросился!
Олег заметил:
– Я бы тоже бросился. Вы у него сигареты отжали при девушке. Беспредельщики.
Слово «беспредельщики» ухнуло в наш водоем, как голый мужик в прорубь. Заговорил Цаплин:
– Олег, пусть сами решают.
– Пусть. А чё ты тут делаешь тогда?
Олег посмотрел на Лену:
– Тебе сколько лет?
– Пятнадцать.
Олег удивленно посмотрел на Цаплина:
– Ты охуел?
– Чё?
– Ей пятнадцать! Возраст согласия шестнадцать! Ты педофил?
– Олег, да ты посмотри на нее!
Олег посмотрел:
– Домой! Еще раз с ним увижу – на голову наступлю.
Лена испуганно ушла. Все стояли будто загипнотизированные. Олег шагнул к Пейджеру и Панцу.
Пейджеру:
– Тебе бутылку принесли?
– Да.
– Ты доволен?
– Да.
Пейджер смотрел за плечо Олега, словно кого-то там высматривал.
Олег обратился к Панцу:
– Ты пойло хотел. Напился?
Панц наклонил голову вбок и сделался беззащитным, как ребенок. Мне было его даже жалко.
– Напился.
Олег возвысил голос:
– Есть еще претензии к пацану, или вопрос исчерпан?
Туча медленно расползалась на облака, все уходили, как будто по своим делам.
Цаплин нашел в себе силы ответить:
– Исчерпан.
Так я стал человеком Олега или «воронцовским» – фамилия Олега была Воронцов. Тогда я не знал аббревиатуры ОПГ, но скоро узнаю. До сих пор, глядя на тот отрезок жизни, я вижу его то в извиняющем, то в осуждающем свете, и каждый такой взгляд в минуту взгляда кажется мне объективным. «Нет, мы не были ОПГ!» «Господи, мы были ОПГ!» Надеюсь, письменное изложение тех событий поможет мне преодолеть искажения памяти, и я увижу правду.
После стрелки мы пошли на веранду. Не все, а, как я понял, ближний круг. Невысокий коренастый парень с громким и каким-то оскорбляющим все сущее голосом предложил «взять топлива». Парня звали Дюс. Сначала он был Андреем, потом Дрюпой, затем Дюшей и в конце концов стал Дюсом. Олег дал ему две тысячи, отсчитав их из пачки. Я видел пачку отца, когда он приходил с зарплатой, его пачка была в два раза меньше. С Дюсом пошли братья Завьяловы – Лёха и Миша. Они были близнецами, но не двойняшками. В их облике было аккуратно все – от ботинок и ногтей до стрижек и приглаженных воротников футболок поло. Оба благоухали резковатой парфюмерной водой, именно парфюмерной, а не туалетной, потому что парфюмерная дольше держит запах, все пацаны пользуются парфюмерной, туалетной «прыскаются фраеры». Лёха то и дело доставал расческу и расчесывал не нуждающиеся волосы. Миша поправлял складку на джинсах у ботинок, а потом поставил ботинок на лавку и полюбовался на него в профиль. Он недавно их купил. Ботинки фирмы Timberland. Это было очень важно. Спортивный костюм обязательно Nike, причем они говорили не «Найк», как мы все, а «Найки». Когда появится интернет, я случайно узнаю, что они говорили правильно. Зимой они носили тонкие дубленки из «Снежной Королевы» и штаны фирмы Columbia. Не было интернета, не было Lamoda, но они откуда-то всё это знали. Читали глянцевые журналы? Тогда я не спросил, а сейчас уже поздно.
Когда Дюс, Миша и Лёха ушли, на веранде остались я, Олег и Ильяз. Ильяз был коренастым круглолицым татарином с бледной мучнистой кожей. Он подкалывал всех, кроме Олега. Позже, наблюдая за ним, я пойму, что он не участвует в общей беседе как бескорыстный участник, он ищет, кого бы подколоть. Если б Ильяз был поляком, его фамилия была бы Издевальски. Своим поведением Ильяз довел всех нас до странной формы любви. Когда его выбор падал не на тебя, ты выдыхал и даже любил его за такой выбор. Приколы Ильяза не носили чересчур обидный характер, он тонко чувствовал грань, за которой может последовать мордобой. Например, он удачно пошутил, и Дюс подставил ему ладонь, чтобы Ильяз дал ему «пять». Ильяз замахнулся, но в последний момент замер и спросил:
– Ты не дрочил сегодня?
Дюс сдулся, его прекраснодушный порыв опал вместе с рукой. Однажды я рассказывал Ильязу про Лену, какая она умная, интересная и все такое. Я увлекся, говорил с жаром, махал руками, Ильяз благодушно кивал. Потом он посмотрел на меня и сказал:
– Зачем ты мне это рассказываешь? Мне неинтересно.
Я будто налетел лицом на стену. Ильяз и был стеной. Стеной, о которую разбивались чистые, иногда глупые, но подлинные порывы. Вскоре я возненавижу его. Он станет мне неприятен, как острый камешек в ботинке. Я захочу его вытряхнуть.
А тогда, на веранде, пацаны притащили ящик пива, две водки и закуску. Олег протянул мне бутылку пива, я взял, открыл и сделал пару глотков с таким видом, будто до этого уже пил. Я не любил алкоголь, но тут попал под власть момента и хотел быть таким же взрослым и уверенным, как все вокруг. Вряд ли в тот момент я стал алкоголиком, хотя так и вижу весело переглядывающиеся отцовские гены. Да и путь к своему алкоголизму я начал, наверное, не тогда. Но вот связка алкоголь = отдых начала оформляться в тот день, больно уж приятно было стоять со старшаками, рассказывать им, как отметелил Жданова и Вову, и ловить одобрительные взгляды, похвалу. Я нуждался в похвале. Мама хвалила меня, но по таким поводам и так избыточно, что я давно пропускал ее похвалу мимо ушей. Папа не хвалил меня никогда. Этого мимо ушей я не пропускал. Отец требовал – быстрее, выше, сильнее. Я умирал в зале, отжимался дома на кулаках, истязал себя на турнике так, что к вечеру у меня тряслись руки, а мозоли были такими, что однажды Олег скажет: «Как девку по титьке гладить будешь? Поцарапаешь». Постепенно закрадывалась мысль, что я никогда не стану предметом отцовской гордости, что бы я ни делал. Но пока я стоял на веранде и купался в похвале, как дельфин в Средиземном море.
Олег почти не пил. За весь вечер он выпил две бутылки легкого мексиканского пива. Я – столько же. Как это бывает в компаниях, пьяные сплотились с пьяными, наслаждаясь общей волной, а трезвые с трезвыми. Олег расспросил меня про дзюдо, друзей, девушек, родителей.
Мама занята была сестрой, Даше было семь лет, красивая, я любил ее, но почему-то чужая. Я буду заботиться о ней, делать все, что полагается старшему брату, но так и не смогу сделать ее своей. Помню ее вкруг правильной отличницей, смотревшей на меня с легкой ноткой осуждения. С возрастом ничего не изменится, просто осуждать меня будут не за пьянки и драки, а за незнание феминизма, абьюзивность и насмешливое отношение к сексуальным меньшинствам. Когда же во мне откроется талант к литературе, взгляд сестры обретет обидчивое непонимание: как талант мог достаться дикарю, вместо того чтобы свалиться в ее прогрессивную голову? Хотя в ее голове талант тоже был – она неплохо писала, ясно думала, любила придумывать и точно писать. Просто знания, которые она получила на журфаке, сообщили ей не уверенность, а сомнения. Иной раз даже по поводу каждого написанного ею предложения, не говоря уже о ее роли в литературе. Поэтому ее нелюбовь ко мне была и общеупотребительной нелюбовью всех образованных людей к выскочкам или, как меня назовут, самородкам. Так мне кажется в иной раз, потому что в другой мы часами говорим с ней по телефону, вместе придумываем сценарий, фантазируем, нам очень хорошо.
Отец работал на двух работах – сварщиком и автослесарем, а по вечерам пил на кухне. Он работал так уже десять лет и наглухо выгорел, видимо, алкоголь отыскивал в нем хоть какую-то жизнь, скрытые резервы, заставляя тело продолжать свой путь. Он пил и раньше, но это было радостное питьё, от избытка. Он интересовался моим карате, Дашиными оценками, выбирался с матерью в театр, но в последний год он утратил интерес ко всему, кроме работы. Помню корявые пальцы с мазутом под ногтями, будто выросшие из земли, и как он сидел на кухне, поглощая пачку «Чайковских» пельменей, щедро запивая их пивом «Рифей» и густо обмакивая каждый пельмень в майонез. Я приходил на кухню, садился напротив и рассказывал отцу про соревнования, школьные дела, Лену, а он молчал, изредка хмыкая в ответ. Я чувствовал, хоть и не понимал – наша семья разваливается, и пытался склеить ее своей болтовней, создать видимость нормальности, заговорить судьбу. Однажды, напившись – отец мог выпить бутылок десять, он стал разговаривать с невидимыми людьми. С каким-то Лёней Уткиным и Юрой Диким. Я обалдел и побежал к маме. Вместе мы вернулись. Она взяла отца под руку и потащила спать, я взял под другую. Повалившись в кровать, отец забормотал, вскрикнул, обнял жгут одеяла ногами и тут же уснул, сжав подушку пальцами, будто схватил кого-то за волосы. Мы с мамой ушли на кухню, сели за стол. Я спросил:
– Это что было?
Мама внезапно отпила из папиной бутылки и ответила:
– Твой отец воевал в Афганистане.
Бутылка в маминой руке шокировала меня больше новости про Афганистан. Мама отпила еще и закончила:
– Лёня Уткин и Юра Дикий погибли под Кандагаром.
Мама ушла. Я смотрел на пивные бутылки, стоявшие по соседству с тарелками, перечницей, солонкой, корзинкой с белым хлебом, вазой, там болталась засохшая хризантема, отец каждую неделю дарил маме цветок – и чем дольше я смотрел, тем нелепее, чужероднее, страшнее выглядели эти бутылки, будто Эдвард Мунк нарисовал своего уродца посреди «Радуги» Куинджи.
Конечно, всего этого я не рассказал Олегу, отделавшись общими фразами и заострившись только на дзюдо. Олег выслушал и вдруг спросил:
– Денег хватает в семье?
Я смутился, но ответил честно:
– Нет.
– Могу на кладбище к себе взять, на лето. У меня отец смотритель, я бригадир.
– На «Северное»?
– На «Банную Гору». Это в Лёвшино.
– Я знаю. У меня там родня.
– Тем более.
– А сколько по деньгам?
– Пятнадцать. С шабашками.
Я переваривал. Мой отец со всеми своими работами столько не получал. Тут надо оговориться: цифры я точно не помню. Но раз уж это роман-воспоминание, пусть так и будет. Но согласился я не из-за денег. В «Е» классе я жил в напряжении, в любую минуту готовый отстоять себя. В «Б» классе меня травили, я был одинок и не спятил только благодаря Лене. А тут мне было комфортно, рядом с Олегом, с пацанами я чувствовал себя в безопасности, как-то расслабленно, легко. Может быть, это было пиво, но вряд ли только пиво, оно разве что усилило эффект. Я чувствовал себя ровней. Не выше, не ниже. Я нашел свое место. Сейчас эти рассуждения кажутся наивными, но тогда я был счастлив и пенился, как пиво, захлебываясь историями, которые мне некому было рассказать. Я стал частью чего-то большого, частью силы, и сам стал силой.
На кладбище мы уезжали в восемь утра с пятака возле круглосуточного магазина «Агат». Когда я объявил родителям о летней подработке, отец обрадовался – наконец-то еще кто-то в этой семье будет работать, а мама попыталась отговорить, но, встретив отпор, сразу сдалась. Она потеряла меня в пятом классе. В лагерных понятиях мать существо священное, но бесполезное и ничего не решающее. К ней, конечно, бегут из лагеря, когда она при смерти, как в песне Кучина «Человек в телогрейке», однако никаких дел с ней не обсуждают и мнения не спрашивают. Для меня мать стала прислугой, над которой я повесил вопрос: «Почему ты не работаешь?» Сестре семь, мне четырнадцать, а ты сидишь дома. Вслух я этого не озвучивал, и оттого, что не озвучивал, этот вопрос как бы забродил во мне, отравив ум, так что я даже стал подспудно винить мать в пьянстве отца и в том, что у нас всё так. А у нас всё было именно так: рваные обои, драный линолеум, а еще мать завела тойтерьера Банди, по ее плану песик должен был смягчить черствого и злого отца. Понимаете, в чем дело? Вместо того, чтобы пойти на работу и разгрузить папу, она завела собаку. А знаете, почему она это сделала? Потому что ей нужен добрый и ласковый муж. Ей. Нужен. По ее логике, папа был злым из-за отсутствия чертова пса. Зимой Банди отказался гулять, у него мерзли тощие лапы. Постепенно, как у нас водится, на прогулки все забили, и он стал ссать прямо на линолеум. Я пытался его выводить, но мне было противно, это не моя собака, со мной даже не посоветовались, заводить ее или нет, почему я должен с ним гулять?! По ночам я часто влипал ногой в мочу, идя в туалет или попить. Ощущение внезапно мокрой ноги доводило меня до бешенства, и скоро я стал смотреть на Банди с анатомическим интересом. Может, сломать ему шею и сказать всем, что он неудачно спрыгнул с дивана? Мыслей этих я тут же стыдился и бросался обнимать и целовать Банди. Ни отец, ни мать, ни сестра не вызывали во мне таких богатых чувств, как этот пес. Какой-то достоевский пес.
На пятак я пришел заранее с рабочей одеждой в пакете и баночками еды. К пятаку подъехала новая «тойота», за рулем сидел Олег, на переднем сиденье Лёша. Я сел назад – к Мише и Дюсу. Ильяз ездил на своей машине, чему я искренне обрадовался. «Тойота» произвела на меня впечатление. Мой отец ездил на «фольксвагене» моего – 1986 – года рождения.
Олег включил мистера Кредо, и мы понеслись. Окна были открыты, ветер выдувал слова, поэтому никто не разговаривал. Была суббота. Пустая дорога отсвечивала мокроватым асфальтом. Олег разогнался до ста восьмидесяти километров. Я никогда не ощущал такой скорости, внутри поднималось ликование, как у щенка, выпущенного на улицу после долгого заточения. Мимо пролетали корабельные сосны, сливаясь в зеленую стену с просветами. Слева меня подпирало крепкое плечо Дюса, вдруг показавшееся родным. Мы будто стали сообщниками скорости, солнечного утра, льющейся музыки. Это была такая свобода, что я захотел прочувствовать ее сильнее и высунул руку в окно, подставив ладонь тугим струям воздуха. Дюс наклонился к моему уху:
– А если пчела?
Я представил пчелу, пронзающую мою ладонь, как пуля, и подумал – пусть.
Работа на кладбище была простой по мысли и сложной по исполнению. Я получил должность «негра». Звучит неполиткорректно, но куда деваться? Я вытаскивал старые памятники и ветки из кварталов, помогал заливать опалубки, устанавливать памятники и копать могилы. Все это осложнялось тем, что кладбище находилось в сосновом лесу, а не в поле, как «Северное». Шоссе поблизости было неоживленным, и деревья, хоть и мешали, создавали приятную тишину, густую, как кроны, такой тишины не испытаешь в городе. В конце кладбища стояла административная изба. Там сидел отец Олега Иван Петрович, он был невысок, с аккуратными усами щеточкой, в вечной кожаной куртке. Ездил Иван Петрович на «Ягуаре». Мне очень понравился значок на капоте – вытянувшийся в прыжке стальной ягуар. В административной избе было две комнаты – приемная и для отдыха. В последней стоял диван, в котором лежали бутылки водки, кладбищенский запас. Водку отдавали родственники умерших в благодарность за похороны. Еще они отдавали еду, в основном колбасу, и деньги, но деньги изредка. Весь этот улов в конце дня сваливался на стол и делился на всех, часть водки шла в диван, дожидаясь дней рождения, Первомая, Дня Победы или настроения.
Через неделю я попал на свои первые похороны. Дюс позвал меня помогать с могилой. Я легко втянулся в работу. Мне нравилось, что моя сила приносит пользу, а не просто сбивает кого-то с ног. И еще мне нравилось, что каждый раз Олег подробно объяснял новую задачу. «Эти ветки надо вытащить. Много не бери, чтоб над памятниками поднять, а то поцарапаешь портреты». Или: «Бери лопату и толкай щебень на Дюса. И запоминай. Когда цемент, когда вода, сколько. Потом один будешь мешать». Или: «Старые памятники надо из оврага к избе стаскать. Стремные в кучу кидай, а хорошие ставь отдельно. Подшаманим их и на продажу. Долю получишь».
На свежем воздухе работалось легко и как-то… не за деньги. А когда Дюс позвал меня на могилу, я и вовсе побежал, давно хотел увидеть суть этого места.
Дюсу попалась трудная могила или, как он говорил, ёбнутая. Толстые корни сосен перерезали ее тут и там, а когда мы их спилили и почти дошли до нужной глубины, пошла вода. Дюс выругался:
– Блядь! Теперь при клиентах докапывать.
– А сейчас?
– Еще больше воды будет. Вычерпай.
Дюс дал мне ведро, я спрыгнул в могилу и вычерпал воду. Намокнув, глина превратилась в пасть чудовища, и мне стало грустно, что человек ляжет в такие условия.
Через два часа на кладбище появилась кавалькада машин. Блестящий катафалк следовал во главе. Мы с Дюсом переглянулись. Даже я знал, что у нас гробы привозят пазики, а не катафалки из американских фильмов. Четверо мужчин в белых перчатках и черных классических костюмах открыли багажник, достали гроб и понесли к нам. За гробом шла родня. Я отметил высокого мужчину лет сорока с властным надменным лицом. Рядом с ним шла женщина в черной шляпке с вуалью, она опиралась на руку мужчины.
Гроб поднесли к могиле и поставили на лавку. Он был из черного полированного дуба с серебряными ручками. Такие гробы не заколачивают, у них есть специальные затворы. Дюс шепнул:
– Как машина сто́ит.
Родня покойника взяла могилу в плотное кольцо. Седой подвел Шляпку к лавке по соседству, с легким нажимом усадил, а сам подошел к могиле.
– Почему тут вода?
Дюс ответил:
– Грунтовые воды близко. Сейчас докопаем и похороним. Прощаться будете?
Седой помедлил и кивнул, мы с Дюсом открыли крышку гроба. Внутри была девчонка моего возраста в розовом платье, похожем на балетную пачку. Я попятился и упал в могилу. Кто-то ахнул. Дюс положил лопату поперек, я подтянулся и вылез. Мы отошли в сторону. К нам подошел Седой.
– Ее убили в Пальниках, у нас дом там. Найдете ублюдка – десять штук баксов сразу, не глядя! Поняли?
Мы с Дюсом кивнули. Мы оба были растеряны. Дюс вспомнил про могилу, схватил лопату и спрыгнул, быстро докопав оставшиеся двадцать сантиметров. По ГОСТу глубина могилы должна быть метр двадцать. На лопатах у нас были насечки, с помощью которых мы измеряли глубину и ширину.