Пограничник
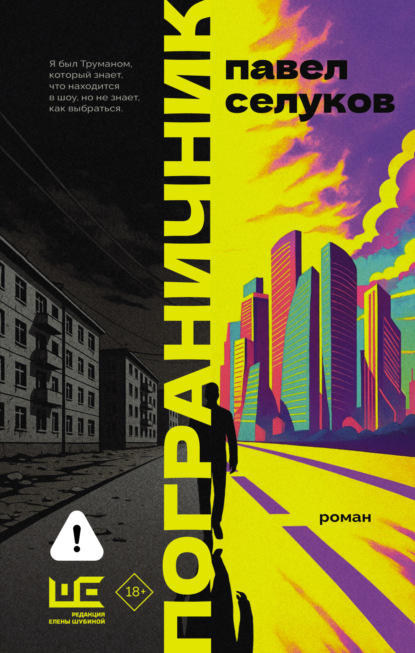
- -
- 100%
- +
Закрыв гроб, мы переставили его на глиняную кучу возле могилы. Потом завели под гроб тонкие канаты и спустили его вниз, сначала заведя ноги, потом опустив голову. Пока мы это делали, вокруг заплакали и запричитали женщины. Я глянул на женщину в шляпке – она легла на лавку боком и закрыла лицо, в правой руке был зажат белый платок. В небе закричали вороны. Хотелось быстрее с этим покончить. Из катафалка принесли могучий дубовый крест. Дюс поставил его в ноги покойной, велел мне держать и стал набрасывать землю и делать холм – пристукивать землю лопатой. На табличке была фотография, на ней Анна Николаевна Затонская отдыхала на море. Старше меня на год – 1985 года рождения. За ним шел год смерти – 2000-й.
Вечером на кладбище приехал Иван Петрович, он часто уезжал по делам. Иван Петрович рассказал нам, что в Лёвшино завелся маньяк. Неделю тому назад пропала девочка, сегодня ее нашли в лесу мертвой. Наша покойница Анна Николавна – я почему-то про себя называл ее так, а не по имени – была его второй жертвой. Дальше события стали уплотняться в какую-то черную дыру. По соседству с кладбищем была психиатрическая больница с таким же названием – «Банная Гора». Оттуда сбежал сумасшедший, это случилось через день после похорон. Еще через два дня в больницу загремел наш ночной сторож Петрович – седой старик с золотыми зубами и народной хитростью в глазах. Пришлось распределить ночные смены между мной, Олегом, Ильязом, Дюсом, Мишей и Лёшей. Если б ко мне пришел четырнадцатилетний сын и сказал, что пойдет работать на кладбище, да еще будет там по ночам дежурить, я бы лучше руку себе отгрыз, чем разрешил ему. Но тогда было особенное время, или я рос в особенной семье, мне разрешили легко, будто так и надо. На этом события сгущаться не прекратили, через три дня, как слег Петрович, у нас ночью украли пять медных памятников. Вырвали их из почвы и увезли вместе с табличками. Иван Петрович ввел ночные обходы кладбища каждые два часа, при себе иметь топор и фонарик. Еще через день родила наша кошка Мурка. Встал вопрос – кто будет топить котят? Все отказались. Вызвался я. Мне казалось, что этим поступком я завоюю авторитет, покажу силу. На самом деле я просто брякнул. Помните, в фильме «Спартак» римлянин спрашивает: кто Спартак? – и мужик, который не Спартак, встает и говорит, что он Спартак. Я тоже хотел избавить пацанов от этой участи. Вызвать огонь на себя.
Все уехали. Я взял коробку с тремя котятами и вынес во двор, к ведру воды. Посмотрел на них, один в полосочку, погладил, разозлился непонятно из-за чего и побросал их в ведро. Я думал, они сами утонут, а они не тонули, барахтались. Тогда я обхватил их и утопил. Минуту держал на дне. Помню свои руки и мокрые головки котят торчат с открытыми ртами, и скреблись еще лапками о костяшки. Потом, смотрю, языки вывалились и лапки опали. Убил. Главное, так и подумал – убил. Схватил ведро, отнес за избу, вырыл яму и вылил котят. Один заерзал. Снова, думаю, что ли его топить? В голове пусто и болит. Забросал землей, как собака, не соображаю, руки делают что-то, очнулся – холм, будто ребенок похоронен. Камней натаскал еще, крест сколотил из досок, белых таких, воткнул, ушел в избу, лег на лицо, завздрагивал. Я в ту ночь дежурил. Отчасти я поэтому и вызвался. На меня подействовало, что Муркой Петрович занимался, кормил ее и клещей пинцетом вывинчивал. А сейчас я за него, а раз я, то и с Муркой мне решать.
Может, ничего бы и не случилось, но Мурка эта стала вокруг избы ходить и орать. Я сразу подумал, что она котят своих ищет, которых я убил. И гроза началась, потемнело все, ветер соснами заскрипел пронзительно, зловеще. Мне все вокруг стало зловещим казаться, а еще на обход идти. Я к обходам ответственно относился, засекал время и шел на кладбище каждые два часа. Чтобы нервы унять, я полстакана водки саданул. Сидит такой четырнадцатилетний ребенок в избе, пьет водку, на столе топор и фонарик, гроза, кошка орет, а он плачет, что котят погубил, лучше бы домой взял.
Гроза прошла, сгустилась ночь. Я шмякнул еще треть стакана, взял топор, фонарик и пошел на обход. Я боялся этих обходов, не воров, которые памятники крадут, людей я тогда не боялся, меня пугала темнота и атмосфера, выкрики ворон, скрипы сосен, из-за туч появившаяся луна. В первый раз я по колено провалился в могилу, свежая была, холм не над могилой сделали, сместили, вот я в рыхлую землю и попал. Чуть на топор не напоролся. В этот раз я шел по кладбищу очень уверенно. Я нафантазировал, что встречу грабителей и отметелю их, как бы искупив убитых котят. А потом я стал представлять, что встречу маньяка, одолею его и получу десять тысяч баксов, но, главное, отомщу за Анну Николавну, сведу его в могилу. Помню, я крепко сжимал топор и представлял, как бью, если он бросится оттуда, или оттуда, или со спины. Поэтому я даже не понял, что произошло, когда из-за ограды на меня кто-то метнулся, просто сделал то, что представлял. Я держал топор за кончик рукояти. Ударил по дуге сбоку. Топор вырвало из рук. Я рефлекторно посветил фонариком. На тропинке лежал мужик в пижаме сумасшедшего дома. Топор прорубил висок, застрял. Правый глаз вытекал из глазницы. Я прорубил голову почти до середины.
В избе был стационарный телефон. Я позвонил Олегу. Долго слушал гудки. Потом Олег ответил. Разговор был коротким:
– Это Паша. Я убил человека. Серьезно.
Молчание.
– Еду. Никуда не уходи.
Я не плакал. Видимо, включился инстинкт выживания. Я только непрестанно вспоминал, точно ли он кинулся или все-таки вышел. Кинулся или вышел? Я вспоминал мгновение до удара раз за разом. Сам удар находился в слепой зоне. Удар я почему-то не помнил. Зато помнил, как пропал из руки топор. Удивительно, нравственные переживания из-за убийства быстро сменились переживаниями по поводу лагеря. Но и эти переживания скоро прошли: посижу, посмотрю за хатой, наберусь опыта, за людское, за воровское. Потом я и вовсе стал думать, что ни в чем не виноват, он кинулся на меня, я был на обходе, защищался, мне четырнадцать лет, какой, блин, с меня спрос? Утешаясь этими мыслями, где-то в глубине я все отчетливее понимал – он не кинулся, просто вышел. Может, прикурить. Или попросить еды. Или ночлега.
Олег присел возле трупа, посветил, резко вытащил топор и внимательно посмотрел на меня. Я затараторил:
– Да говорю же – он кинулся! Если надо – отсижу!
– Если узнают, что мы малолетку на работу взяли…
Олег думал. Потом скомандовал:
– Бери за руки, потащили.
Мы отнесли труп к вырытой могиле. Миша вырыл ее с вечера для утренних похорон. Я показал на могилу:
– Туда?
Олег покачал головой, мы положили труп на кучу земли. Олег скомандовал:
– Лопаты тащи.
Я принес лопаты, Олег спрыгнул в могилу и стал копать. Я светил ему фонариком. Углубив могилу на метр, Олег вылез и столкнул в нее труп, потом спрыгнул и положил труп на спину, вытянув ему руки. Вдвоем мы забросали труп землей и утрамбовали дно, будто никакого трупа не было. Поначалу, когда земли было мало, нам приходилось ходить по трупу, я наступил ему на живот, и труп пукнул, я чуть не выпрыгнул из могилы. Олег был мрачен. Когда земля скрыла труп, дело пошло быстрее. Мы вылезли, легли на комья земли и дополнительно утрамбовали дно совковыми лопатами, заметая следы. Олег закурил и подвел черту:
– Завтра сверху ляжет официальный покойник. Его никогда не найдут.
Вдруг он дернул меня за плечо и взял шею на удушающий. В ухе раздался шепот:
– Если кому-нибудь расскажешь – убью.
Из любых других уст я бы не поверил в это «убью», а тут я поверил сразу и навсегда. Олег не волновался, не дышал, он был спокоен как удав. Я прохрипел:
– Не скажу. Слово пацана.
Олег отпустил меня и развернул к себе лицом:
– Слушай сюда. Ты не знал, что ему надо. Он мог убить тебя, выебать. Вдруг это маньяк? Короче, не парься. Ты поступил правильно.
Я кивнул и почувствовал облегчение. Будто приказ Олега не страдать отменил страдания. Я стал суворовским чудо-богатырем, чьи действия одобрил фельдмаршал. Буквально по щелчку пальцев я переобулся и даже немного погордился собой. В памяти всплыл исчезнувший момент удара, лихая дуга топора. Позже я прочту биографию Степана Разина, там будет момент, когда Стенька зарубил топором монаха, который издевался над крепостными, и мой топор каким-то удивительным образом сольется с топором Стеньки. А еще меня зацепит слово «выебать». Хотел меня «выебать». Совершить самое чудовищное надругательство над человеком. Постепенно, зарастая патиной времени, мое убийство превратится в эпический подвиг и рассказать о нем я захочу именно в этом ключе, мне будет обидно, что моя подруга, друзья не знают, насколько я крутой пацан.
Административная изба, не знавшая наших волнений, встретила нас тихой прохладой. У ведра в коробке из-под котят спала Мурка. В избе Олег налил два полстакана водки, мы выпили, покурили и легли спать. Перед сном, захмелев, я сказал:
– Олег, круто я его уебал, а? Тыщщ!
Я махнул в темноте воображаемым топором. Олег хохотнул:
– Дюс бы личинку отложил!
Посмеялись. Я добавил:
– А Лёша бы – ой, мой костюм, на нем мозги, не отстирается!
Олег заметил:
– Татарина бы вообще выебали.
– А он такой – ой-ой, мне это неинтересно!
Смеялись уже в голос. Это было что-то терапевтическое, мы словно попали на войну, где или пьяный, или смеешься, иначе сойдешь с ума от напряга. Сейчас, издалека, это кажется чудовищным, но тогда это было приключение.
В десять утра к нашему трупу привезли другой труп. Собралась родня. Мы с Олегом стояли поодаль. Ничего не подозревающий Лёша опустил гроб в могилу, закопал, поставил крест, сделал холм, забрал «концы», так на кладбище называют длинные вафельные полотенца, на которых родственники несут гроб к могиле, получил пакет с водкой и едой, после чего кладбище опустело. Мы с Олегом подошли к могиле, покурили, и всё.
Исчезал август. Отдыхали мы один день в неделю, но и в этот день я мечтал оказаться на кладбище. Плюс тридцать пять. Бетонный город задыхался от жары. А тут, среди корабельных сосен, вдали от цивилизации, случалась прохлада. Административная изба, сложенная из толстых бревен, сдавалась жаре только ближе к вечеру. В течение дня, особенно когда мы мешали раствор или устанавливали тяжелые памятники, кто-нибудь из пацанов обязательно сбега́л в избу, якобы в туалет. Я тоже сбегал. Во дворе бочка, выльешь ковш на голову, потрешь лицо с силой, будто хочешь вылепить новое, зайдешь, ляжешь на диван, закинешь ноги на подлокотник и чувствуешь – вот оно, тело мое. Я работал в лыжных ботинках, срезав ножом кантик. Вернее, ножом я срезать не смог, зарубился только. Пришлось идти к Калиничеву на десятый этаж. Он резал по дереву. Он только вник, принес резак и за десять секунд срезал. В кроссовках на кладбище не поработаешь, подошва о лопаты рвется и больно.
В тот день мы работали до одиннадцати вечера. Пацаны уехали в десять, а Олег взял в обход отца заявку на заливку опалубки, это семь тысяч рублей. Берешь опалубку, три трубы, кладешь трубы на могилу по уровню, ставишь сверху опалубку, затыкаешь все щели землей, плотненько, потом замешиваешь раствор – цемент, щебень, воду – и льешь раствор в опалубку доверху, мастерком протыкиваешь, подравниваешь, снимаешь через сутки, и фундамент для памятника готов. Если знать и не тупить, за час примерно управишься. Олег сплюнул мастерком излишек цемента и сел на лавку рядом со мной. На могиле были растаявшие конфеты, я протянул ему одну, Олег поморщился.
– Паша, ты что после кладбища делать будешь?
Я удивился:
– Я чё-то не то делаю? Ты меня увольняешь?
– Да нет! Просто тебе пятнадцать лет.
Пятнадцать мне исполнилось две недели назад, 7 августа. Мама купила торт, тоска зеленая, пацанам я не говорил, знал только Олег – видел мой паспорт при приеме на работу, но он тоже никому не сказал.
– И чё?
– Учиться надо идти, чё.
– Да не, Олег, не начинай. Я тут по жизни.
– Это без проблем. Я тебя всегда возьму. Но ты образование сначала получи. Хоть какое-то.
– Какое?
– Одиннадцать классов закончи.
– Да они меня там все ненавидят. И боятся. Петушары.
– А ты их не кошмарь.
– Из кружки, может, еще из одной попить?
Олег вздохнул.
– Ох уж, блядь, этот «Е» класс.
– А чё с ним не так?
– Всё.
Помолчали.
Олег сказал:
– Короче. Заканчиваешь одиннадцатый класс и по-ступаешь в универ на юриста.
Помню, я подумал: он не перегрелся, случаем? Но ответил другое:
– А потом баллотируюсь в президенты.
– Не, этот молодой, надолго хватит.
Я огляделся. Как вот я буду без кладбища в этой школе? Сухова, Шуша… Вспомнил их физиономии, и захотелось кого-нибудь ударить. Я был свободен на кладбище, понимаете? Тут неважно, во что ты одет, красивый ты или урод, важно, как ты работаешь. Работа освобождала нас от многих условностей. Но и сама работа была свободой – ты получал лишь общее задание, все нюансы его выполнения ты определял сам, тебя не контролировали, когда ты копал могилу или хоронил, заливал опалубку, выпрямлял молотком старые железные памятники, выбирал, в какой цвет их покрасить для перепродажи. Тебе доверяли. И это доверие вкупе с ответственностью сделали меня взрослым и свободным, будто это синонимы.
Я попытался взбрыкнуть последний раз:
– Олег, я не поступлю в универ, я тупой.
– Я тебе репетиторов найму. У тебя мозги мягкие, как губка, залетит, как в Дуньку. По рукам?
Я пожал руку. Олег спохватился:
– Ах да. У меня свадьба четвертого сентября.
– На Тане?
– Нет, блядь, на Ильязе.
Хохотнули.
– На Тане, конечно. Костюм купи. В «Хуторе» загудим на три дня.
Я мстительно заметил:
– У меня школа.
Олег ушел в избу. Я лег на лавку и смотрел, как между кронами появляются бледные звезды, потом они стали желтее, ярче, с дороги засигналила машина, я прошел вдоль оград, барабаня по ним пальцами, там был Олег с моей сменкой, я сел на заднее сиденье, переоделся, и мы полетели под мистера Кредо. В следующий раз я окажусь на этом кладбище через много лет, когда умрет мой дедушка.
На кладбище я не вернулся не потому, что истек август, до конца была неделя, просто я не могу так – наполовинку, мне либо все, либо ничего. Краешком души я чувствовал, что Олег меня вытурил. Наверное, из-за убийства, может, он подумал, что я какой-то ненормальный, сумасшедший? Я не умел носить в себе такое, поэтому, едва сформулировав, вылил на Олега. Олег убавил «Чудную долину».
– Слушай, если б я думал, что ты двинутый, я бы так и сказал. А я тебя на свадьбу позвал.
Я сидел, насупившись. Аргумент показался мне слабым. Олег воспрял:
– О! Приходи на мальчишник. Там будет проститутка, девственность потеряешь. Хочешь?
От былой хандры не осталось и следа.
– Хочу! Когда?
– В субботу, в бараке. В шесть.
Стоит появиться женщине, пусть и гипотетической, что куда девается?!
Дома я объявил о своем решении идти в десятый класс. Это было на кухне. Отец пробурчал: лишь бы не работать, – взял три бутерброда и ушел смотреть «Спартак». Сестра прилежно упражнялась на пианино в соседней комнате. Мама решение одобрила, сказав, что я обязательно поступлю в вуз, поцеловала в щеку и ушла к сестре. Я съел ложку варенья, допил папин чай и пошел на пятак. Там были пацаны, я встал в круг, и на сердце потеплело.
Не все в нашей семье было так холодно. Отец часто брал меня на рыбалку, он рыбачил на спиннинг – ловил крупняк вроде жереха, щуки, судака. Я обычно бросал на окуня гирлянду твистеров – маленьких силиконовых рыбок. На рыбалку он зачастил пару лет назад. Первые разы брал с собой маму, но ей не понравились ранний подъем, комары, вода и рыба, короче говоря – всё. А когда отец привез первый большой улов, мама отказалась чистить «эту вонючую рыбу». Вообще родители являли собой классический мезальянс. Отец вырос в семье вора-рецидивиста и алкоголички, пятым ребенком в семье. Они жили в деревне под Нытвой. Папина мать могла уехать на месяц к сестре в Соликамск, районный центр. А отец сидел. В пять лет папа поймал в силки птицу, убил ее, ощипал, выпотрошил и пожарил на костре. Его научили этому старшие братья. Моя мама, наоборот, была из образованной семьи, ее окружали книжные полки, кинотеатр, «Дерсу Узала» и те манеры, которые свойственны рабочим, стремящимся походить на интеллигентов. Мама не то чтобы была зла к отцу или надменна, как викторианка, просто она была чуть снисходительна, но, главное, она пыталась его переделать, а не полюбить. Как-то мама объясняла мне что-то про Дон Кихота Сервантеса. В комнату зашел отец, уловил краем уха и сказал: «Какой еще сервант, Лена, ставить некуда». Мы с мамой чистосердечно засмеялись, а отец понял, что дурак, и тут же ушел. В этом же году он найдет себе деревенскую женщину, которая не читала Сервантеса и с удовольствием будет чистить его рыбу. С моих пятнадцати до моих двадцати пяти отец станет жить на две семьи. Вторую он будет любить, потому что там любят его и показывают это, первую он будет содержать, прикованный к ней несамостоятельной женой, детьми и чувством долга, которому мог бы позавидовать Дон Кихот.
Как вы понимаете, сам разрыв случится через десять лет, а пока я побрился, надушнялся отцовским одеколоном, надел джинсы и футболку, всунул ноги в туфли, которые продавец на рынке решительно называл мокасинами, и пошел в барак распрощаться с неуместной в моем возрасте девственностью.
Эти бараки только называются бараками. Черные и деревянные снаружи, внутри они напоминают обычные квартиры, есть туалет, горячая и холодная вода, всё, кроме ванной. Почти как мой дом на Кислотных Дачах, но мой был каменным.
В то время многие повадились устанавливать душевые кабины. Тогда они не выглядели как посланцы из дальнего космоса. Просто железное корыто внизу, занавеска и душ. Их ставили в туалет, в уголок.
Дверь мне открыл Олег. Я вошел и услышал громкие капли, падающие на железо. Подумал еще – неужели Дюс нажрался и пошел под холодный душ?
Прошли в комнату. Олег здорово тут все отремонтировал после семьи алкоголиков. Он предложил им дом в деревне вместо квартиры, и они согласились. Мы все вместе их перевозили. Хорошая деревня, коровы ходят, гуси, жизнь какая-то. Нет, я понимаю, что Олег их заставил, но не все ли равно, где спиваться, к тому же их бы все равно обманули, так лучше мы, чем другие.
В комнате за круглым столом сидели Дюс, Миша, Лёша и Ильяз. На столе были виски, коньяк, кола, швепс, но преобладала водка. Я заозирался – если Дюс здесь, кто в душевой? Спросить я не успел – в комнату вошла девушка лет двадцати пяти, завернутая в полотенце. Короткие волосы, полные плечи, большая грудь, соблазнительная и под полотенцем. Я посмотрел на ноги. Чуть иксом и от этого какие-то беззащитные, на ногтях обломки красного лака. Девушка спросила:
– Кто первый?
И кивнула на дальнюю комнату. Пацаны переглянулись и заржали, Олег хлопнул меня по плечу:
– Иди, первопроходец.
Девушка не поняла:
– В смысле – первопроходец?
Олег пояснил:
– Он девственник.
Девушка взвизгнула:
– Круто! У меня еще не было девственника.
Я попытался пошутить:
– У меня вообще никого не было.
Девушка взяла меня за руку, отвела в комнату и закрыла дверь. Потом надвинула темные шторы, но не до конца, получился интимный полумрак.
– Как тебя зовут?
– Паша.
– Меня – Виолетта. Раздевайся и ложись.
Тут я начал жестко тупить:
– На спину ложиться?
– Ну да.
– Трусы снимать?
– Конечно!
Я снял трусы, лег на кровать и зачем-то прикрыл пах. Тут в комнату залетел Дюс и сунул мне полстакана водки:
– Пардон. Махани давай!
Я сел, маханул, Дюс тут же исчез. Виолетта сняла полотенце. У нее была огромная, белая, сочная, чудесная, упругая, грушевидная, невероятная грудь. Без участия головы я положил ладони на эту грудь, робко помял. Виолетта отвела руки.
– Не торопись. Ляг.
Я лег. Виолетта встала на колени между моих ног, сжала член, яйца, потянулась к моему лицу, проведя сосками по телу, я задрожал. Виолетта поцеловала меня в шею, вернулась вниз и обхватила член губами. Стало тесно и влажно. Эрекция была такой сильной, будто головка сейчас лопнет. Виолетта оторвалась и попросила:
– Постони.
Правую руку она завела себе между ног.
– Чё?
– Постони. М-м-м-м, а-а-а-ах.
От ее стона я чуть не кончил. Виолетта крепко сжимала член у самого основания.
– Стони.
Я застонал еле-еле, лишь бы пацаны не услышали. Виолетта приказала:
– Громче.
Я застонал. Мне начинало нравиться стонать. Виолетта неизвестно откуда достала презерватив, вскрыла его зубами и ртом надела на член. Потом села сверху, прижав мои руки к кровати за головой. Ее грудь была над моим лицом, я потянулся губами и взял сосок в рот. Виолетта застонала. Я воодушевился и стал ласкать ее грудь с большим энтузиазмом. Виолетта медленно двигалась на мне, в ней было узко, я балансировал на грани. Вдруг она положила мои руки себе на бедра. Почувствовав опору, уяснив моторику, я сжал бедра и стал двигаться быстро-быстро, как кролик, не выпуская розового соска изо рта.
– Трахай меня! Еби! Еби!
От этого «еби» я кончил. Судорога прошла по всему телу. Виолетта доскакивала, член обмяк, она легла рядом и осторожно сняла презерватив, завязав его узлом. Потом помахала им в воздухе, как елочной игрушкой.
– Смотри, как много!
– Много?
– Очень много! Ты молодец.
Виолетта чмокнула меня в щеку, встала и намотала полотенце:
– Я в душ. Одевайся. И зови следующего.
Я потеребил член и зачем-то понюхал пальцы. Когда до меня дошли ее слова, я сел:
– Какого следующего?
– Меня на пятерых сняли. Еще четверо.
Виолетта объясняла мне это, как придурку. Я кивнул. Она ушла. Я быстро оделся, вышел в комнату и сел за стол. Пацаны слегка окосели. Дюс разлил по фужерам для лимонада коньяк. Его лицо преисполнилось пьяной торжественностью.
– За потерю девственности рядовой Селуков награждается званием «ебарь-террорист» и фужером коньяка! Ура!
Олег улыбался. Все встали. Я принял фужер и зашарашил его до дна, разбив об пол. Олег посмотрел на осколки:
– Потом приберешь.
Я кивнул, сел за стол, без спроса взял пачку «Парламента» Олега и закурил. Я не хотел курить, от сигареты быстро пьянеешь, но тут мне надо было что-нибудь сделать, хоть что-нибудь.
Из душа вернулась Виолетта.
– Кто со мной?
Дюс пошутил:
– Кто в тебя!
Миша и Лёша переглянулись:
– А можно мы тебя в два смычка?
Виолетта посмотрела на них с интересом:
– Братья? Только не в анал.
– Без бэ, по классике.
Миша и Лёша встали. Дюс взвился:
– Не-не, вы ее щас заебете, она потом усталая будет! Я пойду.
Миша с Лёшей уперлись, Виолетта рассеянно улыбалась. Разрулил Олег:
– Пусть Дюс идет. А то нажрется, хоть самого еби.
Дюс завис, то ли обижаться, то ли нет, плюнул и увел Виолетту в комнату. У двери она оглянулась и посмотрела на меня. Может, мне показалось, что она оглянулась и посмотрела на меня, но в ту минуту я был уверен, что она оглянулась и посмотрела на меня. Зачем она оглянулась и посмотрела на меня? Олег заметил мое непраздничное состояние, наклонился и шепнул:
– Влюбился?
Я выпрямился, как от кнута, ничего не ответил, но лицо ответило.
Олег собрал в кулек бутылку водки, колу, пачку «Парламента» и сунул мне.
– Иди погуляй, бухни с кем-нибудь, расскажи, какая она охуенная.
– Да не, я не из-за этого…
Олег повернулся к Мише с Лёшей:
– Пацаны, влюблялись в первых проституток?
Миша с Лёшей расплылись в ностальгических улыбках. Ответил Лёша:
– Конечно. Мы ж не звери.
И подмигнул мне. Я схватил пакет и пулей вылетел из квартиры. Они ее там… А она… Зачем она оглянулась и посмотрела? Это ведь было. Зачем?
Чувства к Виолетте окончательно пройдут на свадьбе, где я буду танцевать и целоваться с Ниной Голубковой – красивой восемнадцатилетней девушкой с дредами. Помню круглую маленькую попу и как она лезла промежностью на мою ногу, как бы садясь на нее, ёрзая. И еще очень длинный нежный сильный язык. Когда она засунула его мне в рот, я даже испугался. Не язык, а маленькая мускулистая змея. Ближе к ночи мы танцевали медляк, Нина отстранилась и спросила:
– Пососешь мой язык?
Мы были пьяны. Я кивнул. Нина приблизилась и высунула язык, посередине был пирсинг. Я обхватил язык губами и стал сосать. Сейчас я бы сравнил это с сосанием члена, а тогда я ни о чем таком не думал, просто наслаждался. Да и так ли уж важно, что ты сосешь – клитор или член? Особенно если вспомнить, что член – это выросший клитор, а клитор – невыросший член.
Во рту друг у друга мы с Ниной оказались не сразу. Сначала я пришел четвертого сентября на пятак возле «Агата» в классическом сером костюме. Я купил его на Центральном рынке. Помню картонку под ногами и хорошенькую продавщицу, подступившую ко мне вплотную, чтобы вдеть ремень.








