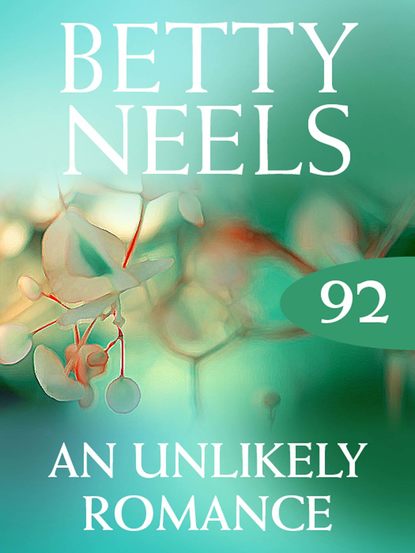Пограничник
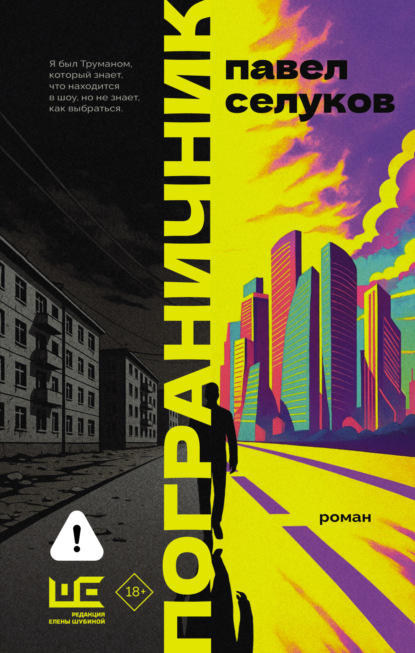
- -
- 100%
- +
Было девять утра. Я стоял на пороге необыкновенного. Залитый солнцем асфальт, прозрачное небо, легкий ветерок только усиливали мое чувство, представляясь декорациями, внутри которых разыграется крутой фильм. Я сел на лавку и закурил. Когда мама узнала, что я курю, она понюхала рукава олимпийки – сначала левый, потом правый, тут же прибежала в комнату, где я слушал «Наутилус Помпилиус», прижавшись ухом к единственной колонке магнитофона, и сразу начала меня щипать и шипеть:
– Куришь, куришь, куришь?!
Я сел, зафиксировал ее руки и спросил:
– А чё такого?
Щипки и шипение были такими страстными, будто она хотела компенсировать ими свой педагогический провал длиною в четыре года.
Вырвавшись, мама убежала к отцу. До меня долетело:
– Он курит! Курит! Поговори с ним!
Она выкрикивала это так, словно я ем детей.
Отец позвал:
– Паша, иди сюда!
Я пришел в комнату. Мать стояла у окна с некрасивым лицом. Отец лежал, по телевизору играл «Спартак». Цымбаларь подавал угловой. Отец дождался окончания стандарта и посмотрел на меня:
– Куришь?
Я спокойно ответил:
– Курю.
Отец спокойно подытожил:
– Кури. Только мои не таскай.
Я ушел в комнату, включил Бутусова и лег на колонку. Мать громко выговаривала отцу, тот односложно отбивался. Я положил подушку на свободное ухо и погрузился в песню. «Падал теплый снег, она сняла пальто».
Все детство мама читала мне перед сном книжки: «Эмиля из Лённеберги», «Винни-Пуха», «Мифы Древней Греции», детскую «Библию», ее подарила мне бабушка, с возрастом ставшая в меру религиозной. Я это к тому, что моя мама делала все, чтобы я был счастлив и вырос хорошим человеком. Просто первое, что делает «Е» класс, это отбирает родителей. Дело не только в установке не признавать над собой никакой власти, кроме воровской, в моем случае – пацанской, но и в пубертате, потребности бунтовать, которая как бы оформлялась «понятиями». К седьмому классу родители уже не были для меня авторитетными фигурами, как и государство, еще один источник авторитета. Я слушал, кивал, но поступал по-своему. Родители же, живя в смутное непонятное время, попросту не знали, как этот авторитет вернуть. Да и задумывались они об этом редко, если задумывались, я ведь не шел прямо против них, скорее, перенес свою жизнь на улицу, а дома делал вид. Но чем старше я становился, тем хуже я делал вид, превращаясь дома в того, кем я был на улице. Уличное амплуа пожирало домашнее. Как-то мы с отцом паяли блесны, я загибал крючок плоскогубцами и сломал его. Изо рта вылетело:
– Петушара, сука конченый!
Отец внимательно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Да и что тут скажешь?
В другой раз я варил пельмени, и они прилипли ко дну. Я был красноречив:
– Пидарасы ебаные, блядь!
И тут же застыл. Ощутил, что я на кухне не один. Повернулся. На меня смотрела обомлевшая мама.
Перед разоблачением с сигаретами у меня в олимпийке нашли колоду карт. Мама хотела постирать.
– Не знала, что ты в карты играешь.
– Банчок забиваем иногда.
– Кого?
– Ну, банк. «Очко». Круг-стук. Да это наше, подростковое.
В комнату заглянул отец:
– Это не подростковое, это блатное.
Мне стало приятно, будто меня назвали блатным.
– Ну, блатное. А что такого?
– Ты в блатные метишь?
Отец наливался грозой. Тогда-то я и выдал им новость:
– Пап, мам, меня на кладбище позвали работать на лето. Зарплата пятнадцать тысяч. Это с Олегом Воронцовым, он там бригадир, под присмотром. Отпустите?
Дальше вы знаете.
Куда бы я ни шел, я всегда прихожу на десять минут раньше, мне так спокойнее. Ну, кроме тех случаев, когда я опаздываю. Пацаны постоянно опаздывали. Я просидел на лавке минут двадцать, курил одну за другой и убирал пылинки с пиджака, нервничал. Наконец из подъезда вышел Олег, мама Олега и Иван Петрович. Потом подошли все остальные. Таня, невеста Олега, жила в пятиэтажке за аптекой. К десяти утра там собралось человек, наверное, сто. Перед свадьбой я подстригся – обрил голову наголо. В парикмахерские тогда было не принято ходить, это казалось излишеством. Поэтому меня брила Лена папиным станком «Джиллет». Я сидел на табуретке на кухне у нее дома, а Лена ходила вокруг меня и чиркала бритвой по голове, как птичка лапкой. Она очень боялась меня порезать и, конечно, постоянно резала. До этого она сбрила волосы машинкой без насадки, поэтому бритье казалось делом легким. Посередине операции Лена расплакалась, схватила салфетку и стала нежно стирать кровь с моей головы.
– Паша, прости, прости!
– Лена, все ништяк, мне не больно.
– Столько крови…
– А ты ее размазывай, как шампунь, и брей!
– Не могу!
– Брей! Чё я, как урод, что ли?!
– Не могу!
– Брей!
Лена открыла холодильник, достала бутылку коньяка, отхлебнула и дала мне. Коньяк был отцовский, «Командирский». Я не возражал. Я получал удовольствие от того, что Лена так за меня переживала. Да, она с встречалась с Цаплиным, но мы все равно были друзьями. Самыми лучшими друзьями. Нет, есть еще Аня Дягилева. Мы с ней подружились, когда ей было семь, а мне девять. Гоняли на велосипедах, играли в «сифу» на стройке, вскрывали на Каме солитерного окуня железнодорожным «костылем», жгли шины. Короче, делали всё, что полагалось тогда делать детям. Аня была очаровательной пацанкой. Грубая энергичная красота. Вылитая Риз Уизерспун из фильма «Дикая». Тогда она работала на конюшне возле «Северного». Ей лошади очень нравились. Помню, говорила, лошади не то, что люди, – ерунду всякую не несут. А еще она мне по секрету рассказала, что, когда на лошади без седла ездит, возбуждается. До сих пор иногда представляю ее голой на лошади без седла. Не такая уж она и пацанка, если вдуматься.
С помощью коньяка, слёз и моих уговоров Лена меня добрила. Я протер голову одеколоном и заорал. Лена вздрогнула и начала толкать меня в плечо:
– Все, уходи, я от тебя устала!
– А коньяк?
– Допей с кем-нибудь.
– А отец?
– Он в командировке, через месяц приедет, не вспомнит.
Я поцеловал Лену в щеку и пошел в зону. Напротив Пролетарки есть женская колония, я говорил, а перед ней овощные ямы. Там было модно выпивать, уединившись среди сосен. Я еще редко выпивал, просто надвигалась свадьба, конец лета, и воздух пах, будто что-то удивительное случится, приятное, что разом дух захватит и унесет! Я не знал про Элли из «Изумрудного города», но чувствовал себя, как Элли из «Изумрудного города». Сел на яму, достал коньяк, сигареты и пол-лимона, Лена нарезала в пакетик. Отпил, съел лимон, закурил с довольным видом. Наверное, поэтому алкоголь мне так и понравился – в его присутствии я чувствовал себя классным. Даже не так. Трезвый я все время был собой недоволен – не добежал, не доборолся, не доподтягивался, Лена не любит. А пьяный я себя любил, гордился, алкоголь меня хвалил. Получалось так: чем дольше я жил, тем больше было поводов себя ненавидеть, а чем больше было поводов себя ненавидеть, тем крепче я пил, отчего ненавидел себя с новой силой. В рамках человеческой жизни это похоже на какой-то вечный двигатель.
Через яму сидела бесконвойница. Так называют арестанток, которые исчерпали почти весь срок и их выпускают красить бордюры и подметать тротуары без сопровождения сотрудников ФСИН. Таким осужденным нет смысла сбегать – если их поймают, то исчерпать придется еще три года. Может, я был в таком возрасте, или коньяк настроил оптику, но бесконвойница показалась мне красивой даже в серой робе и такой же косынке. Мы встретились взглядами, и оба улыбнулись. Она подошла к моей яме.
– Угостишь?
– Падай.
Бесконвойница села и уверенно отпила из бутылки. Я предложил, она закусила.
– Ангелина.
– Паша.
– Тебе сколько лет, Паша?
– Сколько есть, все мои.
– Тоже верно.
Я где-то подслушал эту фразу и активно ею пользовался. Тут еще важно понимать, что я был акселератом. К пятнадцати годам мой рост составлял 175 сантиметров, а вес 70 кг. Сейчас это не бог весть какая акселерация, но в 2001 году ее было достаточно, чтобы выглядеть сильно старше своих лет.
Коньяк мы выпили быстро. Я покрутил бутылку на солнце и бросил под дерево. Тут Ангелина меня удивила – достала бутылку коньяка из внутреннего кармана робы.
– Одна не хотела пить.
Выпили. Я лег на спину, Ангелина легла рядом. Лес расступился, перистые облака плыли по небу, в кроне кто-то шебуршал, таял след самолета. Я опьянел и спросил. Диалог я помню смутно, но помню его послевкусие и по этому послевкусию воссоздаю, как повар пытается воссоздать блюдо, попробованное однажды в детстве.
– Энджи, за что отбываешь?
Я был достаточно умен, чтобы не говорить «сидишь», и достаточно глуп, чтобы о таком спрашивать. Но заинтересовало Ангелину не это:
– Энджи?
– Ангелина, Анджелина, Энджи.
Энджи расхохоталась. А меня несло:
– За что отбываешь-то?
– Вот ты вредный. Мужа убила.
Я сел. Ангелина тоже. Выпили. Я пьянел быстрее, чем она, но все же уточнил:
– За что?
– Бил. Изменял. Да за всё.
– А как?
– Ножом кухонным.
– Офигеть! Слушай, я ведь тоже…
Это правда. Я чуть не рассказал Энджи о своем убийстве. Видимо, чтобы она понимала, как я ее понимаю, и понимала, как она может понимать меня.
– Что – тоже?
Я формулировал, чтобы точнее, а потом меня вырвало себе под ноги. Энджи встала, погладила меня по голове и пошла в зону. Я заорал:
– Энджи, не уходи!
– Мне пора. Поспи.
Кажется, я еще побормотал, потом свернулся калачиком на крыше ямы и уснул часа на три. Проснулся я разбитым и злым на свою болтливость. Дошел до Лены, попил, съел полтюбика пасты, прокрался домой и лег спать.
Не скажу, что свадьба Олега Воронцова напоминала фильм «Горько!», но и что не напоминала, не скажу. Олег поднимался по ступенькам, на которых, через одну, были написаны загадки, их надлежало разгадать жениху и его друзьям, иначе путь наверх был закрыт. Загадок я не вспомню, кажется, они были пошлые, стилизованные под народные. Это все называлось «выкуп невесты». Олег действительно время от времени закидывал пачки денег в белый мешок. Выкуп вела красивая, у меня все красивые, рыжая девушка Ирина с кустодиевскими формами. Половины свадьбы я не помню еще и потому, что пялился в ее декольте. Иринина физиология ввела меня в ступор. С одной стороны, она была толстая, а значит, некрасивая. С другой, такая выпуклая, обтекаемая, что только красивой ее и назовешь. А еще она была уверенной, громкой и знала такие слова – например, дебаркадер, – которых никто не знал. Это был один из вопросов: «Жених Тани так умен, что, конечно, знает, что такое дебаркадер?» Жених Тани не знал. Интернет появится через семь лет. Зато Лёша высказал предположение: дебаркадер – это декабрист на латыни. Ясность внес появившийся Иван Петрович. Часть склада, где машины разгружают, сказал он и оказался прав. Добравшись до четвертого этажа и конфузясь не столько от вопросов, сколько из-за того, что все нарядные, а нарядными мы друг друга никогда не видели, и еще, наверное, оттого, что Олег с Таней встречались со школы, спали вместе, а тут такие церемонии, – мы вошли в Танину квартиру и увидели невесту в свадебном платье спиной к нам. Ирина подтолкнула Олега: иди, жених, целуй невесту. Олег было пошел, но вернулся и заявил, что это не его невеста. Все замерли, упершись взглядами в невесту. Вдруг невеста обернулась и подняла фату – под фатой был чернобородый армянин с веселыми глазами. Смеялись истошно, навзрыд. С точки зрения кино это был Чарли Китон и Бастер Чаплин. Вся свадьба была не набором смыслов, чего-то ясного, вербального, а чередой смешных, глупых, пошлых, сентиментальных картинок. Вот мы швыряем бутылки в огромный камень в Курье, и бутылка Ильяза отлетает ему в ногу, как бумеранг. Вот мы стоим у памятника на эспланаде, нас снимают на камеру, а уже напившегося Дюса начинает тошнить, Дюса выталкивают из кадра, и тут на рвоту Дюса слетается стая голубей и начинает ее клевать. Так родилась фраза – пойду голубей покормлю. Я тоже ее произносил, когда напился вдрызг на дне рождения Олега. Покончив с делами городскими, мы поехали на Пролетарку, где оккупировали «Хуторок». Обычно за столиком справа сидят блатные – Андрей Бумага, Свирид, Толян. Сколько раз я туда ни заходил, они постоянно играли в нарды – то короткую, то длинную. У меня даже сложилось впечатление, что у блатных это главное занятие – играть в нарды. В дальнем зале был накрыт огромный стол. Во главу стола усадили Таню и Олега. Я сел поближе к танцполу. На сцену вышел Николай, замечательный баритон, и запел разудалое – Сергея Наговицына, «Дори-дори». Гвалт стоял страшный. Все пили. И пели. Тут появилась Нина Голубкова и села рядом со мной. Через полчаса, как тогда говорили – вкинув, мы сплелись с ней в один организм. Николай запел «Централ», и я пригласил ее на танец. Кроме Нининого феноменального языка, больше ничего не помню. Проснулся я в ванне у бабушки. Без брюк, зато в рубашке, галстуке, пиджаке и носках. Рубашка хранила следы рвоты. Почистившись, я ушел к Олегу. Было восемь утра. Мне даже в голову не пришло, что у него первая брачная ночь. Дюсу тоже не пришло. Когда я зашел, он опохмелялся на кухне. Через десять минут пришли Завьяловы. Они тоже про первую брачную ночь не сообразили. По-моему, Олег и сам про нее не очень-то разобрался. Сели пить. В двенадцать, кто был в строю, пошли в «Хуторок». Второй день был похож на первый, собственно, как и третий. Только, кажется, мы с Ниной заперлись в туалете и туда долго никто не мог попасть. Веселье было исступленным. Всем хватило первого дня, а тут еще два, «Хуторок» оплачен, водки океан. Мы как бы себя взнуздывали – эге-ге-гей, веселись! – гнали рысаками к финишу, чтобы опасть, как озимые, на белые скатерти в разводах вина.
Утром четвертого дня ко мне в комнату залетел отец и велел идти в школу. «Седьмое, блин, сентября, только бухаешь, тебя там в глаза не видели!» Я кивнул и попытался уснуть, в голове жужжала похмельная тревожность. Отец пришел снова и навис. Я понял, покоя мне тут не дадут. Почистил зубы, надел спортивный костюм, кроссовки, спустился, закурил, зашел в «Хазар» – это киоск у дома, взял «Клинского», опохмелился и двинул в школу. Если б я знал, что там случится, ни за что бы не пошел.
В школе посмотрел расписание – 25-й кабинет, литература. Даже сейчас, когда я это пишу, мне повсюду видится символизм, прикосновение рока, чертова «Илиада». Я встретил ее на уроке литературы, стал писателем и т. д. и т. п. Хотел бы я рассказать об этом отстраненно, а лучше отчужденно, отлепившись раз и навсегда от тех событий, но я уже чувствую, что не могу. Отделаться бы телеграфной строкой: влюбился в умную девушку, стал читать книги, был отвергнут, превратился в преступника. Только она вам ничего не объяснит, вернее, объяснит, но не даст почувствовать, а я хочу, чтобы вы почувствовали. Не потому даже, чтобы вы меня поняли и выписали индульгенцию – ах, бедный мальчик, он так ее любил! – а чтобы самому понять: это была банальная подростковая любовь, но какая же она банальная, если такая сильная? Или любовь настоящая, о которой писал Шекспир? Но почему банальное не может быть сильным? Мир держится на банальностях, они довольно сильны. Понимаете, я до сих пор ее люблю. Или мне кажется, что я ее люблю. Я то хочу освободиться от этой любви, она не дает мне любить никого другого, даже жену, то, наоборот, хочу ее лелеять, как дитя. Если б я точно знал, что это любовь Шекспира, я бы не думал о том, как ее растоптать. Но если б я понял, что это заурядная подростковая любовь, пусть и усиленная моей болезнью (о болезни ниже), то я бы нашел в себе силы с нею покончить, по крайней мере я смог бы над ней издеваться, обесценивать. Или мне так кажется.
Я поднялся на второй этаж, вошел в кабинет, повернул голову влево, к ученикам, и увидел ее. Светло-русые локоны обрамляли мраморное лицо, на котором горели голубые глаза. Подбородок, губы, нос, щеки, скулы, лоб – все в этом лице было совершенно и дышало такой гармонией, что кружилась голова. Вдруг весь мир ушел в туман, только это лицо было в фокусе, в каком-то фотоувеличении. В голове пронеслось про ангелов, мама читала мне про ангелов, в Библии есть про ангелов, бабушка купила. Ангела звали Маша. До десятого класса она училась в «А». Может, поэтому я ее не видел, хотя должен был видеть. Не заметил? Я не смог бы ее не заметить. Видимо, у каждой встречи свой час и жребий, а до того мы как невидимки. Стал как пьяный.
Урок вела Вера Павловна, та самая, которой я пересказывал «Тараса Бульбу».
Я надолго застыл перед Машей. Я открыл для себя любовь, будто до меня ее никто не открывал. Сначала ее глаза смеялись, потом стали серьезными, даже какими-то воинственными. В классе посмеивались, но негромко, всем было интересно: а что происходит?
Ко мне подошла Вера Павловна, тронула за плечо, я вздрогнул.
– Паша, урок идет. Садись на место.
С последней парты руку подняла Лена.
– Ромео, иди ко мне!
Я на нее разозлился. Вдруг Маша подумает, что я с ней. Если б я знал, что с Лениной легкой руки меня следующие десять лет будут звать Ромео, я бы разозлился сильнее.
Вера Павловна потянула меня за руку. Я дернулся и снова посмотрел на Машу.
– Как тебя зовут?
– Маша.
– А меня Паша. Ты самая красивая девчонка, которую я видел.
Класс заржал ощутимо. А на меня напала прямота римлянина, я не мог остановиться.
– Пойдешь со мной в «Радугу» на дискотеку?
– Я не хожу в такие места.
– А в какие ходишь?
– В театр.
– Выбирай любой, я куплю билеты.
Я готов был купить театр. Маша смутилась, на щеках появились ямочки. Вера Павловна возвысила голос:
– Селуков! Услышь меня! Сядь к Лене!
Я посмотрел на нее, как на марсианина. Пришла Лена, взяла меня за руку и утащила за парту. Я шел с трудом. Мне казалось, если я потеряю Машу из виду, она исчезнет, как мираж.
Спустя двадцать три года я попаду на прием к врачу-психиатру Муравьеву. Едва я войду, он скажет: у вас гипомания. Так мне поставят диагноз: БАР, биполярное аффективное расстройство второго типа. С Муравьевым я проведу много сеансов, два раза в месяц в течение года буду ездить к нему из Москвы в Петербург. В итоге он предположит, что первый эпизод мании случился со мной в ту минуту, когда я увидел Машу. Я пишу эту книгу, чтобы понять, какие поступки совершил я сам, а какие – под влиянием болезни. Иными словами, я хочу понять, кто прожил эти двадцать три года и в каких пропорциях. Еще проще – я пытаюсь понять, кто я такой. Биполярка – это экстремальная смена настроений. В мании ты полон энергии, чудовищной энергии, ты чувствуешь себя богом, можешь часами заниматься сексом, драться, как Ахиллес, не зная усталости. Но потом мания уходит, а ей на смену приходит подавленность, депрессия, бесконечное лежание в кровати, неспособность совершить простейшее волевое усилие. Состояния эти то менялись у меня каждые три дня, то держались по месяцу. Я не знал, что это расстройство, в советское время его называли маниакально-депрессивным психозом, думал, что это я такой особенный.
Смешно, биполярка вылила изрядно воды на мельницу моей исключительности. Я ведь видел, что другие люди не такие, как я, и трактовал это к собственной выгоде. Первые годы биполярка не сильно мне докучала. Если представить, что я качаюсь на качелях: вперед – мания, назад – депрессия, то в те времена качели раскачивались слабо, правда, сам того не ведая, с каждым годом я раскачивал их все сильнее. Если до откровения про биполярку я думал о Маше в разрезах банальной любви и любви Шекспира, то теперь появился третий разрез – я маньяк и привязался к ней, как маньяк. Или мания усилила банальную любовь? Или усилила любовь Шекспира? Или мания тут ни при чем? Я хочу знать, ради чего прожил свою жизнь. Ради чего читал книги, совершал преступления, спивался, скалывался, лечился в рехабах, искал себя, стал писателем и сценаристом. В своей голове я жил ради Маши, она есть во всех моих женских героинях, в каждой книге. Я хочу понять: меня вела великая любовь или жалкий психический недуг, когда неважно, кто на том конце – Маша, Оля, Света, Аня. На кого пришелся эпизод мании, тот там и оказался. Но ведь именно Маша пробудила во мне манию, стала катализатором. Или катализатором могла стать любая девушка? Я сотворил себе идола и поклонялся ему, или это Бог послал мне Машу, чтобы я смог пройти этот путь. Вот до таких метаний я иногда дохожу.
Лена усадила меня за парту и воззрилась. Она умела так воззриться, что слова не нужны. Меня потряхивало.
– Что с тобой?
– Хуй его знает.
Лена удивилась, обычно я при ней не матерился. Сматерился я, видимо, чтобы отодвинуть от себя огромное чувство, которое меня поглощало. Но чувство не отодвигалось, тогда я достал тетрадку, раскрыл на последней странице и стал черкаться. А потом аккуратно вывел «МАША» и заштриховал. Упражнение в прекрасном заметила Лена и деловито заговорила:
– Маша Рублёва, пятнадцать лет, натуральная блондинка, хорошистка, очень правильная, не пьет, не курит, по дискотекам, как ты уже знаешь, не ходит.
– У нее есть парень?
– Насколько я знаю – нет.
На следующем уроке я отнес сумку Машиной соседки на заднюю парту, а сам сел на ее место. Соседка смирилась. Весь урок я пытался шепотом поговорить с Машей, предлагал театры, проводить ее до дома. В конце урока она не выдержала и сказала:
– Отстань, пожалуйста, от меня. После уроков я в библиотеке читаю.
– Что читаешь?
– «Анну Каренину»
– Любишь читать?
– Селуков, Рублёва!
Мы притихли. Это был Яков Владимирович, полноватый учитель истории лет пятидесяти в смешной вязаной жилетке. Он носил такие толстые очки, что ими запросто сожжешь муравья. Помню, я смотрел на него и думал – никогда таким не стану, лучше смерть через макатуки. Был такой анекдот – попал мужик в плен к дикарям, а те спрашивают – смерть или макатуки? Тот говорит – макатуки, не смерть же выбирать. Они его и залюбили до смерти.
После школы я пошел в библиотеку. Впервые за два года Лена тащила портфель домой сама. Я взял первую попавшуюся книжку и сел в читальном зале. Минут через двадцать пришла Маша, увидела меня, как-то выпрямилась, взяла «Каренину» и села за другой стол. Я получал острое наслаждение просто от того, как она двигалась, поводила плечами, отодвигала стул. В голове гремели трубы. Я хотел умереть за нее в бою, оберегать всю жизнь, слушать по ночам, как она дышит, млел от каждой ее подробности.
Схватив книжку, я сел напротив Маши. Она делала вид, что читает. Я положил ладонь поверх страниц.
– Маша, ты мне очень нравишься. Давай мутить.
Спортивный костюм, лысая голова в царапинах, шалые глаза. Плюс – репутация. Я тогда этого не понимал, думал, интересничает, корчит недотрогу, а она просто меня боялась.
– Паша, я не хочу с тобой мутить. Я ни с кем не хочу. Оставь меня в покое.
– Да как не хочешь? Не симпотный?
– Не в этом дело.
– А в чем? Я в порядке, бабки есть. Я «воронцовский». С Олегом в близких.
По моему расчету, этот аргумент должен был сразить ее наповал. Конечно, она испугалась еще больше, схватила книгу и ушла.
На следующий день я снова отнес сумку соседки на заднюю парту, но Маша не пришла – она заболела и взяла больничный. Я тосковал. Мне было плохо. Вечерами я пораньше уходил домой, когда пацаны еще гоготали на пятаке, чтобы лечь в ванну и предаться грезам, где я выталкиваю Машу из-под машины, а сам весь поломанный лежу в больнице, а она сидит рядом и кормит меня куриным супом с ложечки. При этом, представляя Машу, я никогда не мастурбировал, даже не прикасался, хоть и лежал в ванне. Но стоило мне представить Виолетту, как рука бралась за дело. На Лену, кстати, я тоже никогда не мог. Стремно на друга.
Прошла неделя. Я перестал есть. Точнее, заталкивал в себя. Первым уроком была история. Я сел на первую парту и уставился на дверь. Не может она болеть дольше недели. А если у нее что-то серьезное? Порок сердца? Я бы мог отдать ей свое! От мысли, что я отдам ей свое сердце, в груди потеплело. Сложно объяснить. Знаете, будто я перестал существовать, будто без нее меня не было. Прозвенел звонок. Яков Владимирович где-то гулял. В кабинет вошла Лена, села рядом со мной.
– Паша, только спокойно. У меня новости.
– Она умерла?
Лена обалдела.
– Да ты что?! Перевелась в «Б» класс.
Я застыл. Мелькнуло – лучше б умерла. Потом встал и пошел в «Б» класс. Лена бросилась за мной. И, кажется, еще кучка одноклассников, которые слышали наш разговор. Я спустился вниз, чтобы посмотреть расписание. Лена протестовала:
– Не ходи туда. Какой смысл?
– Почему она перевелась?
– Достал ты ее, вот и перевелась!
Я заорал:
– Чё я не так сделал?!
– Откуда я знаю.
– Вот я у нее и спрошу!
Лена выложила козырь:
– Я щас Воронцову позвоню. Не позорься!