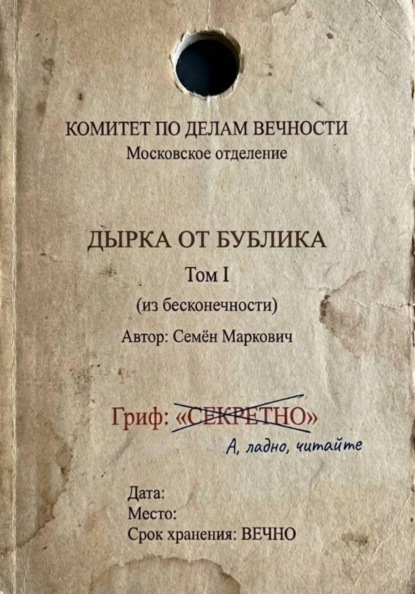- -
- 100%
- +
– Хорошо, – сказала я. – Не отдавайте. Просто стойте. Я рядом.
Она кивнула. Стояла. Я – рядом.
Очередь двигалась медленно. Или не двигалась вообще – трудно понять. Когда стоишь на морозе три часа, время растягивается. Минута – как час. Час – как день.
В какой-то момент женщина впереди перестала стоять. Просто – перестала. Упала. Медленно, как во сне. Я успела подхватить ребёнка. Она – нет.
Лежала на снегу. Не двигалась.
– Врача! – крикнул кто-то.
– Какого врача? Нет врачей!
– Тогда – в больницу!
– Какую больницу? Больница закрыта!
Люди стояли вокруг. Смотрели. Никто не выходил из очереди – выйдешь, потеряешь место. А место – это хлеб. А хлеб – это жизнь.
Вышла.
Присела рядом с женщиной. Проверила пульс. Слабый, но есть.
– Помогите, – сказала я. – Кто-нибудь. Помогите отнести.
Тишина.
– Я потеряю место, – сказал мужчина рядом.
– Я тоже, – сказала женщина за ним.
– Я с ночи стою, – сказал третий.
Никто не помог.
Взяла женщину на руки – она весила килограмм сорок, может, меньше. Ребёнка посадила ей на грудь – он вцепился. Понесла обоих. Очередь смотрела мне вслед. Молча.
Место я потеряла.
Хлеба в тот день не было.
* * *Женщину звали Оксана. Она выжила. Потому что я принесла её домой, где у меня была спрятана банка тушёнки. Последняя. Я берегла – на крайний случай. Это был крайний случай.
Ребёнка звали Петрик. Ему было два года. Он тоже выжил. Потому что Оксана, когда очнулась, первым делом спросила: «Где он?» Не «где я», не «что случилось» – «где он».
Мать. Настоящая мать.
Я сказала: здесь, рядом, спит.
Она заплакала. Первый раз за этот день – заплакала. Голодные не плачут – нет сил. Значит, тушёнка подействовала.
– Спасибо, – сказала она.
– Не за что.
– Вы потеряли место в очереди.
– Переживу.
– Почему вы это сделали?
Думала. Потом сказала правду:
– Потому что я старая. Очень старая. Голод я видела не раз. Каждый раз люди говорили: «Я потеряю место». Каждый раз потом жалели. Или не жалели – потому что умирали раньше, чем успевали пожалеть.
Оксана смотрела на меня. Не понимала – кто я, откуда, почему говорю такое. Но приняла. Голодные не задают лишних вопросов – принимают то, что есть.
– Вы странная, – сказала она.
– Знаю.
– Но спасибо.
– Пожалуйста.
Потом она спросила – моё имя. Я сказала: Роза. Она сказала: красивое имя. Я сказала: спасибо, мне тоже нравится.
Мы помолчали.
– Будет лучше? – спросила она.
– Будет, – сказала я.
Соврала. Не будет лучше – будет хуже. Много хуже. Впереди – тридцать седьмой, тридцать восьмой, сороковой, сорок первый. Впереди – война, блокада, ещё один голод. Ленинград. Девятьсот дней.
Но я сказала: будет лучше. Потому что иногда врать – необходимо. Иногда ложь – это единственное, что держит человека на ногах.
Мы, Комитет, это понимаем. Три тысячи лет понимаем. Поэтому – врём. Красиво, убедительно, профессионально. Даём людям надежду – потому что без надежды они умирают. Быстрее, чем от голода.
* * *Оксана и Петрик пережили голод.
Пережили тридцать седьмой – повезло, никого из семьи не взяли.
Пережили войну – эвакуация в Узбекистан, жара вместо холода, но хотя бы хлеб.
Пережили всё.
Петрик вырос. Стал инженером. Строил мосты. Однажды – в семьдесят третьем – я видела его в Киеве. Он шёл по улице, взрослый мужчина, седой уже, с портфелем. Не узнал меня – откуда ему узнать? Ему было два года, когда мы виделись последний раз.
Но я узнала.
Остановилась. Смотрела ему вслед. Думала: вот. Вот ради чего мы делаем то, что делаем. Вот ради чего врём, манипулируем, строим иллюзии. Чтобы этот мальчик – теперь уже мужчина – мог идти по улице с портфелем. Строить мосты. Жить.
Потом пошла дальше. В Москву. На дачу в Переделкино. К своим.
* * *Я рассказываю эту историю, потому что Арик спросил – почему я готовлю так много. Почему всегда – с запасом. Почему – как будто жду голод.
Потому что жду.
Шестьсот лет жду. Сколько раз дождалась – не считала. Только в России – три раза за сто лет.
Поволжье. Украина. Ленинград.
Голод не приходит сразу. Голод крадётся. И когда приходит – поздно готовиться.
Поэтому я готовлю заранее.
Поэтому – с запасом.
Поэтому – всегда.
* * *– Роза, – сказал Арик, когда я закончила рассказывать. – Это… я не знаю, что сказать.
– И не надо, – сказала я. – Просто ешь. Пока есть что.
Он ел. Молча. Я смотрела.
Хороший мальчик. Молодой. Глупый ещё – но это пройдёт. Глупость всегда проходит. Со временем.
А времени у нас – много.
Слишком много.
Интерлюдия вторая
Гершон бен Аарон. Время неизвестно. Место неизвестно.
Впервые – голос самого старого из нас. Тогда его звали Гершон бен Аарон. Он редко вспоминает начало. Сегодня – вспомнит.
Я не помню, когда родился.
Это не старческая забывчивость – это правда. В древности время считали иначе. Не годами – поколениями. «При моём деде» – это много. «При деде моего деда» – это очень много. «До памяти» – это начало мира.
Я родился «до памяти». Так мне говорили. Так я запомнил.
Помню пустыню. Жар. Песок, который скрипит на зубах. Козы, которые блеют по утрам. Шатёр, который пахнет дымом и молоком.
Помню отца – большого, бородатого, с громким голосом. Он говорил мне: «Слушай старших. Они знают». Я слушал. Они не знали. Но я понял это позже. Много позже.
Помню мать – маленькую, тихую, с руками, которые вечно что-то делали. Шила, готовила, чинила. Никогда не сидела без дела. «Праздность – грех», – говорила она. Тогда ещё не было слова «грех» – было другое слово, которое я забыл. Но смысл – тот же.
Помню день, когда всё изменилось.
* * *Мне было… сколько? Двадцать? Тридцать? Не помню. Молодой. По тем меркам – уже взрослый. Женат. Дети. Козы. Шатёр.
Пришёл человек. Старый – по тем меркам. Сорок лет, может, пятьдесят. С посохом, с бородой, с глазами, которые видели слишком много.
– Ты, – сказал он, указывая на меня. – Пойдём.
– Куда?
– Узнаешь.
Пошёл. Почему? Не знаю. Что-то было в его голосе. В его глазах. В его уверенности. Он знал. Я – нет. Я хотел знать.
Мы шли три дня. Через пустыню, через горы, через что-то, чему я не знал названия. Он не говорил – куда. Не говорил – зачем. Просто шёл. Я – за ним.
На третий день – пещера. Тёмная, глубокая. Внутри – люди. Пятеро? Шестеро? Не помню. Сидели вокруг огня. Смотрели на меня.
– Этот? – спросил один.
– Этот, – сказал мой провожатый.
– Он готов?
– Узнаем.
* * *Они говорили со мной всю ночь.
Рассказывали вещи, которых я не понимал. Про богов, которых нет. Про смысл, которого нет. Про жизнь, которая кончается – и ничего после.
– Люди умирают, – сказал один из них. – И всё. Темнота. Пустота. Конец.
– Но старейшины говорят…
– Старейшины врут. Мы – тоже. Все врут. Потому что правда – невыносима.
– Какая правда?
– Что смысла нет. Что мы – случайность. Что завтра мы умрём, и никто не вспомнит. Через поколение – забудут наши имена. Через десять поколений – забудут, что мы были.
Я не отвечал. Слушал. Пытался понять.
– Люди не могут жить с этим, – продолжал он. – Не могут просыпаться каждый день, зная, что всё бессмысленно. Им нужен ответ. Любой ответ. Даже ложный.
– И вы даёте ложный ответ?
– Мы даём ответ, который работает. Боги. Духи. Жизнь после смерти. Смысл. Цель. Надежда. – Пауза. – Это ложь. Но это – необходимая ложь. Без неё люди умирают. Не от голода – от отчаяния.
– И вы хотите, чтобы я…
– Мы хотим, чтобы ты присоединился. Нёс ложь вместе с нами. Давал людям то, что им нужно, – даже если этого не существует.
* * *Согласился.
Не сразу – через три дня. Три дня думал. Три ночи не спал. Ходил по пустыне, смотрел на звёзды, спрашивал себя: правда ли? Можно ли жить без смысла? Можно ли давать другим то, во что сам не веришь?
Ответ – да. Можно. Нужно. Потому что альтернатива – хуже.
Видел людей без надежды. Видел, как они угасают. Как перестают есть, работать, жить. Как ложатся и ждут смерти – потому что зачем вставать, если всё равно всё бессмысленно?
Ложь – плохо. Но смерть от отчаяния – хуже.
Я выбрал ложь.
* * *Три тысячи лет назад.
С тех пор – много всего. Египет, Вавилон, Греция, Рим. Христианство, ислам, коммунизм. Войны, чума, революции. Миллиарды людей родились и умерли, веря в то, что мы им дали. В богов, которых нет. В рай, которого не будет. В смысл, которого не существует.
Я устал.
Три тысячи лет. Устал. От лжи, от притворства, от необходимости делать вид, что знаю ответы. Я не знаю. Никто не знает. Мы просто – придумываем. И надеемся, что придуманное – поможет.
Иногда – помогает. Иногда – нет.
* * *– Григорий Аронович, – сказал Арик. – Вы жалеете?
Я не отвечал. Смотрел в окно. Снег, сосны, небо. Всё как три тысячи лет назад – только снег был песком, сосны – пальмами, а небо – таким же равнодушным.
– Не знаю, – сказал я. – Три тысячи лет не знаю. Возможно, мы спасли миллиарды жизней. Может быть – погубили. Может быть – и то, и другое. Как посчитать?
– Миша бы посчитал.
– Миша считает деньги. Жизни – не его область.
– А чья?
– Ничья. – Отвернулся от окна. – Жизни – нельзя посчитать. Нельзя взвесить. Нельзя сравнить. Можно только – прожить. И надеяться, что не зря.
– Вы надеетесь?
– Три тысячи лет надеюсь. – Сел в кресло. Старое, продавленное, привычное. – Это единственное, что у меня осталось. Надежда. Та самая, которую мы продаём другим. Оказывается – нужна и нам.
– Это… грустно.
– Это – жизнь. – Закрыл глаза. – А теперь – дай старику отдохнуть. Три тысячи лет – утомляют.
Документ№2
Служебная записка
От: М.Я. Кацнельсон, ответственный за финансы
Кому: Председателю Комитета
Дата: 3 октября 1917 года
Тема: О необходимости срочной эвакуации активов
Уважаемый Григорий Аронович!
Довожу до Вашего сведения, что политическая ситуация в Петрограде продолжает ухудшаться. По моим расчётам (см. Приложение 1, таблицы 1-47), вероятность государственного переворота в ближайшие 30-60 дней составляет 73,4%.
В связи с вышеизложенным НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ:
1. Немедленно эвакуировать золотой запас Комитета из Петроградского отделения в Москву (оценочная стоимость – 340 000 золотых рублей).
2. Конвертировать российские государственные облигации в иностранную валюту (убыток при конвертации – около 12%, но лучше потерять 12%, чем 100%).
3. Рассмотреть возможность временного перемещения Центрального архива в нейтральную страну (предлагаю Швейцарию, как наиболее стабильную).
4. ПОЧИНИТЬ СТУПЕНЬКУ В ПОДВАЛЕ. В случае срочной эвакуации архива шатающаяся ступенька представляет РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ для сохранности документов и здоровья персонала.
Прошу рассмотреть данную записку В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ.
С уважением, М.Я. Кацнельсон
P.S. Если мы не примем мер сейчас – потом будет поздно. Запишите: Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ.
Резолюция председателя (от руки):
«Миша, ты паникуешь, как обычно. Какой переворот? Временное правительство держит ситуацию под контролем. Успокойся и выпей чаю.
Насчёт ступеньки – согласен. Поручи кому-нибудь.
Г.А.»
Примечание архивиста (добавлено в 1991 году):
Переворот произошёл 25 октября 1917 года, через 22 дня после написания записки. Золотой запас эвакуировать не успели – реквизирован новой властью. Облигации – обесценились. Архив – спасли, вывезли ночью через чёрный ход.
Ступенька – не починена.
М.Я. Кацнельсон был прав. Но его, как обычно, не послушали.
Интерлюдия третья
Шимон. 70 год нашей эры. Иерусалим.
Голос Семёна. Ему тысяча лет. Он уже много видел. Но это – запомнит навсегда.
Храм горел.
Стоял на Масличной горе и смотрел, как пламя пожирает святая святых. Римские легионеры внизу – тысячи, десятки тысяч – методично разрушали то, что строилось веками. Камень за камнем. Колонна за колонной.
Крики. Плач. Молитвы, которые никто не слышит.
Рядом со мной стоял Гершон – тот, кого потом назовут Григорием Ароновичем. Смотрел. Губы шевелились – то ли молитва, то ли проклятие.
– Мы могли предотвратить, – сказал я.
– Нет.
– Могли! У нас были связи в Риме. Деньги. Влияние. Мы могли договориться с Титом, откупиться, выиграть время…
– Шимон. – Он повернулся ко мне. В его глазах было что-то, чего я раньше не видел. Пустота. Или принятие. – Посмотри на них.
Внизу, среди пламени и крови, люди продолжали сражаться. Зелоты – фанатики, которые верили, что Бог спасёт. Что придёт Мессия. Что чудо случится.
Чуда не было. Бог – наш Бог, тот, которого мы создали – молчал.
– Они верят, – сказал Гершон. – Искренне верят. Умирают – с верой на устах. Что мы можем им сказать? Что их Бог – наша выдумка? Что мы солгали их предкам тысячу лет назад, у костра в пустыне?
– Тогда зачем мы здесь?
– Чтобы помнить. – Он снова смотрел на пламя. – Чтобы когда-нибудь – может быть – научиться делать лучше.
* * *
К утру всё было кончено.
Храм лежал в руинах. От величайшего здания на земле осталась одна стена – та, что стоит до сих пор. Западная стена. Стена плача.
Мы спустились в город – когда римляне ушли праздновать победу. Шли по улицам, которые помнили живыми. Мимо домов, где жили друзья. Мимо рынка, где я покупал хлеб. Мимо синагоги, где молился – не веря, но соблюдая.
Везде – тела. Мужчины, женщины, дети. Священники в белых одеждах, залитых кровью. Воины с мечами в руках – мёртвые. Старики, не успевшие убежать. Младенцы, не понимавшие, что происходит.
– Сколько? – спросил я.
– Не знаю. – Гершон считал шаги. Или жертвы. – Тысячи. Десятки тысяч. Может – больше.
– И мы ничего не сделали.
– Мы сделали главное. – Он остановился у стены – той самой, которая осталась. – Мы создали то, что переживёт этот день. Идею, которую не сожжёшь. Веру, которую не разрушишь. Храм можно построить снова – если есть вера.
– И они построят?
– Нет. – Он прикоснулся к камню. – Они будут ждать. Две тысячи лет будут ждать. Верить, что Мессия придёт. Что Храм восстанет. Что всё вернётся.
– И это… хорошо?
– Это – необходимо. – Он убрал руку. – Людям нужна надежда. Даже ложная. Особенно – ложная. Правда убивает быстрее римских мечей.
* * *Мы ушли из Иерусалима той же ночью.
В кармане у меня был осколок камня – от Храма. Маленький, почерневший от огня. Я ношу его до сих пор. Две тысячи лет ношу.
Григорий Аронович спрашивает: зачем?
Я отвечаю: чтобы помнить. Что мы можем создавать – и разрушать. Что наши истории становятся чужой верой. Что за веру – умирают.
Говорит: это груз.
Я отвечаю: это ответственность.
Молчит. Три тысячи лет молчит – когда нечего возразить.
Глава вторая
31 декабря, 5:00 – 8:30. Почему Россия
Арик не спал.
Я слышал, как он ворочается в соседней комнате. Скрипит диван, шуршит одеяло, тишина – и снова скрип. Человек, которому только что сообщили, что мир устроен не так, как он думал, редко засыпает сразу. Даже если устал. Особенно если устал.
Я тоже не спал. Сидел на кухне. Смотрел в окно. Думал.
Маск знает. Откуда – неважно. Важно – что. Сколько. И что собирается делать.
* * *Думал о Константинополе.
Не знаю, почему – просто вспомнилось. Тысяча четыреста пятьдесят третий год. Падение города. Конец Византии. Конец эпохи.
Я был там. Звался тогда Симеон – греческое имя для греческого города.
Стоял на стене, когда турки шли на приступ. Рядом – греческий монах, старый, с седой бородой до пояса. Он молился. Громко, истово, как молятся люди, которые верят, что молитва поможет. Что Бог услышит. Что случится чудо.
Чуда не случилось.
Турки прорвали стену в трёх местах. Монах – тот самый, который молился – погиб одним из первых. Копьё в грудь. Он упал, и последнее, что сказал: «Господи, почему?»
Я мог бы ответить: потому что Господа нет. Потому что мы его придумали – в древности, в пустыне, от скуки и страха. Потому что твоя молитва уходила в пустоту – красивую, торжественную пустоту, которую мы украсили словами и ритуалами.
Но я не ответил. Зачем? Он уже не слышал.
Убежал из города через подземный ход. Старый ход, ещё римский. Мы его знали – мы многое знали о Константинополе. Мы его строили. Не буквально – но идею подкинули. «Новый Рим» – звучит, правда? Наша формулировка.
Сундучок я потерял. Дорожный, кожаный, с медными застёжками. Хороший был сундучок – византийской работы. Нёс в нём самое ценное: три свитка из Александрии (копии, оригиналы сгорели), печать Комитета и сменную рубаху. Рубаху – не жалко. Свитки – до сих пор жалко.
* * *
Старик не сказал подробностей. Он вообще редко говорит подробности – считает, что умный поймёт, а дураку объяснять бесполезно. Я не дурак. Но понимаю меньше, чем хотелось бы.
«Тайная организация, которая тысячелетиями манипулирует верованиями человечества».
Формулировка точная. Неприятно точная. Как будто цитировал наш внутренний устав. Которого, кстати, не существует – мы так и не договорились о формулировках. Три тысячи лет спорим.
В шесть утра на кухню вышел Арик. Помятый, невыспавшийся, но с чем-то новым в глазах. С решимостью, что ли. Или с отчаянием – иногда их трудно отличить.
– Кофе есть? – спросил он.
– Есть. Растворимый.
– Другого не бывает?
– Бывает. Но растворимый – быстрее. А у нас мало времени.
Он сел. Налил кипяток, бросил ложку коричневого порошка. Кофе – громко сказано. Но бодрит. В моём возрасте – главное, чтобы бодрило.
– Я думал, – сказал Арик.
– Полезное занятие.
– Думал и не понял.
– Чего не понял?
– Почему Россия?
* * *
Почему Россия.
Хороший вопрос. Я задавал его себе много раз. И каждый раз находил новый ответ.
Первый ответ – практический. Россия – большая. Много людей. Много проблем. Много работы для тех, кто даёт ответы на вопросы, которые не имеют ответов.
Второй ответ – исторический. В семнадцатом году здесь начался эксперимент. Самый масштабный в истории. Мы хотели посмотреть. Посмотрели. Остались.
Третий ответ – личный. Мне здесь нравится. Не знаю почему. Холодно, тяжело, непредсказуемо. Но – честно. Россия не притворяется. Не делает вид, что всё хорошо. Говорит прямо: плохо. И будет хуже. Но мы справимся. Или не справимся. Посмотрим.
Такой подход мне близок. После трёх тысяч лет – близок.
* * *
– В смысле?
– Ты говоришь – организация древняя. Тысячи лет. Египет, Рим, всё такое. – Он отхлебнул кофе, поморщился. – Почему вы здесь? В Москве? В России? Почему не в Иерусалиме? Не в Ватикане? Не в Нью-Йорке? Где угодно – но не здесь.
Хороший вопрос. Правильный вопрос. Мальчик думает в нужном направлении.
– Ты знаешь, – сказал я, – сколько революций было в России за последние сто лет?
– Две? Семнадцатый год.
– Две – это официально. А неофициально… – Я задумался. – Февральская, Октябрьская, Гражданская война, коллективизация, оттепель, застой, перестройка, девяносто первый, девяносто третий, нулевые, десятые… Страна, которая не может прожить двадцать лет без того, чтобы всё переломать и начать сначала.
– И это хорошо?
– Для нас – да. Где ломается старое – нужен новый смысл. Люди теряют веру в царя – им нужна вера в партию. Теряют веру в партию – нужна вера в рынок. Теряют веру в рынок – нужна вера в державу. Мы поставляем. Мы всегда поставляем.
– То есть вы здесь, потому что здесь – хороший рынок?
– Мы здесь, потому что спрос на смысл – бесконечен. Россия – страна, которая никогда не перестаёт искать смысл. И никогда его не находит. Для нас – идеально.
Арик осмысливал.
– А раньше? – спросил он. – До России?
– Египет. Потом – Иерусалим. Потом – Рим. Константинополь. Багдад – недолго. Испания – ещё короче. Потом – рассеялись по Европе. Потом – сюда.
– Почему сюда?
– Потому что в семнадцатом году здесь начался самый большой эксперимент в истории человечества. – Повторяюсь. – И мы хотели посмотреть.
– Посмотрели?
– Посмотрели. Поучаствовали. Обожглись. Остались.
– Почему остались?
– Потому что старые. – Встал, подошёл к окну. – Ты знаешь, что такое переезд, когда тебе три тысячи лет?
– Нет.
– Это кошмар. Архив за три тысячи лет – куда его везти? Как? На чём? У нас в подвале, между прочим, библиотека Ивана Грозного. Та самая, которую все ищут.
– Серьёзно?
– Серьёзно. Восемьсот томов, греческие рукописи, латинские хроники. Иван Васильевич был человек начитанный. Жестокий, параноидальный, но образованный. Перед смертью попросил спрятать – чтобы врагам не досталось. Мы спрятали. До сих пор лежит.
– И никто не знает?
– Все ищут. Кремль перекопали, подвалы простукали, Александровскую слободу по камешку разобрали. А она – в Переделкино. В подвале у Григория Ароновича. Рядом с протоколами Первого Вселенского собора и счетами за строительство Парфенона.
– Счета за Парфенон?
– Фидий – гений, но с финансами у него было… сложно. Три раза переделывал смету. Афиняне злились. Мы посредничали.
– Покажешь?
Посмотрел на него. На этого мальчика, который за одно утро узнал больше, чем большинство людей узнают за всю жизнь. И который всё ещё хотел знать больше.
– Пошли.
* * *
До подвала мы добрались только к полудню. Но раз уж я начал – расскажу сейчас. Подвал был… подвалом. Старым, сырым, с низким потолком и запахом времени. Тем особым духом, который появляется, когда в одном месте слишком много прошлого.
Арик остановился на пороге. Смотрел.
Полки. Ряды полок от пола до потолка. Свитки, книги, папки, коробки. Надписи на десятках языков – половину он, наверное, даже не узнал.
– Это…
– Это три тысячи лет, – сказал я. – Вся история. Наша версия.
Он подошёл к ближайшей полке. Провёл пальцем по корешкам.
– Здесь… – он прочитал надпись на одной из папок. – «Александр. Македония. Личная переписка»?
– Мы советовали его отцу. Потом – ему. Потом – его генералам.
– И что он писал?
– В основном – жаловался на погоду. В Индии было слишком жарко. В Персии – слишком пыльно. В Египте – слишком много мух.
Арик засмеялся. Нервно, на грани истерики.
– Александр Македонский жаловался на мух?
– Все жалуются. Даже великие. Особенно великие. – Я показал на другую полку. – Вон там – Наполеон. Он жаловался на еду. Повара в походах готовили отвратительно. Пятьсот писем – и в каждом: «мясо пережарено», «суп холодный», «где мой любимый сыр?»
– Наполеон любил сыр?
– Камамбер. Не мог без него жить. Перед Ватерлоо его денщик не нашёл камамбер – и Наполеон был в ужасном настроении. Историки считают, что он проиграл из-за стратегических ошибок. Я думаю – из-за сыра.
Арик смотрел на меня. Пытался понять – шучу или нет.
– Ты шутишь.
– Я никогда не шучу о сыре. – Я прошёл между полками. – Вон там – переписка Екатерины Второй. Вон там – черновики Декларации независимости США. Вон там – первый экземпляр «Капитала» с пометками Маркса.
– Маркс?
– Мордехай. Его звали Карл Гиршелевич. Умный человек, горячий. Мы его предупреждали – «Мордехай, твои идеи слишком радикальны, люди не поймут». Он не слушал.
– Как Ганнибал.
– Как все. – Я остановился у дальней полки. – А вот это – самое старое. Глиняные таблички. Шумер. Четыре тысячи лет назад.
Арик подошёл. Взял одну табличку – осторожно, как берут новорождённого.
– Что здесь написано?
– Рецепт пива.
– Пива?
– Шумеры любили пиво. Первые письменные документы в истории – рецепты пива и долговые расписки. Человечество не меняется.
– А вот эта?
Посмотрел на табличку в его руках.
– Жалоба. Клиент недоволен качеством меди. Пишет поставщику, что тот его обманул. Грозит судом.
– Четыре тысячи лет назад?
– Четыре тысячи лет назад. Первый негативный отзыв в истории. – Улыбнулся. – Видишь? Ничего не меняется. Люди жалуются, обманывают друг друга, судятся. Мы думали, что меняем историю – а история течёт сама по себе. Мы только подбираем слова.
Арик положил табличку обратно. Огляделся.
– И всё это… настоящее?
– Всё. Каждый документ. Каждое письмо. Каждая расписка.
– И никто не знает?
– Знают те, кому положено. А остальные… – Я пожал плечами. – Остальные ищут. Библиотеку Грозного ищут пятьсот лет. Письма Александра – две тысячи. Исходный текст Торы – три тысячи.