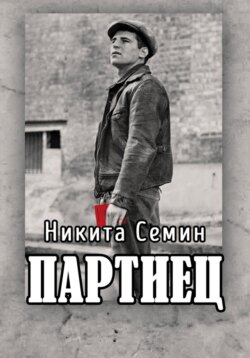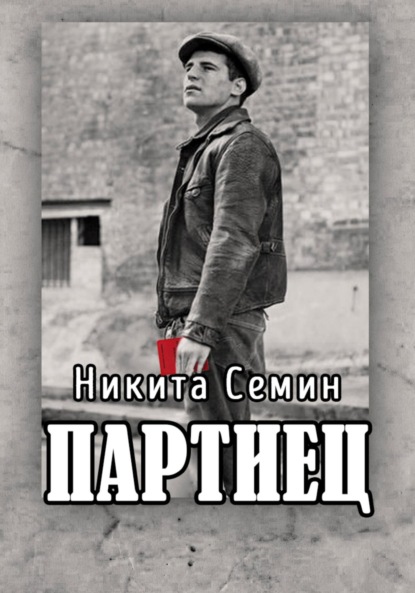– Так, позже начали, товарищ Сталин. Всего не успеть. Да и таких же материалов с мест у меня не было. Ну и самому бы посмотреть, как там – в деревнях-то люди живут, – пожал я плечами.
И тут же прикусил язык, но было поздно.
– Вот и поезжайте в деревни. Посмотрите, – подвел черту Иосиф Виссарионович. – Отсрочку от учебы мы вам оформим.
Глава 5
Январь – март 1929 года
«Зимой в деревню? Да что там делать?! – пронеслось в моей голове. – А как же хоть немного отдыха? Снизить темп, с Людой погулять?» – пришла следующая мысль.
– Товарищ Сталин, – возмущенно начал я, но тут же снизил тон, заметив нехороший блеск в глазах Иосифа Виссарионовича. – А что сейчас в деревне я увижу-то? Там ведь ни сеять не будут, ни еще какие-то заготовки делать. Не зря ведь говорят, что мужик зимой на печке лежит. Имеет ли смысл моя поездка сейчас? Может ее лучше на весну запланировать? Все больше пользы будет, и учебу не пропущу.
Пожевав губами, Сталин нехотя кивнул.
– Хорошо, товарищ Огнев, поедете весной. К тому же вы еще не написали к законам пояснительные брошюры, о которых говорили мне в прошлый раз.
– Вот! – тут же поддержал я его. – Этим и займусь. Художника еще толкового найду. Сам, – добавил я на всякий случай, а то, увидев размах товарища Сталина, он мне еще какую «знаменитость» подгонит. Вроде и не плохо, но уж очень не комфортно мне было работать с Жижиленко и особенно с Вышинским. Эти люди цену себе знают, и свое мнение в разговоре с ними отстоять очень трудно. Хотя и поработали мы продуктивно. А художники – народ менее дисциплинированный. Как бы там проблем на ровном месте не огрести от «знаменитости».
На этом аудиенция у генсека завершилась, и меня отвезли обратно домой. Время позднее, так что новый год я встречал в этот раз с родителями. Елки теперь были официально под запретом, и встречали мы праздник без традиционного дерева. Мне больше Настю было жалко. У нее-то не будет в детстве такого же праздника, какой я получил в свои шесть лет. Чтобы создать для нее хоть какое-то торжество и приятное воспоминание, я заранее приобрел подарок – большую куклу аж с тремя нарядами, которые можно на нее надевать, да раздобыл через Ашота Геворговича мандаринов. Хоть я с ним и общался редко, но иногда, когда я был у Говориных, все же пересекался.
Настя была в восторге. Пискнула от радости, обняла куклу и даже на мандарины не посмотрела, тут же улетела в большую комнату играть.
– Ну, теперь перед всей площадкой хвалиться будет, – умиленно смотря на дочь, заметила мама.
Я сначала не понял, что за площадка, а потом вспомнил, что так сейчас называют детские сады.
Наконец мы с Людой смогли погулять и покататься на коньках. Я за долгий перерыв все забыл, и ей снова пришлось меня учить уверенно двигаться по льду. Пусть это и было недолго – навык довольно быстро восстановился.
С брошюрами было все гораздо проще, чем с самими законами. Уже знакомый художник, рисовавший мне картинки для книг, без проблем согласился взяться за новое задание. Даже обрадовался, что я его не забыл, и с энтузиазмом слушал меня – что именно должно быть изображено и в каких местах нужно оставить место для подписей.
Уже в первых числах января Президиум издал ряд указов, которые подготовило наше «трио». Об их введении было принято решение еще на Пленуме, когда выступал товарищ Сталин, тряся с трибуны моими черновиками, поэтому ни у кого это удивления не вызвало. Но на этом товарищ Сталин не остановился.
Уже в конце месяца он «начал наступление» на кулачество, призвав ликвидировать кулаков, как класс.
– …Этот год должен стать годом Великого перелома! – вещал Иосиф Виссарионович. – Когда мы окончательно уйдем от кулака-буржуя, и придем к коллективному ведению хозяйства! Да, будет не просто, но это необходимо сделать. Чтобы помочь крестьянам и ответственным руководителям на местах, партия и правительство сейчас работает над созданием законодательной базы. Переход должен и будет регулироваться в соответствии с Советскими законами, идя с ними рука об руку…
Хоть Иосиф Виссарионович и не отказался от идеи создания колхозов и фактически хоронил НЭП, меня радовало, что на этот раз будут изданы хоть какие-то законы, чтобы люди могли чувствовать себя защищенными от произвола особо ретивых начальников на местах. И мне придется очень хорошо подумать, что в них написать. Ответственность – колоссальная. Радовало хотя бы то, что меня проверять будут такие зубры, как Жижиленко и Вышинский. Но в случае проблем с новыми законами, все равно крайним окажусь я. Вот эта мысль и давила и придавала сил, выкладываться на полную. В том числе и в учебе.
В конце января в газете строчкой промелькнула новость о высылке товарища Троцкого из СССР. После нашего разговора отец все же снова начал читать газеты, перестав отстраняться от происходящих событий, и на этот раз никак не прокомментировал высылку Льва Давидовича. Даже вечером не пил. Приходит вроде в норму.
Иосиф Виссарионович продавливал линию на создание колхозов не только с трибуны Пленума, или удачно воспользовавшись моей инициативой. В конце февраля вышел фильм «Генеральная линия: старое и новое».
Мы с Людой решили сходить на него. Меня привлекло название – как режиссер и правительство видят изменения в стране, а Люда просто радовалась нашему походу.
Ну что сказать о фильме? Пропаганда, как она есть, но смонтировано динамично для этого времени. По сюжету крестьянка Марфа с участковым агрономом собирают бедняков для создания колхоза, но им препятствуют местные кулаки. Да и многие бедняки не понимают, как работать в новом объединении. Сама девушка хочет создать не просто хозяйство, а молочную артель. И на помощь к ней и новообразованному колхозу приходят рабочие-шефы. Они покупают для артели первый трактор, и дело сдвигается с мертвой точки. А в конце фильма по полям уже едут десятки тракторов, за одним из которых сидит сама Марфа.
Как и сказал, смонтирован был фильм достаточно динамично. Картинка постоянно менялась, показывая то напряженные лица артельных, то крупным планом – ручку сепаратора, которую они все быстрее и быстрее раскручивают. Затем в кадр врываются вращающиеся диски и выводные трубы сепаратора, а в финале сцены – бурная струя молока и восторженные лица артельных крестьян. И как итог – строчки с цифрами, чего достиг колхоз.
– Хорошее начинание товарищ Сталин затеял, – воодушевленно заявила мне Люда, когда мы вышли из кинотеатра.
– Да, хорошее, – задумчиво кивнул я.
Вот так и формируется общественное мнение у людей. Особенно у тех, кто непосредственно не участвует в колхозах.
Незадолго до моей поездки в деревни со мной снова связался Михаил Ефимович.
– Ну что, Сергей, – начал Кольцов, буквально светясь от переполнявшей его энергии, – поедем на заводы? Узнаем, как они выполняют наше законодательство?
Вопрос был не праздный, мне и самому было интересно, к чему привело мое вмешательство, и поэтому я сразу согласился. Хоть прошел всего месяц с издания Политбюро указов по семичасовому рабочему дню, но мы в Москве живем, тут новые законы быстрее вводятся в жизнь, чем на периферии. Поэтому был шанс, что хоть какие-то изменения мы увидим. И наши ожидания полностью оправдались!
На тех предприятиях, где мы уже были раньше, нас уже знали в лицо. Из-за чего полностью откровенного разговора не получилось. Тут и директора прибежали быстрее, и сами рабочие следили за тем, что говорят – видимо не прошел бесследно для них наш прошлый визит. Но по введенным новым законам жить стало им и проще и сложнее одновременно. С одной стороны – теперь стало ясно примерно, к кому можно обратиться за помощью и как «надавить» на своего руководителя. А с другой – и от них самих теперь больше требовалось. Особенно от новых работников, еще плохо разбирающихся в тонкостях рабочего процесса.
В этот раз мы с Михаилом Ефимовичем пошли и по иным заводам. Вот там удалось поговорить с работягами свободнее.
– Оно конечно эти указы и вроде хорошо, – чесал бороду электромонтер Ходынкинской радиостанции, – теперь вот я могу, если задержался, подать бумагу в профсоюз, и мне эти часы протабелируют. А с другой, и спроса больше стало. Чуть раньше не уйдешь уже, коли все сделал. И просто так посидеть, перекурить, не получится. Мигом или штраф «за тунеядство» впаяют, либо запишут, сколько времени не работал. И тогда уже в иной день если задержишься, то никто табелировать это не будет. Вычтут то время, что покурить ходил.
Но в целом мнение было такое: спокойнее стало. Появилась уверенность, что самодурством теперь заниматься не будут. И правила «игры» стали «прозрачнее». Ну и то хлеб.
В рамках нашей с Михаилом Ефимовичем «проверки» я предложил заглянуть к Поликарпову и Туполеву. Соскучился по ним, чего уж там. Ну и интересно было, как наша авиация живет. А то выпал я из этого процесса. Лишь то, что отец рассказывает, знаю. А он со мной делится новостями редко. Не потому что не хочет – времени ни у меня, ни у него не хватает.
Хоть формально мы пришли на завод к Николаю Николаевичу с проверкой, я тут же пошел искать Борьку. Михаилу Ефимовичу сразу сказал мою цель, поэтому он отнесся с понимаем и пошел опрашивать рабочих сам. Вот только на заводе я его не нашел. Более того, меня удивили, что еще в прошлом году Поликарпова перевели на авиационный завод номер 25, сделав там не только техническим директором, но и главным конструктором собственного КБ. Только после этого я вспомнил, что Борька и правда упоминал нечто подобное. Но в связи с учебой и занятостью над написанием тогда книг я про это просто забыл. Пришлось переключаться на то, ради чего мы с Михаилом Ефимович «официально» и прибыли на завод.
Борьку я все же навестил. Друг стоял в сборочном цехе с планшетом в руках и деловито записывал данные полета, которые ему диктовал летчик-испытатель.
– О, привет! – радостно махнул он мне рукой, когда заметил меня. – Какими судьбами?
– В гости, – усмехнулся я, подойдя и пожимая руку друга.
Тот извинился и сначала закончил опрос летчика, а уже потом мы прошли в кабинет Николая Николаевича. Там и с Поликарповым поздоровался. Узнал, что кроме Борьки в помощниках у него целый штат конструкторов. Человек двадцать пять, не меньше! И работали они над многоцелевым самолетом-разведчиком. Но он и как бомбардировщик должен был использоваться, и как штурмовик. Также Николай Николаевич был верен себе и проектировал еще один биплан. На этот раз одноместный – развитие удачной идеи двухместного биплана, который пустили в серию и который я предлагал на конференции использовать как учебный самолет.
Много о своей работе он не рассказывал, а Борька поделился, что у Николая Николаевича какие-то проблемы с командованием ВВС РККА.
– И молчит главное, ни с кем не делится, – переживал друг.
Что там случилось у Поликарпова, я не знал. Мне он тоже ничего не сказал, заявив, что «все нормально, не переживай».
После мы поехали в ОКБ Туполева. Вот там если бы не мое личное знакомство с Андреем Николаевичем, даже ссылка на товарища Сталина не помогла бы. Нас вежливо попросили подождать, пока доложат руководству, но на территорию не пустили. Хорошо хоть я свое имя назвал, а Туполев меня вспомнил и велел пропустить. Да уж, с вопросами безопасности и секретности у Андрея Николаевича все гораздо лучше, чем у того же Поликарпова. Да хотя бы взять тот момент, что в комнату, где инженеры Туполева занимались проектированием, я так и не попал, а принял меня конструктор в собственном кабинете.
– Давно не виделись, Сергей, – улыбнулся мне мужчина. – Здравствуйте, – уже более сдержанный кивок Кольцову.
– Здравствуйте, Андрей Николаевич, – поздоровались мы с журналистом почти синхронно.
И тут же все рассмеялись от комичности ситуации. Коротко поделились новостями, причем больше рассказывал я. После этого Михаил Ефимович попросил разрешения поговорить с рабочими и, получив его, тут же умчался, оставив нас с Туполевым одних.
– А я ведь думал еще о самолете для кораблей потом, – признался я Андрею Николаевичу. – Сильно меня тогда задело, что не смог ничего создать.
– Вот как? И что? Есть какой-то результат? – тут же оживился конструктор.
– Есть мысль, – покачал я головой. – Почему обязательно делать привычный самолет?
– Ты о чем? – удивился Туполев.
– Я о вертолете. Таком аппарате, у которого винт не спереди, а сверху. Для него тогда и взлетной полосы не нужно – с места вверх бы поднимался и также садился.
– Аааа, вот ты о чем, – протянул Андрей Николаевич. – Вынужден тебя огорчить, Сергей, попытки создать такой аппарат были, но все они не увенчались успехом.
– Прямо совсем? – не поверил я.
Знаю ведь, что в будущем вертолеты были созданы и активно использовались.
– Из того, что мне известно – максимального результата добился Сикорский. Увы, он сейчас за границей. Да и он не смог поднять человека в воздух – только сам аппарат.
– И когда это было?
– Сейчас, дай вспомнить, – нахмурился Андрей Николаевич. – Если не ошибаюсь, в десятом году, – сказал он через пару минут.
– Ну так тогда и двигатели были слабее! – тут же нашел я возможную причину неудачи. – Поставить более мощный двигатель – и тогда не только аппарат, но и человек на нем в воздух подняться сможет!
– Ну и как он будет лететь? – тут же задал Туполев провокационный вопрос. – Вперед что его потянет? Еще один винт?
– Второй винт нужен, – согласился я, – но на хвосте.
– Для чего? – удивился конструктор.
– Чтобы сам аппарат по своей оси не вертело. Я когда о мощном винте думал, понял, что сам вертолет будет закручивать. Вот чтобы стабилизировать его, и нужен винт на хвосте. Но расположенный вертикально, как на самолете, и сбоку. А для движения вперед-назад можно верхний винт наклонять. Или вообще – сделать два винта на крыльях, как на самолете, только расположить их горизонтально. Как такой самолет поднимется в воздух, винты опускаются в горизонтальное положение, и получается обычный самолет.
Вот эта идея заинтересовала Туполева гораздо больше.
– Интересно. Но механизация крыла получится сложной. Выдержит ли конструкция? Смогут ли два винта поднять такой самолет вертикально, без разгона? – стал вслух размышлять Андрей Николаевич.
– Но ведь идея не фантастическая? – заметил я.
– А? – отвлекся ушедший в свои мысли Туполев. – Да, конечно, она вполне реализуема. Но вот хватит ли мощностей двигателей – тут большой вопрос. Знаешь, ты не против, если я поделюсь твоей идеей с одним человеком? Есть у меня знакомый инженер, который увлекается необычными конструкциями самолетов.
– Да конечно, буду только рад, если эта идея кому-то поможет.
Попрощавшись с Туполевым, я с чувством выполненного долга покинул ОКБ. Глядишь, и будут у СССР свои вертолеты гораздо раньше, чем появились в моей прошлой жизни.
В середине марта ко мне снова пришел Савинков. На этот раз он не повез меня к товарищу Сталину, а передал документы для университета о моей «командировке по линии партии» и бумагу, подтверждающую, что я действую по заданию Иосифа Виссарионовича.
– Это показывать при острой необходимости, – указал Савинков на бумагу. – Только если кто из местных партийных или иных работников вздумает мешать. Но лучше сильно не светить ей.
Причины мне были понятны. Фиг мне что будут рассказывать на месте, если узнают, что я от Сталина. Скорее будут «лапшу на уши весить».
– Скажешь, что от газеты «Правда» журналист. Вот подтверждение, – подал он еще один документ. – А вот командировочные, – из рук служивого ко мне перекочевала стопка рублей.
Не особо много, где-то чуть больше трех сотен. Покупать билеты на поезд я должен сам с них, а сколько мне кататься – тоже самостоятельно определяю.
– Как вернешься, напишешь отчет, – предупредил Савинков.
После чего попрощался и ушел.
Ну что же, задание получено, пора выполнять. Откладывать я не стал и уже на следующий день занес документы декану, попрощался с Людой и отправился на вокзал. По дороге приобрел стопку газет, чтобы было не скучно ехать.
Сильно далеко на первый раз от Москвы я не собирался удаляться. Буквально отъеду километров на пятьдесят, а там уже и буду смотреть. Если что потом и дальше проехать можно. Чтобы хоть как-то ориентироваться, взял еще и карту Московской губернии. За ней пришлось идти в букинистическую лавку, да и стоила она не мало, зато я хоть смогу понять, где нахожусь.
Разместившись в вагоне, я затолкал чемодан со своими вещами под лавку и достал первую попавшуюся газету из купленных.
– Да ну на…! – вырвалось из меня непроизвольно через десять минут.
Я потер глаза, считая, что мне померещилось, но буквы в газете остались неизменными. В статье, которая вызвала у меня такую бурную реакцию, говорилось о предложении рабочими Ленинградского завода «Красный Выборжец» организовать социалистическое соревнование. Но удивило меня не это, а фамилия инициатора. И удивился бы любой, кто жил в моей прошлой жизни. Потому что фамилия такого инициативного работника была – Путин!
Глава 6
Март – апрель 1929 года
– Чего кричишь, парень? – обернулся ко мне мужик с соседней лавки.
По виду – типичный крестьянин. В тулупе, борода лопатой, в зубах самокрутка, которую он неторопливо смолил.
– Да так, фамилию знакомую увидел в газете, – пробормотал я.
– Это какую?
– Да вот, – показал я ему статью о Путине. – Думал, друг мой, а оказалось – однофамилец.
Мужик успокоился, а я вернулся к статье в газете. И правда, не померещилось мне. Путин. Только инициалы – М.Е.
– Родственник? Предок может? – прошептал я себе под нос.
И стал вспоминать, как могли звать деда Владимира Владимировича. Через несколько минут вспомнил, как по телевизору показывали шествие Бессмертного полка. Там президент шел в первых рядах с фоткой своего отца-фронтовика. И инициалы у него были – В.С.
– Не, однофамилец просто, – пришел я к выводу.
Но как тесен мир! А может и не однофамилец, а все же родственник, но дальний.
До намеченной первой «точки» – деревни, я добрался за три часа. Поезд шел неторопливо, останавливался почти в каждой деревне по пути, неудивительно, что такой короткий отрезок я так долго ехал.
Сойдя на дощатый «перрон», я осмотрелся. Небольшой помост с деревянной лестницей – вот и вся станция. В сотне метров виднеются одноэтажные постройки. К ним идет накатанная колея дороги. Снег еще лежал, хотя проталин хватало, да и по ночам прихватывал морозец. От того в колеи были полузамерзшие лужи, сейчас смотрящие на меня мутными «глазами"-омутами. Перехватив поудобнее чемодан, я двинулся к деревне.
Встретил меня лай собак, да мычание редких коров. На околице пара детей с любопытством пялилась в мою сторону, шепотом обсуждая приезжего.
– Эй, парни, не подскажите, где здесь сельсовет? – крикнул я им.
– Тот дом, – махнул мне рукой старший в этом дуэте пацан лет десяти.
Прикинув, куда он указал, я пошел вдоль дороги.
По пути из окон домов выглядывали преимущественно женщины. Не очень большое количество мужиков и молодых парней, что я встретил, смотрели недобро, а одеты они были или в военную форму, или в очень похожую на нее гражданскую. Дойдя до большого дома, я прикинул – это ли сельсовет?
– Чего надоть? – крикнул вышедший из дверей мужик.
– Где сельсовет, не подскажите?
– Туда иди, – махнул он рукой дальше по дороге, указав на дом в паре десятков метров, что был по площади чуть поменьше.
– Спасибо!
Возле здания сельсовета, в отличие от остальных домов, не было какого-то двора. Точнее, участок был, но не было ощущения, что тут грядки садят или что иное. Дверь оказалась заперта, а на мой стук никто не вышел. Я растерялся. Что дальше-то делать? Куда идти?
На помощь пришла молодая девушка моего возраста, которая вышла из того же дома, где мне ответил неприветливый мужик.
– Тебя как звать-то?
– Сергей.
– А меня Евдокия, – кокетливо сказала она. – Тебе Лексей Ваныч нужен?
– Если он глава вашего сельсовета, то да.
– Дома он.
– Покажешь?
– Может, и покажу, – хихикнула Евдокия, стрельнув в меня глазками.
– Дунька! – раздался крик мужика. – А ну вертайся назад!
Девушка оглянулась испуганно и, поджав губы, сбежала. Тяжело вздохнув, я снова вернулся к тому мужику, который сначала мне дом сельсовета показал, а после и с девушкой поговорить не дал.
– Где вашего главу искать, не подскажите?
– А ты кто такой будешь?
– Журналист, из Москвы. Статью написать хочу о том, как у нас на селе живут.
– Ишь ты, – фыркнул тот недовольно. – Журналист. Третий дом дальше.
Наконец я нашел нужного мне человека. Алексей Иванович оказался мужиком лет сорока. Вместо правой ноги – деревяшка. При ходьбе он опирался на выструганную палку, похожую на посох. Вместе с ним жила его жена, две дочки и сын подросток.
– Журналист, говоришь? – с прищуром посмотрев на меня, переспросил глава сельсовета.
Сидели мы в его доме на кухне на лавках. В доме была жарко натоплена печь, а для освещения на столе стояла лучина, дающая тусклый свет. В ее лучах мужик казался загадочным старцем, а не еще не старым мужчиной. Из проема вглубь дома на нас с любопытством посматривал его сын. Хоть и светло на улице еще, а дома окна маленькие, света не хватало. Дочери как показались разок, так и скрылись в доме. Лишь жена поставила нам на стол пару кусков хлеба, да каши в мисках. И все.
– А как зовут тебя, паря?
– Сергей. Огнев.
– Огнев, говоришь?
Тут он хитро блеснул глазами.
– Уж не тот ли Огнев, что в газете статью писал? И о ком сам товарищ Сталин на Пленуме говорил? Студент, небось?
Я понял, что не получится мне скрыть свою личность. Вон, просто услышав мое имя, уже все про меня человек знает.
– Да не напрягайся ты так. Али не хочешь, чтобы тебя признали?
– Хотел бы, чтобы до поры обо мне разговоры по деревне не шли.
– От меня ничего не услышат, – кивнул глава и шикнул на сына. Тот тут же скрылся в комнате. – С Олежей тоже поговорю. А на счет остального – не боись. Я читать газеты люблю, да и должность обязывает, – пояснил он свою осведомленность. – Так с чем прибыл, Сергей?
– Узнать, чем живете, – пожал я плечами.
– Как колхозы ввести, смотреть будешь? – в лоб спросил он меня.
– Они в любом случае будут введены, – не стал я отпираться. – Но уж лучше, если это будет сделано не только из-под палки, но и хоть какая-то законность будет соблюдена. Чтобы в случае чьего-то самодурства на местах на такого активного укорот был.
Алексей Иванович задумчиво покивал.
– Добро, обскажу я тебе, как мы живем. Авось, и правда что дельного сможешь о нашем житье-бытье передать. Твоя правда, самодуров везде хватает.
И он рассказал. Что мужиков на селе мало – сначала в империалистическую забрали многих, потом гражданская сразу – и туда народ пошел. В итоге в деревне почитай на одного мужика три-четыре бабы приходится. Ну, это я и сам заметил. Что коней почти нет – опять же забрали в войска для кавалерии. Пахать теперь или на одной лошади, или вообще на собственном горбе приходится. Я все записывал, чтобы ничего не упустить.
– Так еще и народ сильно-то в деревне не держится. Все в город норовят сбежать. Особенно те, кто помоложе, – продолжал глава. – Там и почет, и деньга вертится. Так что у меня в деревне почитай лишь три сотни душ еле наберется. А раньше бывало и до тысячи доходило.
Неутешительная статистика.
– А что у вас с кулаками? Есть?
– Как не быть, – хмыкнул Алексей Иванович. – Видел дом большой, что недалече от сельсовета стоит? – я кивнул. – Вот в нем и живет наш главный «кулак». Петро Самойлов. У него одного две лошади. Приходится к нему на поклон идти, когда пахать надоть.
– И как к нему относятся? Сам он что говорит?
– Да как у нас к зажиточным относятся, – хохотнул Алексей Иванович. – Завидуют люто, да поносят за глаза. Он же сейчас шальной стал. Понимает, что скоро может лишиться всего. Волком на каждого глядит.
– Он сам не хочет колхоз создать? – спросил я. – Чтобы свое имущество в него перевести и уже там всем руководить?
– Не слыхал такого, – озадачился глава. – А ведь и верно! Кто ему мешает так сделать-то? Только собственная жадность. Делиться кто же любит?
– Не сделает, и правда всего лишится. Если он не дурак, поймет, что когда не можешь что-то предотвратить, надо это возглавить.
– Хорошо сказал, – крякнул мужик. – Токмо он быстрее удавится, чем с кем-то поделится своим добром за просто так.
– Значит, дурак, – констатировал я.
А себе сделал пометку – добавить в законы возможность для кулаков «переквалифицироваться». Тогда с их стороны меньше сопротивления будет. Может этот Петро и не воспользуется шансом, но наверняка найдутся люди и поумнее его. Я же так поступал не только и не столько из гуманных соображений, сколько из логики. Раз человек смог хорошее хозяйство собственное создать и содержать, то и в роли председателя колхоза будет на своем месте. С толком сможет распорядиться новыми возможностями и выполнить спускаемый план.
После обстоятельного разговора с Алексеем Ивановичем, я все же попросил его собрать мужиков, чтобы уже у них напрямую узнать, что они думают. Да того же Самойлова послушать! Одно мнение – хорошо, но ведь глава со своей колокольни на все смотрит. И в чужие мысли залезть не может.
– Олежа! – кивнув на мою просьбу, крикнул глава. И из комнаты тут же высунулась любопытная головенка подростка. – Сходи по домам, скажи, что всех у дома сельсовета собираю. Про Сергея и об чем мы гутарили – не базлай, понял?
Тот понятливо замотал головой и умчался из дома.
– Через полчаса пойдем, – удовлетворенно заявил мужик.
Просидев оговоренное время, мы выдвинулись в сторону сельсовета. Там уже собрался народ. Ждали только нас. Над толпой шел ропот перешептываний и разговоров. Выйдя к крыльцу здания, Алексей Иванович призвал людей к тишине и дал мне слово.
– Товарищи! – начал я. – Я журналист из газеты «Правда». Пишу статью о жизни в деревнях. Сейчас готовится постановление о введении всеобщей коллективизации хозяйств, – мои слова о коллективизации сразу вызвали шум, и главе пришлось потратить несколько минут, чтобы успокоить толпу. – Это вопрос решенный, нравится вам, или нет. И не мной, а партией и правительством. Я же хочу узнать ваше мнение и написать о том статью. Вы можете мне рассказать все, как есть, чтобы вас услышали в Москве. Итак товарищи, что скажете?
Снова выкрики и громкие возмущения. Алексей Иванович еле успокоил деревенских, после чего призвал задавать вопросы по очереди.
– Что с моим хозяйством будет? – вышел вперед уже знакомый мне Петро, который указал дорогу к дому главы. – У меня оно самое справное. Я ж теперича кулаком считаюсь! Рази ж это справедливо, если у меня все отымут? Я пот и кровь из года в год проливал, над всем трудился и что? Теперича все отдать?!
– И правильно! – раздался выкрик из толпы. – Жируешь, пока мы голодаем – так и поделом тебе!
Тот зло зыркнул в толпу, но все же снова повернулся ко мне, ожидая ответа.
– Придется отдать, – признал я. Народ тут же довольно заголосил и заулюлюкал. Не любят тут Самойлова. – НО! – попытался я перекричать толпу, народ постепенно утих и я продолжил, – ты можешь сам все сдать в колхоз. И возглавить его…
– Да пошел он на х.! – снова злой выкрик из толпы.
– Цыц! – гаркнул глава, и люди притихли.
– Возглавить, – продолжил я, – и тогда отделаешься малыми потерями.
Ну, я так видел и надеялся на это. А уж как в итоге получится – лишь время покажет. Петро замолчал и, сверкнув недовольно глазами, скрылся в толпе. После него пошли иные вопросы. Кто будет заниматься «отъемом» и «правильным разделением» средств. Когда начнется коллективизация. Что конкретно стоит ожидать. И тому подобное. Даже вышла старушка и спросила – будет ли восстановлена церковь. Вообще не по теме, но этот вопрос, оказалось, волновал многих крестьян, особенно тех, кто постарше. На что мог, ответил, а когда не знал ответа – честно признавался в этом.
Разошлись люди только часа через два, взбудораженные и во многом ошеломленные. В конце я попытался сам задать вопросы, как и хотел изначально. А то получилось, что это я отвечал на их вопросы, а не они на мои. Переживали в основном люди о том, как состоится посевная. Сеять не на чем, а иногда и откровенно нечего. Поделились малым количеством скота. В том числе и кур. Про коров и коней вообще молчу – тут каждый жаловался, что нет их, а хотелось бы. Про малое количество инструмента местный кузнец напомнил. И железа нет, чтобы его справить. Короче, по итогу выходило – ничего нет, все надо. Уж не знаю, насколько это так. Вроде когда шел, мычание коров мне не померещилось. Слышал про крестьянскую прижимистость, так что может и приуменьшают. Но когда шел от поезда по деревне и правда скота почти не видел. Может быть и так, что правда все. Каждый ответ я записал, после чего распрощался с Алексеем Ивановичем и отправился на станцию. По плану мне предстояло в течение недели проехать минимум по двадцати деревням и селам. Это по два-три села в день. Успею ли?
Не успел. Моя «командировка» растянулась почти на две недели.
В разных местах меня встречали, как бы банально это ни звучало, по-разному. В одном селе так чуть собак не натравили, подумав, что я из соседней деревни и вынюхиваю что-то. Хорошо, вовремя разобрались. А с той деревней у села шла вялотекущая война за луга, где траву для скотины косят. Но где бы я ни был, в целом жалобы были одни и те же: мужиков мало, скота нет или почти нет, зерна для посевной мизер. Было и еще одно отличие – нашлись «кулаки», которые хотели бы сами создать колхоз, в отличие от Петро, но боялись, как бы их в чем не обвинили. В укрывательстве имущества или еще чего.
Возвращался домой я загруженный новыми впечатлениями и информацией. Далеко не самой радужной. Да и люди на селе – сплошь худоба, да усталые и мрачные лица. И вот от них товарищ Сталин требует подвига? Так ведь уже то, как они живут – подвиг. Точно нужно его идею упорядочить в рамках законодательства, а то из-за озлобленности и неграмотности перегибы на местах неизбежны. До сих пор вспоминаю выкрики из толпы, как люди хотели кулака чуть ли не прямо сейчас, при мне, раскулачивать. А войдут во вкус – так и понесется.
Вернувшись, первым делом схватил Люду в охапку и потащил ее на прогулку. И соскучился, и отвлечься хотелось. И уже после стал составлять отчет для Иосифа Виссарионовича. Савинков явился уже на следующий день после моего появления в университете – не иначе у него там соглядатай есть. Или из деканата позвонили, если он там такую просьбу оставлял.
Передав ему отчет о своей поездке со всеми впечатлениями и своими мыслями, я вернулся к работе над законами для коллективизации. Но с учетом полученного опыта многое пришлось редактировать. Не все нюансы деревенской жизни учел. Мало что учел, если честно. Не знал я, как в селах живут.