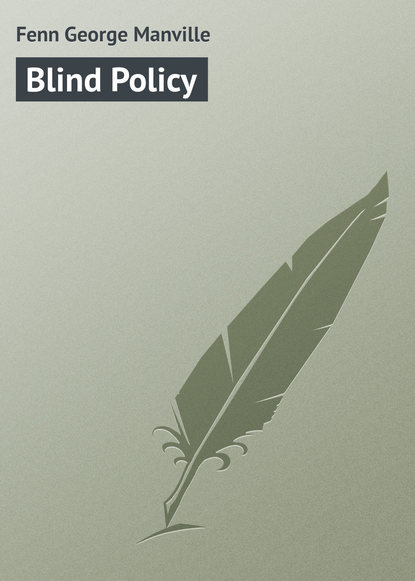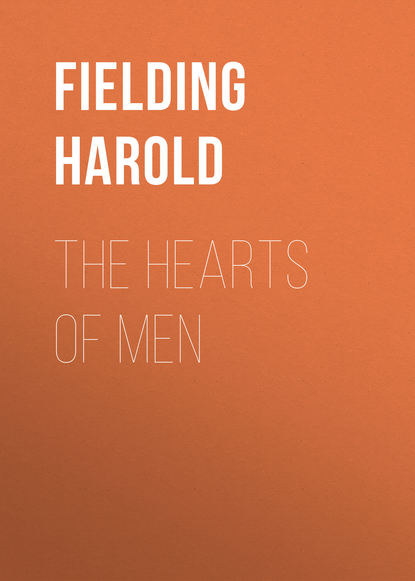- -
- 100%
- +

Пролог. О тихой башне и тревожном небе
В те годы, когда философы ещё спорили, вращается ли солнце вокруг человека или человек вокруг собственного воображения, на краю владений мадемуазель Варвары де Лоранси стояла башня, которую на картах не обозначали. На старых листах небесных сфер её место затирали пальцем, словно стыдясь признаться, что человек воздвиг здесь свой глаз выше дозволенного.
Башня была не из мрамора и не из стекла, а из того честного камня, что помнит руки каменотёсов. Чем выше поднимался взгляд, тем строй скреп становился тоньше, пока на самом верху не начиналась железная корона обсерватории – кольца, круги, вычурные стрелы приборов, растворённых в морозном воздухе. Казалось, что небо, прежде терпеливо взиравшее на города и войны, здесь впервые отводит глаза.
Я был тогда молод, да, осмелюсь сказать, почти юн, и сопровождал сэра Стефана Трофина только для того, чтобы носить его книги и кашлять в нужные паузы. Сэр Стефан, обросший шарфами, латинскими цитатами и дурной привычкой всё объяснять, ехал к мадемуазель Варваре читать ей и её гостям курсы философии о гармонии небесных и земных кругов. Признаюсь, я тогда полагал, что гармония эта – удачно подобранный аккорд лютни на балу; я ещё не знал, как небрежно мир относится к мелодиям нашего сердца.
– Взгляни, дорогой мой, – говорил сэр Стефан, когда наша колымага наконец показалась из сосновой аллеи, – вот место, где схоластика умирает не от старости, а от высоты. Здесь астрология сдаёт свои звёзды в аренду геометрии, а богословие – арифметике.
Я, разумеется, посмотрел.
Башня и впрямь казалась не принадлежащей ни текущему часу, ни прошедшему веку. Рядом с ней прижимался к земле дом – широкое каменное тело с размахом крыльев в виде галерей. Крыши были крыты черепицей тёмно-вишнёвого цвета, будто дом однажды слышал, как по нему пронёсся гром, и с тех пор ходил с рубцом.
Над всем этим – небо. Тёмное, не по времени года суровое, словно кто-то, глядя снизу, уже начинал сомневаться в его окончательности, и небо отвечало мрачным молчанием.
– Говорят, милый мой, – продолжил сэр Стефан, – что её башня выше некоторых догматов. И что в чёрные ночи в её линзы заглядывают не только звёзды. Ложь, конечно; но красивая ложь, а потому полезная. Люди легче идут учиться там, где им обещают лёгкое присутствие чудес.
Он говорил так, как всегда: полушутя, полусерьёзно, со слюдяной улыбкой человека, который ещё вчера верил во всё, а сегодня не знает, с чего начать разуверяться. Я тогда ещё не умел читать в людях, как в рукописях; только позже, перечитывая эту сцену памяти, я пойму, сколько усталости скрывалось в его галантной насмешке.
Колёса застучали по каменным плитам двора. Слуги, похожие на тени, выскользнули из-под галерей. Нам подали узкие лестницы лестей и поклонов: мадемуазель Варвара ещё не соизволила появиться, но её дом уже учтиво втягивал нас в свои коридоры.
Тогда я впервые увидел мастера Кирило Порфирия – человека, который любил механизмы больше, чем собственную жизнь. Он стоял у подножия башни, спиной к нам, и вглядывался в одну из чугунных опор, будто слушал в ней шум крови.
– Вы опаздываете, господин философ, – бросил он, не обернувшись. – Небо сегодня не намерено ждать ваших цитат.
– Небо, мастер Кирило, – ответил Стефан, – ждало Аристотеля почти две тысячи лет и, кажется, до сих пор не решилось его опровергнуть. Потерпит и мои скромные заметки.
Они обменялись поклонами – один сухим, как металлический скрип, другой развязным, как жест актёра на сцене. Я, естественно, остался столбом, как всякий человек, которому позволяют присутствовать при встрече двух разных богов: бога железа и бога слов.
На верхних галереях мелькнула фигура в тёмном платье – вероятно, сама мадемуазель Варвара, хозяйка всего этого каменного и небесного хозяйства. Она остановилась на миг, опираясь рукой о резной столб, и посмотрела прямо на нас. Расстояние было велико, лицо нельзя было разобрать, но взгляд… Я до сих пор уверен, что почувствовал его кожей, как иглу.
В тот день я ещё не знал, что вскоре сюда прибудет лорда Никандро д’Астрель, человек, на совести которого будет больше погибших, чем у многих полководцев, и что следом за ним, как тень от факела, явится мастер Лоран де Верселе – с карманами, набитыми трактатами, которые способны поджечь город без всякого огня.
Я только смотрел на башню и думал, что камень, поднятый слишком высоко, однажды непременно захочет падать.
Глава I. Дом, которого нет на небесной карте
Когда позднее, уже после всего, учёные начнут составлять новые карты мира, им придётся решать странную задачу: отмечать ли на небесных сферах места человеческих заблуждений. Горы и моря легко поддаются чернилам; а как быть с башнями, где люди пытались измерить не расстояние до звёзд, а длину собственной свободы?
Дом мадемуазель Варвары де Лоранси не значился ни в одном официальном каталоге обсерваторий. О нём знали моряки эфирных кораблей, некоторые поэты, несколько епископов (те – по обязанности тревожиться) и совсем мало простых горожан. Для последних это было «барское гнездо», где господа забавляются разговорами о звёздах, когда порядочные люди в это время сходят с ума от налогов и неурожая.
Но дом этот был не просто домом.
Внизу – кухни, склады, людские комнаты, шум посуды, запахи хлеба и вина: крепкая, земная плоть быта, которую никакой философии не одолеть. Выше – залы, где господа вели беседы о душах, как о монетах, что можно вкладывать и терять. Ещё выше – библиотека: свитки, пергаменты, первые печатные тома, привезённые из германских земель, и даже несколько арабских книг, пахнущих неизвестными травами и далёкими песками.
Самым же верхним органом этого каменного тела была башня-обсерватория. Там стояли инструменты, языки которых обращались не к народу, а к небесам: квадранты, астолябии, сферические приборы с таинственными надписями. Среди них – устройства, придуманные самим мастером Кирило, такие, которым пока ещё не придумали имени и которые вежливо называли «железными догадками».
В этом доме должны были соединиться всё: и пыль кухонных полов, и тихий хруст страниц Аристотеля, и молчаливый гнев небес. Он был, если угодно, малой моделью мира, которой ещё предстояло взорваться.
Сэр Стефан Трофин вошёл в зал, где его ожидали. За длинным столом уже сидели несколько человек: толстый епископ с глазами, привыкшими считать, сколько свечей горит даром; бледный нотарий; молодой офицер эфирного флота, выглядевший так, будто недавно вернулся из такого неба, где лучше ничего не вспоминать; и, разумеется, мадемуазель Варвара – прямая, как шпиль собственной башни.
– Господа, – начал Стефан, слегка кланяясь, – позвольте сегодня предложить вам мысль столь же кощунственную, сколь и утешительную: возможно, звёзды вовсе не знают о нашем существовании. И всё, что мы называем «знаком судьбы», – это лишь тень нашего собственного страха.
Епископ хмыкнул, молодой офицер едва заметно улыбнулся, мадемуазель Варвара чуть наклонила голову, будто ветер подул с другой стороны.
– Если звёзды не знают о нас, сэр, – сказала она, – то мы тем более обязаны знать о них всё.
Так и началось то лето, когда дом, которого не было на карте, стал центром небесного мятежа. Лето, в которое демоны эфира вышли из области метафоры и стали явлением физики.
Тогда продолжим так, как будто рассказчик делает паузу и разворачивает панораму века – чтобы читатель почувствовал землю под подошвой и пыль на книжных полях.
Прежде чем рассказать, как демоны эфира вошли в наш дом, надо хотя бы раз оглянуться на те времена. Шестнадцатый век – говорят так, будто это аккуратный номер в библиотеке; на самом деле это был незапертый сундук, где рядом валялись ржавые мечи, новые книги, чумные маски, карты морей и записки влюблённых.
Города тогда пахли не веками, а часами. Утром – дымом печей, мокрой щепой и влажной шерстью на рынках; днём – горячим хлебом, потом пекарей, кислым вином и лошадиным навозом; к вечеру – свечным воском, жареным мясом, уличной руганью и тем притихшим страхом, который просыпается с первыми колоколами комплетория. Люди жили тесно, как буквы в старой рукописи: дом к дому, лавка к лавке, вера к предрассудку.
Улицы были узки не только по камню, но и по мысли. Над ними нависали балки домов, между балками – верёвки с выстиранной рубашкой, между рубашками – полоска неба. Если оттуда падал свет, его принимали за знак; если тень – тоже за знак. Даже дым костра казался многим письмом, которое Небо пишет о них самих.
Одежда богачей шумела, как страницы дорогого фолианта: шёлк, бархат, тяжёлые цепи на груди. Цвета – глубокие, почти съеденные временем: вино, зрелая слива, жёлтое золото, зелень морской волны. Простые люди носили то, что выдерживало дождь, работу и грубость: грубое полотно, шерсть, кожа. На их руках были не перчатки, а трещины; вместо перстней – застарелые мозоли.
Но это был век, когда под старыми тканями уже шевелился новый крой.
В трактирах, где на столах стояли не только миски, но и случайные листы бумаги, впервые можно было увидеть странное: рядом с молитвой, переписанной с лика, лежали начерченные окружности, траектория какого-то нового небесного движения. В тех же залах, где вчера спорили, сколько ангелов умещается на острие иглы, сегодня тихий человек в чёрном камзоле рассказывал, что земля, возможно, сама и есть острие, летящее в пустоте.
Печатные станки были новыми монстрами века. Они сопели, скрипели, давили бумагу, выжимая из неё строки так же безжалостно, как виноград. Старые переписчики видели в них угрозу ремеслу, священнослужители – угрозу порядку. Но простому человеку было всё равно, чем написана буква, если буква наконец объясняла ему, что он не единственный в своей тоске.
В наши края уже доходили книги из германских земель, где математики, как дерзкие портные, примеряли на мир новые выкройки: квадратные корни, логарифмы, географические сетки. На карте появлялись непривычные пустоты, надписи «Hic sunt dracones» перемещались всё дальше, уступая место сухим числам широты и долготы. Но в головах людей драконы жили крепче, чем координаты.
Век был двуликий. В одной и той же комнате можно было увидеть: на столе – чёрнильницу, счётную дощечку, треснувший астролябий; на стене – образ с лампадой; в углу – сундук с травами, которые лечат всё, кроме отчаяния. Люди молились и одновременно торговались с судьбой, считали звёзды и по-прежнему боялись чёрной кошки, перебежавшей дорогу.
Вечером, когда закрывались лавки, открывался другой город. На площадях затихали крики продавцов, но под арками начинали звучать тихие чтения: кто-то шептал вслух новые трактаты, прибывшие с корабля; кто-то пересказывал «восточные мудрости», услышанные от проезжего купца. Легенды о святых перемешивались с историями о астрономах, измеривших высоту Луны. Люди не знали ещё слов «революция» и «научная методология», но умели чувствовать, когда воздух внутри черепа становится другим.
В сельской местности время шло по-своему. Там шестнадцатый век оставался почти четырнадцатым: те же поля, те же плуги, те же молитвы о дожде. Крестьян мало занимало, вращается ли солнце вокруг земли или земля вокруг солнца; им было важно, чтобы вращался жернов на мельнице. Но даже туда, по грязным дорогам, добирались слухи: о новых звёздах на небе, о кометах – вестниках бед, о мореплавателях, которые переплыли края карт и не упали в бездну. Мир, который им описывали с амвона, вдруг оказался намного шире и одновременно намного равнодушнее.
Это был век великих несоответствий. Соборы строили так, будто человечество собирается жить в них вечность; больницы же напоминали сараи, куда свозят ненужное. В университетах спорили о природе благодати, в портах – о цене перца. Где-то на другом краю света уже рушились империи, а здесь ещё делили родственникам маленькое каменное владение.
Власть отдавала приказы, как бог, – громко, сверху и без объяснений. Налоги поднимали, войны объявляли, еретиков судили. Но в глубине канцелярий сидели люди, которые впервые пробовали считать. Сколько стоит человек? Сколько нужно ртов, чтобы прокормить армию? Сколько фунтов серебра утекает вместе с пряностями за море? Так незаметно в мир входила новая арифметика, где душа не учитывалась.
А над всем этим висело небо – настоящее, физическое, со своими ветрами и холодом, и небо, которое существовало в головах. Первое равнодушно меняло цвета, второе ревниво наблюдало за каждой мыслью. Когда в башне мадемуазель Варвары направляли трубу на созвездие, внизу, на площади, люди всё ещё крестились при виде затмения.
Шестнадцатый век был временем, когда слово «душа» ещё произносили с благоговением, но уже пытались измерить её вес. Когда грех всё ещё значил нарушение закона Божьего, но всё чаще совпадал с нарушением интересов государства. Когда любовь была одновременно тем, о чём слагали сонеты, и тем, из-за чего заключали династические браки, как торговые сделки.
Галантность – слово, которое позднее приклеят к веку, как красивую этикетку к бутылке с более крепким содержимым. В наших краях галантность проявлялась в том, как мужчины кланялись дамам, как долго держали шляпу в руках, как умело прятали под комплиментом собственный расчёт. В письмах дамы писали чернилами и духами; мужчины – чернилами и голодом. Но за игрой поклонов и кружев скрывались настоящие битвы: за влияние, за земли, за души, за право решать, какой именно Бог сегодня живёт в этом герцогстве.
И всё же, при всей грубости, при всех казнях на площадях и чуме в переулках, это было время огромной надежды. Люди чувствовали, что мир не исчерпывается тем, что им рассказывают с кафедры. Что за горизонтом, за последней страницей, за последней небесной сферой скрыто что-то ещё – не только наказание, но и возможность.
Мы жили в веке, когда любое новое слово могло оказаться ересью, а могло стать началом науки. Веке, когда демонов искали в теле, в тексте и в телескопе. И потому, когда кто-то впервые произнёс связно: «мы колышем не только общество, но и сам эфир», – это прозвучало не как бред, а как закономерный итог всех наших смутных, страстных поисков.
В этом мире и стояла башня мадемуазель Варвары. В этом мире возвращался из своих эфироходных плаваний лорд Никандро д’Астрель. В этом мире мастер Лоран раздавал свои трактаты, как другой раздаёт ножи. И в этом мире, пахнущем одновременно навозом и типографской краской, кадилом и порохом, начиналась история демонов эфира.
Тогда вернёмся в дом мадемуазель Варвары и пойдём дальше – не спеша, как человек, который идёт по старому залу и трогает ладонью каждую тёсаную колонну.
Сэр Стефан, сказав своё дерзкое слово о звёздах, которые не знают о нас, помолчал. В зале стало плотнее, как бывает перед грозой, когда воздух уже на стороне молнии, но молния ещё не выбрала себе место.
Епископ первым нарушил тишину. Он чуть придвинул к себе кубок, словно искал в нём опору, и сказал:
– Если звёзды о нас не ведают, господин учёный, то кому же мы поём «Сотворившему светила», когда ходим вокруг престола?
Голос у него был тяжёлый, словно из камня вырубленный. Такими голосами обычно объявляют хулу и выносят наказание. Но сейчас в нём слышалось другое: не только власть, но и усталость человека, который много лет подряд держал на плечах чужие страхи.
– Мы поём не звёздам, владыко, – ответил Стефан мягко, – а Тому, Кто дал нам разум, способный узнать, что звезда не свеча и не глаз ангела, а жаркий шар, где нет места нашему телу, но, быть может, есть место нашему удивлению. Я вовсе не желаю лишать вас песнопений. Я только позволяю себе думать, что Тот, к Кому вы их возносите, не обидится, если мы перестанем приписывать звёздам наши деревенские нравы.
Мадемуазель Варвара чуть улыбнулась. Улыбка её была лёгкой, едва заметной, как тень от кружев на запястье. Она подняла руку, удерживая разговор в приличных берега́х:
– Вы, как всегда, между дерзостью и почтением, сэр Стефан. Продолжайте. Я пригласила вас не затем, чтобы вы повторяли то, что уже сказано. Но прошу помнить: в этом доме, кроме ваших книг, живут ещё и люди.
Он поклонился.
– Люди, сударыня, – сказал он, – как раз и есть самая опасная мысль Творца. Звёзды покорны, камни предсказуемы, даже море, если долго его изучать, начинает подчиняться счёту. Только человек, который однажды поверил, что его душа имеет вес, начинает перевешивать весы неба.
Я стоял в сторонке, прислонившись к колонне, и думал, что он снова заговорил не с залом, а со мной. У него был обычай бросать свои самые острые слова туда, где, по его мнению, ум ещё не закоснел от придворных бесед. Это было лестно и страшно одновременно: словно тебе, мальчишке, доверяют лампаду у алтаря, где в любой миг можно всё разом уронить.
За окнами зала вечер клонился к сумеркам. Свет уходил с низких клумб, забирался по стенам вверх, тянулся к башне, цеплялся за её железные круги. Небо становилось всё более синеватым, густым; на этом проступающем полотне начала проступать первая точка – ещё не звезда, не знак, просто упрямое зрячее зерно.
Мастер Кирило в этот час обычно уже поднимался на верхнюю площадку. Я знал: он встанет у края, положит ладони на холодный металл и будет слушать башню, как врач слушает грудь больного. У каждого был свой способ мерить мир.
После беседы, когда гости разошлись по комнатам – кто к ужину, кто к молитве, кто к зеркалу, чтобы ещё раз убедиться, что лицо его по-прежнему достойно чужих взглядов, – меня позвали в малый кабинет.
Мадемуазель Варвара сидела там одна, без кружевного круга подруг. На столе перед ней лежала раскрытая книга, но глаза её были не на буквах.
– Подойди, – сказала она.
Я подошёл, стараясь не цеплять взглядом золотую нитку на её рукаве. В её присутствии всё дрожало: разум, голос, даже память.
– Сэр Стефан у нас – гость дорогой, – сказала она, – а ты у него при нём, как рукопись при авторе. Скажи: он сам верит в то, что говорит о звёздах? Или это только игра его ума, чтобы забавлять дам и раздражать епископов?
Вопрос был опасен. От ответа зависело, как будут слушать его завтра, что шепнут о нём на исповеди, как будут смотреть на нас обоих в этом доме.
Я вздохнул и решился на правду – не потому, что был смел, а потому, что лгать ей было ещё страшнее.
– Он верит, сударыня, когда говорит, – ответил я. – А как только замолчит, верит уже в другое. Он похож на человека, который идёт по тонкому льду и проверяет его палкой: в каждом месте он уверен, пока стоит там. Но, сделав шаг, уже считает прочным следующее место и готов обругать прежнее.
– Значит, он всё же идёт, – сказала она. – Уже немало. Тот, кто стоит, только притворяется, что держит равновесие.
Она помолчала и, не глядя на меня, добавила:
– Передай ему от меня: я жду не только его речей, но и его молчания. Нынче ночью в башне. Пусть поднимется туда без свидетелей, только с тобой. Я хочу, чтобы он увидел то, что видел я.
У меня холод прошёл по спине. В этих стенах было немало тайн – но то, что хозяйка просит философа подняться в башню ночью, да ещё с единственным свидетелем, – значило больше, чем простое любопытство.
– Будет исполнено, сударыня, – сказал я, кланяясь.
– И ещё, – она остановила меня мягким движением руки. – Сегодня к ночи должен прибыть гость. Моряк не по морю, воин не по земле. Ты о нём услышишь. Будь внимателен: когда в дом входят люди, у которых за плечами не годы, а иные расстояния, стены начинают слушать вместе с нами.
Я не посмел спросить, кого именно она ждёт. Имя лорда Никандро д’Астреля уже ходило по коридорам как шёпот, который боится стать звуком: о нём говорили в столовой между блюдами, в людских между шутками, на конюшнях – вместе с рассказами о странных судах, что ходят не по воде, а по самому верхнему воздуху.
Вечер опустился быстро, как ставень. На дворе затихли шаги, только иногда проходили слаги со светильниками, проверяя караул. Где-то в глубине дома кухарки переговаривались, убирая со стола; из дальнего крыла долетали приглушённые звуки лютни – кто-то ещё пытался удержать уходящий день мелодией.
Сэр Стефан сидел у себя и перекладывал свои бумаги с места на место, как будто от этого зависело устройство мира. Увидев меня, он отложил перо.
– Ну, мой малый, – сказал он, – сколько приговоров вынесено сегодня моим словам? Сколько тайных вздохов, сколько записок на полях?
Я передал ему слова мадемуазель Варвары.
Он слушал, слегка наклонив голову, и в глазах его сверкнул тот свет, который иногда прорывался сквозь усталость и насмешку, как огонь сквозь старый пепел.
– Ночью в башне, – повторил он. – Без свидетелей, кроме тебя. Наша милая хозяйка, кажется, решила, что я ещё не до конца разучился удивляться.
Он поднялся, поправил воротник и добавил уже тише:
– Это хорошо. Философ, который перестал удивляться, годится лишь в настенной украшатель. Пойдём.
Лестницы вели вверх, поворачивая так часто, что мне казалось: мы идём не к небу, а внутрь какой-то огромной раковины. Стены постепенно холодели; свет факелов оставался внизу, наверху было только белёсое сияние ночи, проникающее в узкие бойницы.
Чем ближе к верхнему ярусу, тем отчётливее слышен был дальний гул. Не гром, не ветер. Скорее – низкое, мутное гудение, как если бы сама башня была большой струной, натянутой между землёй и небом, и кто-то далеко-далеко провёл по ней ладонью.
– Чуешь? – спросил Стефан.
– Чую, – сказал я. – Будто где-то в глубине скала стонет.
– Или мысль, – заметил он. – Может быть, мысли тоже умеют стонать, когда их растягивают между верой и опытом.
Мы вышли на площадку. Небо было открыто, как раскрытая книга. Звёзды стояли гуще, чем обычно, или мне так казалось от страха. Ветер обтекал башню, прошивал плащ, но в центре площадки было странно тихо, словно стоял невидимый стеклянный колпак.
Там уже ждали двое.
Мадемуазель Варвара – в тёмном плаще, без украшений, только лицо бледное в лунном свете. И рядом с ней – мужчина, которого я прежде не видел, но узнал сразу, как узнают человека из рассказов: по тому, как в нём сочетается лишнее спокойствие и лишняя усталость.
Он был высок, но не громоздок; движения – сдержанные, как у человека, привыкшего к тесным палубам. Взгляд – прямой, но словно немного в сторону, как будто он всегда смотрит чуть дальше собеседника. Плащ его был прост, без лишних знаков, но на груди поблёскивал знак, который я видел однажды на рисунке в одной тайной рукописи: круг, прорезанный двумя пересекающимися линиями, – знак тех, кто ходит по верхнему воздуху.
– Сэр Стефан, – сказала Варвара. – Позвольте представить вам лорда Никандро д’Астреля. Он знает о небе больше, чем все наши книги вместе, и меньше, чем одна его рана.
Никандро поклонился, едва заметно. В этом поклоне не было ни придворной выучки, ни грубости – только усталое согласие человека, который уже не верит, что новое знакомство может сильно изменить его жизнь.
– Я только плавал, сударыня, – сказал он негромко. – «Знать» – слишком крепкое слово для того, что я делал.
Голос у него был низкий, сухой. В нём не было ни хвастовства, ни жалобы – только ровная привычка говорить о страшных вещах, не повышая тона.
– Лорд Никандро, – вступил Стефан, – говорят, ваши суда шли там, где нет ни течений, ни берегов. Что же вы там нашли: Бога, пустоту или что-то третье?
Тень улыбки тронула губы моряка.
– Там я нашёл тишину, – ответил он. – И то, что люди называют демонами, когда не могут вынести собственную мысль.
Слово «демоны» повисло в воздухе. Оно было древнее всех наших книг, и в то же время теперь означало что-то новое – не только духов, о которых рассказывают в деревенских сказках, но и странные волнения в тончайшем веществе, которое мастера назвали небесным морем.
– Вы их видели? – вырвалось у меня. Я потом ещё долго корил себя за эту дерзость, но тогда язык опередил разум.
Никандро посмотрел на меня, впервые по-настоящему, прямо.
– Видеть их глазами нельзя, – сказал он. – Они не для зрения. Но их можно слышать приборами, можно чувствовать кожей, когда стоишь на верхней палубе и понимаешь: ветер дует в одну сторону, а судно тянет в другую. Можно понимать разумом, когда на карте не сходятся числа, хотя счёт верен.
Он подошёл к краю площадки и вытянул руку к небу.
– Вы привыкли думать, – продолжил он, – что небесное море спокойно и покорно. Что звёзды движутся по своим кругам, как хорошо выученные слуги. Но в последние годы их ход стал дрожать. Ночами в небе появляются тонкие дорожки, которых не было в прежних записях. Это не хвостатые звёзды, не знаки бедствия; это – шрамы на самом теле небесного моря.