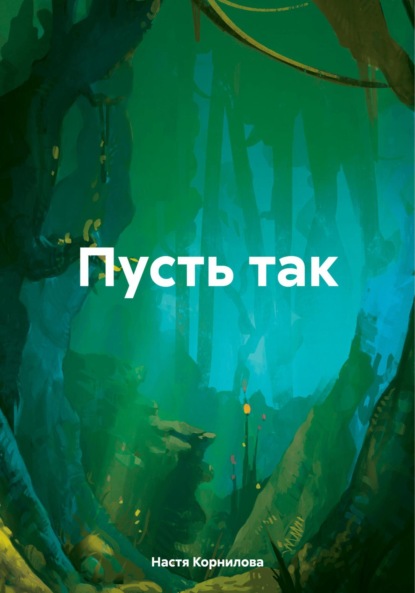- -
- 100%
- +
– Откуда же эти шрамы? – спросил Стефан. – Неужели вы скажете, что их наносим мы?
– А кто ещё? – тихо ответил Никандро. – Мы строим судá, что ходят по верхнему воздуху, мы втыкаем в небо железные трубы, мы печатаем книги, в которых объявляем старое устройство мира ложью. Мы взбаламутили глубины собственного духа, и это дрожание передалось тому тонкому веществу, которое связывает звёзды.
Он умолк и добавил уже почти шёпотом:
– Когда люди долго верят во что-то вместе, небо привыкает. Когда они вместе перестают верить – небо тоже не остаётся прежним.
Мадемуазель Варвара повернулась к Стефану.
– Вот что я хотела вам показать, – сказала она. – Не только небесные знаки, снятые трубами, не только записи мастера Кирило. Я хотела, чтобы вы услышали из уст человека, прошедшего по верхнему морю, то, о чём вы говорите внизу только как о образе. Мы меняем небо. Не одни молитвы, не одни грехи, но и мысли, и книги, и речи в моём зале.
Стефан долго молчал. Я видел, как в нём борются два его обычных жителя: насмешник и поклонник. Первый уже хотел бросить лёгкую фразу о том, что господа переоценивают значимость своих бесед. Второй молился – да, я видел по его лицу, – чтобы всё это оказалось правдой, потому что тогда жизнь его труда имела иной вес.
– Если это так, – сказал он наконец, – то мы все здесь не больше чем узлы на струне. И каждый наш спор, каждая запись в книге – лишнее дёргание. Тогда ваша башня, сударыня, – не просто учёное украшение имени, а место, где мир сам слушает, что о нём говорят.
– А вы думали, я просто хотела забавлять скучающих гостей видом звёзд? – спросила Варвара. – Нет, сэр Стефан. Я хочу знать, какая мысль однажды разорвёт небо.
Ветер усилился. На миг мне показалось, что звёзды и правда дрогнули, как свет на воде, когда в пруд бросают первый камень.
Где-то в глубине башни, там, где ловили слабые знаки, шевельнулся железный зверь – один из приборов мастера Кирило. Его стрелка проходила по кругу и чуть-чуть, едва заметно, отклонялась не там, где положено.
И тогда я впервые ясно понял: мир, в котором мы живём, в эти дни уже начал сходить с прежних кругов. И то, что мы привыкли звать «бесами» в людях, – может быть, только первый шёпот тех демонов, которые давно уже рвут тончайшее покрывало между нашим духом и небесным морем.
С того раза, как стрелка железного зверя дрогнула не там, где приучили её стоять, разговор пошёл уже иначе. До этого мы говорили о небе, как о далёкой картинке; теперь оно, казалось, само наклонилось к краю башни и слушало.
Из глубины сооружения поднялся тяжёлый гул, и на площадку вышел мастер Кирило. Лицо у него было хмурое, будто он всю жизнь щурился на слишком яркий свет. В руках – дощечка с записями и маленький фонарь, закрытый матовым стеклом.
– Вы привели его? – спросил он у Варвары, кивнув в сторону сэра Стефана. Никандро он как будто не замечал: моряки верхнего моря для него были людьми другой породы, не из числа тех, кто ходит по камню.
– Привела, – ответила Варвара. – И прошу, мастер: не говорите сегодня своим обычным языком железа и чисел. Объясните так, чтобы понял и тот, кто больше привык к словам, чем к шестерням.
Кирило недовольно дёрнул плечом.
– Железу всё равно, как мы о нём говорим, – буркнул он, но всё же приблизился к прибору и коснулся его корпуса, словно успокаивая живое.
Железный зверь стоял посреди площадки на толстой ножке, уходящей вниз, к сердцу башни. Сверху к нему тянулись тугие струны и железные жилы, уходившие в стены. Внутри, под стеклянными окнами, медленно ходили стрелки; одна из них была отмечена красным штрихом и дрожала чуть сильнее прочих.
– Вот, сударь философ, – сказал Кирило, – вы любите рассуждать о человеке и душе. А я люблю смотреть, как дрожит мир. Этот зверь ловит самые слабые толчки, что проходят по верхнему морю. Когда проходят суда, когда гремит дальняя гроза, когда сверху летит хвостатая звезда, – он дрожит, но по-своему, по знакомому. Я годы потратил, чтобы выучить его хитрости.
Он постучал костяшками пальцев по корпусу, и тот отозвался глухим звоном.
– А вот это, – он ткнул палцем в колеблющуюся стрелку, – началось не так давно. Стрелка стала отходить в сторону по ночам, когда, казалось бы, всё спокойно. Никаких судов, никакого грома, никакого обычного знака. Только где-то далеко люди собираются в одних и тех же словах.
– Каких? – спросил Стефан, прищуриваясь.
– Не знаю, – признался Кирило. – Я не читаю по чужим душам, я читаю по железу. Но я сверял записи с новостями, что приносят гонцы. В те дни, когда стрелка уходит дальше всего, где-то вспыхивает смута. В одном местечке ломают образы в храмах. В другом – люди перестают слушать проповеди, но собираются кучками вокруг новых книжников. В третьем – народ поднимается против землевладельца. Словно в разных местах мира вдруг кто-то одновременно решает: «хватит».
Он замолчал, давая нам переварить.
– Вы думаете, это только случай? – спросила Варвара тихо.
Кирило дёрнул углом рта.
– Случай – хорошее слово для тех, кто не хочет считать дальше, – сказал он. – Прибор показывает, что верхнее море отвечает, когда люди начинают по-новому думать о себе. Я не берусь сказать, что первее: дрожание в душах или дрожание в эфире. Но связь есть.
Никандро, всё это время молчавший у края, наконец повернулся к нему.
– В дальнем пути, – сказал он, – мы замечали странность. Ночью, когда команда спит, старший на судне иногда выходит на верхнюю палубу и сидит там один. Мы называем это «час собственной мысли». Так вот, в последние годы, когда такие часы затягиваются, судно начинает тонко вести в сторону. Не ветром, не течением, а будто его тянет невидимая жила. Мы думали сначала, что это рассеянность рулящего, но я заметил: чем тяжелее мысли, тем сильней ведёт.
– Тяжелее? – переспросил Стефан. – Вы что же, весите их на ладони?
– На сердце, – сухо ответил Никандро. – Бывают мысли, от которых человек становится легче, почти прозрачен. А бывают такие, после которых он словно набирает в кости камень. Вот тогда судно и ведёт.
Он повернулся к прибору.
– Ваш железный зверь, мастер, – продолжил он, – чувствует то же, что наши судна. Но есть разница. Судно чувствует одиночную душу. А зверь этот – когда таких душ много и они тянутся в одну сторону.
Варвара перевела взгляд с одного на другого.
– Стало быть, – произнесла она, – мы имеем дело не только с грозами, ветром и суднами. Мы имеем дело с тем, что рождается в головах. С мыслью, которая вышла из человека и задела эфир.
Стефан приподнял брови.
– Вы хотите сказать, сударыня, – сказал он, – что мысль, будучи достаточно сильной и разделённой многими, перестаёт быть только делом совести и становится делом небес?
– А что, если так и есть? – ответила она. – Мы веками твердим, что молитва поднимается к небу. Почему же не допустить, что и другие слова поднимаются. Но, в отличие от молитвы, которая просит, эти новые слова требуют. Они не просят милости, они требуют переделать мир по-своему.
– И небо сопротивляется? – спросил Стефан.
– Или отвечает, – отозвался Никандро. – Не всякий ответ похож на согласие. Иногда это трещина.
Повисло молчание. Я чувствовал, что стою при рождении новой мысли, как при родах, когда в соседней комнате женщина кричит, а мужчины делают вид, что обсуждают хозяйство.
– Для чего вы показали мне это, сударыня? – спросил наконец Стефан, повернувшись к Варваре. – Полагаю, не ради ночной прогулки.
Она шагнула ближе, так что лунный свет лёг ей на лицо.
– Я не строю кораблей, как мастер Кирило, – сказала она. – Не хожу по верхнему морю, как лорд Никандро. Мой дар – собирать людей и слова. Я хочу знать, на чьей стороне стоят ваши рассуждения. На стороне порядка, который трещит, или на стороне дрожания, которое вы называете свободой.
– Я всегда говорил, – медленно произнёс Стефан, – что стою на стороне человека, которого в этом мире давит всё: и власть, и хлеб, и случай. Если от дрожания эфира ему станет легче дышать, я за дрожание. Если от него его придавит ещё сильнее, я за порядок. Я не пророк, сударыня. Я только пытаюсь не закрывать глаза.
– Этого достаточно, – сказала Варвара. – Я хочу, чтобы в этом доме собрались те, кто не закрывает глаза. Мастер Кирило будет показывать нам, как трепещет железо. Лорд Никандро расскажет, как ведут себя судна, когда душа человека тяжелеет. Вы, сэр Стефан, будете держать связь с теми, кто читает и пишет. А скоро прибудет ещё один человек, который умеет заставлять людей думать одинаково.
Она посмотрела на прибор – стрелка дрожала всё чаще.
– Тогда, возможно, мы увидим, как рождаются те самые демоны, о которых вы говорите.
Наутро дом зашевелился по-другому. Это не было бурей – скорее незримым изменением течения. Слуги шептались о ночных огнях в башне. Кто-то видел, как поздно, почти к рассвету, с конюшенного двора увели коня для гонца. В кухне спорили: неужели госпожа снова собирается устраивать длинные собрания, от которых потом в доме не знаешь, кому кланяться.
Сэр Стефан, не выспавшись, сидел над своими записями и выглядел так, будто ему всю ночь снились не ангелы, а цифры. Я принёс ему воду и хлеб, и он, не отрываясь, спросил:
– Скажи, как ты понял всё, что они говорили?
– Я понял, – ответил я, – что если раньше в небе жили только наши страхи и надежды, то теперь туда лезут ещё и наши мысли. И что кто-то из них хочет этим воспользоваться.
Он усмехнулся.
– Ты растёшь, – сказал он. – Ещё немного, и мне придётся спорить с тобой, а не учить.
Он отложил перо.
– Смотри, – продолжил он, – если верить мастеру Кирило и этому моряку, мир стал единым не только через дороги и торговлю, но и через дрожание эфира. То, что происходит в одной деревне, отзывается в другой, только мы этого ещё толком не слышим. Представь теперь человека, который догадается: чтобы сдвинуть мир, не обязательно посылать войска. Достаточно посеять в головах одну и ту же мысль и дождаться, пока эфир начнёт её отражать.
– Такой человек будет опаснее всех военных, – сказал я.
– Такой человек будет опаснее всех святых, – поправил Стефан. – Святой, верящий в одно, может зажечь других, но он не считает, какая мысль как отзовётся в эфире. А тот, о ком я говорю, будет считать. Как мастер Кирило.
Он замолчал, затем поднял на меня взгляд.
– Помнишь, я говорил тебе о людях, которые пишут книги не ради истины, а ради власти? – спросил он. – Так вот, вскоре мы увидим такого человека здесь. Судя по тому, как торопится наша хозяйка.
В этот миг в дверь постучали. Вошёл слуга и, низко кланяясь, сообщил, что к дому подъехала карета с чёрными занавесами; из неё вышел невысокий человек в тёмном плаще, с лёгкой походкой, будто он всё время идёт по сцене. Госпожа просит сэра Стефана спуститься в зал.
– Вот и он, – тихо сказал Стефан, встав. – Человек, который будет шевелить эфира даже одним пером.
Мы вышли в галерею. Внизу шумели шаги, перекликались голоса, хлопали двери. Дом, который ещё вчера был просто усадьбой с башней, теперь напоминал улей, куда только что вернулась матка с дальнего лёта. В воздухе стояло какое-то ожидание, и мне казалось, что даже стены слегка дрожат, подражая невидимому железному зверю в глубине башни.
В зале уже собрались люди. Мадемуазель Варвара стояла у камина, облокотившись о резной край. Рядом – епископ с лицом, на котором привычка судить боролась с любопытством. Чуть поодаль – мастер Кирило, которому явно было не по себе в комнате без своих железных игрушек. Никандро, опершись спиной о колонну, следил за всем с тем выражением человека, который много раз видел, как начинаются беды, и никогда не видел, чтобы их вовремя останавливали.
Все взгляды были обращены к входу.
Вошёл невысокий человек. Плащ его был прост, но сидел на нём так, словно сшит по каждому изгибу. Лицо – обычное, даже чуть тусклое, пока он молчал; но глаза… В них было то самое усилие, о котором говорил Никандро: не тяжесть камня, а натяжение струны. Казалось, что в голове у него всегда звучит какая-то мелодия слов, которую он только и ждёт случая сыграть вслух.
– Господа, – сказал он, поклонившись, – благодарю за честь быть принятым в вашем доме. Я прибыл не с морей и не с полей, а из тех мест, где роются мысли. Надеюсь, мои труды не покажутся вам пустым шумом.
– Добро пожаловать, мастер Лоран, – ответила Варвара. – Этот дом давно ждёт человека, который умеет обращаться не с железом и не с парусами, а с умами.
При этих словах где-то в глубине башни снова дрогнула стрелка. Мне показалось, что она откликнулась не на дальнюю грозу и не на движение судна, а на то, как в одной комнате собрались те, кто отныне будет спорить о том, сколько стоит человеческая мысль, если она начинает шевелить небо.
Лоран вошёл так, будто шагал не по полу, а по невидимой дорожке, давно уже проложенной в головах тех, кто его ждал. Я заметил странную вещь: пока он двигался к середине зала, разговоры, шёпот, даже лёгкий стук кубков о края столов будто бы сам собой стих. Никто его к тишине не призывал, он не поднимал руки, не кашлял нарочно, как делал Стефан перед речью. Просто людям стало неудобно говорить при нём вполголоса, будто их слова тут же попадут в чужую тетрадь.
– Дом мадемуазель Варвары, – начал он, остановившись, – славится тем, что в нём собраны лучшие головы наших земель. Я всю дорогу сюда думал: что страшнее – войти в зал, где одни воины с мечами, или в зал, где мечи спрятаны в чернильницах?
Люди улыбнулись. Епископ – осторожно, одними губами. Варвара – открыто, но без лишнего тепла. Стефан чуть наклонил голову, признавая удачность оборота.
– Не бойтесь, мастер Лоран, – сказала Варвара. – В этом доме мечи не вынимают без надобности. Даже словесные.
– В том-то и беда, сударыня, – ответил он, – что мир слишком долго считал слово игрушкой. Пока один пишет, другой молится, третий пьёт, четвёртый грабит, пятый терпит – небесное море уже наполнено шепотом, о котором никто не отдаёт себе отчёта.
Он говорил негромко, но так, что каждое слово будто вставало на место, как камень в кладке. Не было у него ни плавных жестов Стефана, ни тяжёлой покатости епископа. Всё в нём было точным, выверенным, как рисунок букв на новой печатной странице.
– Вы, господа, – продолжил он, – наблюдаете звёзды, железо, суда, дрожание воздуха. Я же по роду занятий наблюдаю людей. И вижу: каждый живёт как придётся, каждый верит в своё, каждый боится за своё. А между тем нас всё теснее связывают дороги, торговля, письма, книги. Люди ещё думают, что живут по разным законам, а уже стоят на одной доске.
– На казённой? – хмыкнул епископ.
– На общей, – спокойно сказал Лоран. – На такой, где падение одного тянет за собой многих. Мы уже живём в мире, где поступок одного неизвестного человека в дальнем уголке земли может вызвать голод, смуту или восстание здесь, у нас. Только мы ещё не привыкли видеть эту нить.
Он поднял руку, будто нащупывая в воздухе невидимую струну.
– Мастер Кирило ловит дрожание эфира, – сказал он. – Я же хочу ловить дрожание людских душ. И одно неизбежно связано с другим.
Кирило нахмурился.
– Не надо трогать моё железо словами, – проворчал он. – Оно и без того достаточно страдает от ветра, судов и ваших книжников.
– Я вовсе не трогаю его, мастер, – вежливо возразил Лоран. – Я лишь говорю: если железный зверь дрогнул в ту ночь, когда в трёх городах сразу толпа подняла камень на власть, значит, есть закон, который соединяет ваши стрелки и их крики. И если есть закон, значит, его можно узнать. А если его можно узнать, им можно управлять.
Слово «управлять» повисло в воздухе, как холодный запах. Варвара чуть сузила глаза.
– Управлять чем именно? – спросила она. – Эфиром? Людьми? Или тем и другим сразу?
– Я не строю кораблей и не воздвигаю башен, сударыня, – ответил Лоран. – Я строю лишь одно: порядок мыслей. Все беды нашего века идут от того, что каждый живёт в своей головной клетке, как птица, и считает, что его песнь – единственная. Я же пытаюсь сложить из всех этих голосов один стройный хор.
– Хор без фальши не бывает, – заметил Стефан. – Где много голосов, там неизбежно кто-то уйдёт в сторону.
– Вот потому хор и должен иметь ведущий голос, – спокойно сказал Лоран. – И книгу, по которой все поют.
Он достал из-под плаща тонкую связку листов, перевязанную простой бечёвкой.
– Это мои записки, – сказал он. – Я называю их «Сочинение о справедливом устройстве общины». Там я вывожу: если людям дать полную волю, они перегрызут друг другу глотки; если же их слишком стеснить, они задохнутся и всё равно взорвут границы. Значит, надо выстроить новый порядок, где люди откажутся от части своей воли добровольно, зная, что в обмен получат полную равную долю в другом: в хлебе, крове, знании.
Епископ фыркнул.
– Слышали мы уже про равную долю хлеба, – сказал он. – Обычно кончается тем, что один сидит при кладовой, а остальные стоят с мисками.
– Потому что до сих пор равную долю делили те, кто сам себя ставил выше, – ответил Лоран. – Я же говорю о таком порядке, где выравнивание коснётся не только чаши с кашей, но и головы.
– Как это вы собираетесь выравнивать голову? – спросил Никандро от колонны. – Она у всякого по-своему набита.
– А вот здесь нам пригодится и башня, и мастера, и суда, – сказал Лоран. – Мы живём в век, когда слово уже не шепчут в углу, а множат на листах. Я видел города, где один лист, отпечатанный в подвале, за ночь менял выражение сотен лиц. Представьте, что будет, если не оставлять такие листы случайному случаю, а сплести из них сеть, что оплетёт все дома. Тогда каждая новая мысль не будет одиночкой, а сразу станет общим правилом.
Стефан сдвинул листы на столе.
– Вы хотите сказать, – протянул он, – что намерены построить то, чего всегда боялись правители: путь, по которому один голос доходит до всех голов. Раньше, чтобы донести закон, нужен был гонец, кнут и виселица. Теперь достаточно листа.
Он прищурился.
– Кто же будет решать, что печатать?
Лоран улыбнулся – тонко, беззвучно.
– Те, кто понимает связь между словом и дрожанием эфира, – сказал он. – Те, кто сможет считать дальше страха и ближе к будущему. Для этого я и здесь, сударь философ. Мои записки пока только схематичный чертёж. Мне нужны ваши знания о душах, железо мастера, книги нашей хозяйки, слух моряка. Всё это вместе может стать тем камертоном, по которому мы настроим мир.
Я увидел, как Варвара слегка напряглась. Она привыкла, что к ней приезжают учёные, прося ночлега, бумаги, лестниц к небу. Но сейчас гость просил большего: не стены, не чердак, а сам дом, как сосуд для своих замыслов.
– Вы говорите о мире так, словно он – бессловесная рабочая скотина, – тихо сказала она. – Его можно впрячь, направить, выровнять. А как же душа? Не каждая ли из них дорога по-своему?
– Душа, сударыня, – ответил Лоран, – дорога, пока не начинает толкать локтем соседнюю. Мы привыкли считать, что всякая особенность – дар свыше. А что, если часть этих особенностей – всего лишь шум, который мешает услышать общий смысл? Я не хочу уничтожать души. Я хочу снять с них лишнее, как снимают шелуху с зерна.
– Зерно тоже живое, пока не попадёт в жернова, – заметил Никандро.
– Но из него потом печётся хлеб для многих, – парировал Лоран. – Кто-то должен идти в жернова.
Повисла тяжёлая пауза. Слова его были гладкими, как хорошо обработанный камень, но за этой гладкостью чувствовались зубья.
Стефан вздохнул.
– Позвольте мне спросить иначе, мастер, – сказал он. – В вашем порядке, где все головы выровнены по одной мерке, куда вы денете тех, чья мысль от природы идёт в сторону? Тех, кто не умеет считать только по вашей мере, кто любит неправильный угол, косой звук, лишний вопрос?
– Таких людей мало, – спокойно ответил Лоран. – И чаще всего они приносят не пользу, а смуту. Мы дадим им отдельные ограды: специальные поселения, особые чины. Пусть там ломают копья о своё странное, но не мешают общей тиши.
– Тюрьма для мысли, – сказал Стефан.
– Обитель для опасных даров, – поправил Лоран. – Вы привыкли видеть в каждом отклонении знак высокого. Но вы забываете: большинство бунтов – не от высоты, а от глупости. Я предлагаю впервые поставить разум над чувством. Не в книгах и спорах, а в самом устройстве общины.
Пока они говорили, я невольно бросил взгляд на окно. Небо, казалось, стояло спокойно. Но где-то в глубине башни, под нами, снова шевельнулся железный зверь. Я почти физически ощутил лёгкое дрожание пола – или мне это только почудилось от напряжения?
Позже, когда разговор перелился в более мирные берега, когда к вину подали горячие блюда, гости заговорили о войнах, урожаях, диковинках, привезённых из дальних стран. Лоран слушал, но не терял нити. Он то и дело возвращался к одному: к мысли, что век наш вступил в время общего, когда каждая частная жизнь уже непрочно принадлежит только себе.
Меня же он выбрал для разговора уже после, в полутёмной галерее.
– Ты ученик сэра Стефана? – спросил он, когда мы случайно оказались рядом, глядя в окно на двор.
– Да, господин, – ответил я. – Подаю ему книги, записываю мысли, иногда перечёркиваю лишнее.
– Перечёркивать лишнее – великое искусство, – сказал он. – Скажи, чему он тебя учит больше всего?
Я задумался. Можно было ответить привычно: «любви к истине», «умению сомневаться». Но под его взглядом все эти слова казались бумажными. Я сказал первое живое:
– Он учит смотреть на любого человека так, будто тот в любую минуту способен стать лучше или хуже, чем есть. И не спешить приговаривать.
– Благородно, – кивнул Лоран. – Но опасно пусто. Мир не ждёт, пока кто-то станет лучше. Мир идёт вперёд, толкая локтями. Вчерашний сомневающийся сегодня уже задавлен. Я не люблю ждать.
Он посмотрел на меня пристальней.
– Скажи, – продолжил он, – тебе самому не надоело быть только глазами и ушами чужих мыслей? Тебя действительно устраивает, что ты всю жизнь провесишь между книжной полкой и подсвечником?
Меня обдало жаром. Никто раньше не спрашивал меня об этом так прямо. До сих пор моё положение казалось уж если не высоким, то по крайней мере ясным: я – ученик, писец, помощник. А он вдруг заговорил, будто за этим стоит нечто недодуманное.
– Я… – слова застряли. – Я не знаю, на что меня хватит.
– Вот, – сказал он тихо. – Ты не знаешь. И он не знает. А я хочу знать. Я люблю людей, как мастер любит доски: мне нужно видеть, какой в ком рисунок. Одних я кладу в основание, других в обрамление, третьих оставляю пока в стороне, на случай, если разрушится стена.
Он положил ладонь мне на плечо – легко, будто чуть придержал.
– Поглядывай не только на его книги, – сказал он. – Поглядывай на то, как дрожит мир вокруг. Мы живём в тихую минуту перед большой бурей. В такие минуты полезнее всего быть не в библиотеке, а там, где рождаются новые правила.
Он улыбнулся коротко.
– А твой учитель, при всём уважении, любит оставаться зрителем. Он гордо говорит, что не строит миров, а только их толкует. Век таких толкователей подходит к концу.
Он ушёл, оставив меня у окна с ощущением, будто он не просто разговаривал, а аккуратно развязал во мне какой-то узел и завязал его по-своему.
В тот же день вечером я снова поднялся в башню. На этот раз без сэра Стефана. Мастер Кирило, увидев меня, недовольно поморщился, но не прогнал.
– Пришёл смотреть, как дрожит мир? – буркнул он.
– Пришёл смотреть, как дрожите вы, мастер, – позволил себе ответить я, чувствуя ещё на себе дыхание Лорана. То ли от этого дерзость, то ли от усталости.
Кирило фыркнул, но угол его рта дрогнул.
– Железо не хуже людей, – сказал он. – Оно тоже умеет бояться. Смотри.
Он подвёл меня к прибору. Стрелка, отмеченная красным, едва колыхалась.
– Это сейчас спокойно, – продолжил он. – Днём всё тише. Но ночами… в последние недели ночью почти всегда есть своя игра. Я накопил записи. Видишь метки? – он показал мне ряды маленьких черточек на дощечке. – В эти ночи приходили гонцы. В эти – начинали ходить слухи о мятеже в соседнем княжестве. В эту ночь сожгли дом учёного в городе к югу отсюда.
Он ткнул ногтем в свежую метку.
– А это – сегодняшняя ночь. Стрелка тогда ушла дальше всего за месяц. Никаких судов. Никаких гроз. Только ты, Варвара, Никандро и Стефан на площадке. И… – он поморщился, – и, возможно, мысли, которые вокруг вас роились.
– А когда прибыл Лоран? – спросил я.
– Утром, – ответил он. – Но знаешь, что странно? – он достал другую дощечку. – Ещё за два дня до его приезда стрелка стала уходить чуть сильнее, чем обычно. Словно эфир уже заранее почувствовал, что кто-то идёт с новой мыслью. Или шум от его пути шёл впереди него.
Я молчал, глядя на тонкую стрелку.