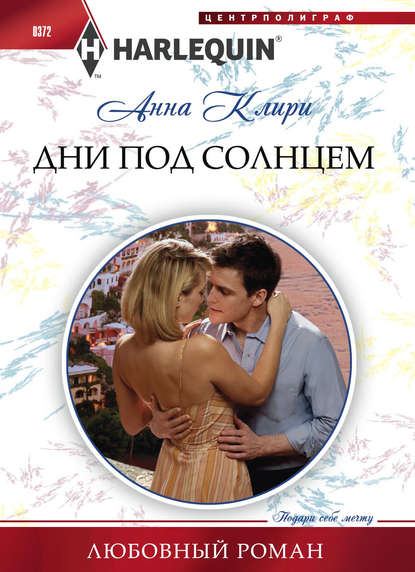- -
- 100%
- +
Первым не выдержал, конечно, Лоран.
Он терпеливо выждал несколько дней, словно человек, который пришёл к реке и долго смотрит на течение, прежде чем бросить в неё первый камень. Он беседовал с Варварой, с судьёй, с Ионасом, со мной; обменивался короткими, почти невесомыми фразами с Никандро; даже Кирило удостоил двух-трёх вопросов о том, как именно зверь в башне «слушает» небо.
А потом однажды, за обедом, когда все были усталы и менее наготове, чем обычно, он поднял голову от тарелки и сказал простым голосом:
– Сударыня, у меня есть просьба.
Варвара отложила нож.
– Просьбы от умных людей всегда опаснее, чем от глупых, – заметила она. – Но слушаю.
– Я хочу провести опыт, – сказал он. – Настоящий, как у мастера Кирило, только не над железом, а над людьми. И смотреть будем не только на людей, но и на его зверя.
Кирило, который как раз пытался незаметно выковырять из зуба что-то застрявшее, дёрнулся, как от удара.
– Не любо мне, – проворчал он, – когда мои механизмы используют как игрушку для чужих затей.
– Это будет не игрушка, – спокойно ответил Лоран. – Это будет мост. Вы говорите, ваш зверь чуток к дальним волнениям. Лорд Никандро говорит, что суда чувствуют странное натяжение в верхнем море, когда люди в разных местах живут одной и той же тяжёлой мыслью. Я же хочу проверить: можно ли нарочно возбудить такую волну и увидеть, как она отзовётся и в людях, и в эфире.
В зале стало тише. Даже ложки на миг остановились.
– Вы хотите вызвать смуту? – сухо спросил судья. – Ради любопытства?
– Нет, – ответил Лоран. – Напротив. Я хочу вывести закон, по которому смуты рождаются сами. Как лекарь, который, чтобы понять, откуда берётся горячка, смотрит на кровь под стеклом.
– Кровь под стеклом – это всё же не целый человек, – заметил Стефан. – Вы предлагаете поставить под стекло целый город?
– Городов много, – сказал Лоран. – И они и без нас горят, когда вздумается. Я же хочу, чтобы хоть раз огонь загорелся не от слепой искры, а от заранее обдуманного действия. Тогда хотя бы будет понятно, где порог.
Варвара внимательно смотрела на него.
– И каков ваш замысел? – спросила она.
Лоран слегка улыбнулся. Улыбка была нерадостная, как у человека, который давно всё решил и теперь только выбирает слова.
– У вас, сударыня, – сказал он, – через дом проходят письма. У Ионаса – рука, умеющая писать так, чтобы текст чтился легко. У сэра Стефана – имя, которое уже уважают те, кто умеет читать. У меня – несколько мыслей, от которых одним становится легче, другим – тревожнее, но никто не остаётся равнодушен. Предлагаю сплести из этого первое испытание.
Он повернулся к Ионасу:
– Вы возьмёте мою записку, – продолжил он, – и изложите её словами помягче, ближе к народу. Без затей, без лишних мудростей. Суть проста: «человек имеет право знать, на что тратятся его труд и кровь, и если власть не отвечает, народ вправе собираться и требовать ответа». Ничего нового – такие речи уже шепчутся на рынках и в трактирах. Мы лишь дадим им ясный облик.
Затем кивнул Стефану:
– А вы, сударь, – сказал он, – одолжите своё имя. Не открыто; пусть это будет письмо «от друга», «от чтеца». Ваш слог узнаваем, но его можно смягчить. Я не прошу вас лгать. Я прошу лишь не отговаривать людей задуматься вслух.
Стефан прищурился.
– Значит, вы хотите, – медленно проговорил он, – чтобы я стал крюком, на который повиснут чужие волнения. А мой прежний труд, мои книги, мои беседы в домах и школах будут служить вам оправданием: «ведь это он, наш знакомый Стефан, советует нам собираться». Хитро.
Он откинулся на спинку стула.
– Скажу прямо: мне тяжело. Я всегда считал своим долгом зажигать в людях мысль, а не толпу. Но отказывать вам я тоже не спешу, ибо есть во мне проклятая склонность доводить мысль до края.
– Вот и не отказывайте, – мягко сказал Лоран. – Мы выберем три городка: один – ремесленный, другой – воинский, третий – торговый. В каждом найдётся по десятку людей, которые не боятся читать вслух. Им и пошлём наши листы. Попросим собраться в один и тот же день, к вечеру, на площади или у храмов, и потребовать от местной власти отчёта. Ничего более.
– «Ничего более», – повторил судья, как будто пробуя на вкус плохое питьё. – А что вы будете делать, когда к этому «ничего более» прибавится разбитый череп?
– Тогда мы будем знать, до какой черты можно доводить волну, – спокойно ответил Лоран. – И железный зверь в башне покажет нам, до какой степени эфир откликается. Лорд Никандро скажет, изменилось ли поведение ветров над теми местами.
Он обвёл взглядом всех.
– Вы поймите: это не игра злых мальчишек. Это первый шаг к знанию. Век, когда мы ставим опыты только над камнями и дымом, уходит. Надо учиться ставить их над людьми – иначе люди сами ставят их над собой, слепо.
Варвара молчала. На её лице не было ни явного согласия, ни явного отвращения. Только напряжённая сосредоточенность, как у человека, который держит в руках чашу с водой и прикидывает, выдержит ли её рука ещё каплю.
Наконец она сказала:
– Вы просите о страшной вещи, мастер. Взбаламутить три города ради того, чтобы увидеть, как дрогнет стрелка в моей башне. Но я знаю и другое: мир уже дрожит сам. Вы лишь хотите уловить этот дрожь и понять его ход.
Она перевела взгляд на судью.
– Что скажете вы, хранитель законов земли?
Тот чуть передвинул кубок, будто выигрывая себе время.
– Законы, сударыня, писаны для того, чтобы удержать людей от худшего, – сказал он. – Но редко когда законы успевают за веками. То, что предлагает мастер Лоран, мне не по сердцу, но, скажу правду, не так уж далеко от того, что и без него родится. Я видел бунты, которые вспыхивали от одного грубого движения сборщика. Здесь же хотя бы есть умысел понять, где начало.
Он помолчал и добавил:
– Если уж вам суждено держать в своём доме всех этих людей, лучше наблюдайте за бурей вблизи, чем в притворной тишине.
Все взгляды обратились к Стефану. Он сидел, словно отдалённый от стола, хотя и физически был рядом.
– Вы ставите меня между двух огней, – тихо сказал он. – С одной стороны – обычный, земной страх: я могу стать соучастником чужой крови. С другой – мой проклятый разум, который шепчет: «если уж всё равно грядёт смута, лучше знать её законы, чем закрывать глаза».
Он посмотрел на Варвару.
– Сударыня, – сказал он, – если вы возьмёте этот грех на себя, я готов дать вам свои слова. Но только с одним условием.
– Каковым же? – подняла бровь Варвара.
– Мы не будем считать этот опыт забавой, – ответил он. – Каждый лист, каждую каплю крови, каждый удар по эфирному зверю мы будем записывать как часть общего долга. Вы хотите знать, какая мысль рвёт небо. Так давайте смотреть на это не как на новое развлечение, а как на причастие к страшной истине.
Варвара медленно кивнула.
– Да, – сказала она. – Так и будет.
Она обернулась к Ионасу:
– Возьмётесь?
Ионас вздохнул, словно ему вручили не перо, а нож.
– Возьмусь, – ответил он. – Но буду помнить, что пишу не только чернилами, а и людскими жизнями.
– И это хорошо, – сказал Лоран. – Страх переписчика полезнее, чем бездумная смелость писаки.
Так началось наше первое «испытание».
В последующие дни дом превратился в тихую мастерскую невидимого дела. Без крика, без суеты – всё делалось так, как делаются вещи по-настоящему важные: между делом, через паузы, через обычный ход жизни.
Днём всё шло своим чередом. Варвара принимала гостей, разбирала счета, говорила с управляющим. Судья ездил в город и обратно. Епископ, как ни в чём не бывало, обсуждал вопросы поста и браков. В людской спорили о цене на муку и о том, насквозь ли промокли курицы в последний дождь.
А по ночам в библиотеке сидели трое: Лоран, Ионас и Стефан. Я сидел при дверях с лампой, как малый страж, охраняющий вход не столько от людей, сколько от случайного отвлечения.
Лоран диктовал – ровно, без патетики, словно переписывал с невидимой доски:
– «Братья и соседи. Мы живём в таком междусветии, когда каждое зерно, каждый грош, каждый пот вырастают не в наш дом, а в чужие сундуки. Нас учат терпеть, говоря, что так было всегда. Но это ложь. Были времена, когда люди собирались общиной и спрашивали у своих старост: куда идёт наш труд?»
Ионас ловил каждое слово и подбирал ему простой, привычный оборот. Там, где Лоран говорил: «междусветие», он писал: «смутный век». Там, где звучало «общий труд», он заменял на «наша работа и кровь». Он умел убавлять резкий привкус, не уничтожая смысла.
Стефан сидел чуть в стороне и время от времени поднимал голову:
– Это место – слишком прямое, – говорил он. – Люди вскочат, не успев подумать. Дайте им сперва почувствовать, что несправедливость касается их лично. Добавьте историю, образ.
И Лоран тут же находил:
– «Вспомните старика с поля, у которого забрали последнюю кобылу, потому что он недоплатил налог. Разве не это случилось позапрошлой весной у вас за овином, когда приходской сборщик пришёл с солдатами?»
– Так лучше, – признавал Стефан. – Человек скорее встанет за конкретного соседа, чем за слово «народ».
Иногда они спорили до хрипоты. Лоран требовал прямоты: «иначе люди не поймут, чего вы от них хотите». Стефан стоял за сомнение: «когда им предлагают слишком ясный ответ, их легче обмануть». Ионас пытался удержать между ними живой язык, который не оттолкнёт ни ремесленника, ни читанного посадского.
Я смотрел на их спор и думал, что вижу, как рождается то, что потом назовут «великими словами века». На деле же это были строки, написанные уставшей рукой при коптящей лампе, с ссорами, с сомнениями, с оговорками и помарками.
Когда текст был готов, его переписали аккуратно, чистым почерком, без пятен. Потом сделали ещё несколько списков: один – почти теми же словами, но с меньшим жаром; другой – мягче, осторожней, будто автор хочет не разбудить толпу, а только потревожить совесть.
– Надо попробовать разные дозы, – сказал Лоран. – И смотреть, на какую из них эфир и люди ответят сильнее.
Через несколько дней из дома выехали трое гонцов. В седельных сумках у каждого лежали свёртки с листами, спрятанные между обычными бумагами – счетами, торговыми записями, письмами родни. Никто в конюшне не знал, что несут эти люди; им сказали только, что дело срочное и лучше не разбивать конинные колени.
Названия городков и имён людей, которым предназначались письма, я тогда слышал впервые и запомнил так, как запоминают имена будущих свидетелей на суде.
– В первом городе, – говорил Лоран, глядя в список, – у нас есть мясник, который умеет читать и не боится говорить. Он груб, но его слушают. Во втором – староста мастеровой артели, у которого дети уже выучились грамоте. В третьем – жена приказчика, которая каждое воскресенье читает вслух женам соседей, пока мужья в трактире.
– Женщина? – удивился судья. – Вы хотите, чтобы толпу вывело на площадь женское слово?
– Толпу – нет, – ответил Лоран. – Но воду в колодце её слово взболтать может. А вода, сударь, идёт во все дома.
Ожидание – самая тяжёлая часть любого опыта. В дни, когда гонцы были в пути, дом жил на невидимом натяжении.
Днём всё шло как прежде: обсуждали урожай, отдалённые войны, приезжих. Ночью чаще поднимались в башню. Кирило отмечал каждый лишний толчок стрелки, Никандро слушал ветер и небесное море, Стефан – собственную совесть.
Наконец настал день, о котором договорились в письмах.
– Сегодня, под вечер, – сказал Лоран за завтраком, – в трёх разных местах люди выйдут из домов, чтобы задать один и тот же вопрос. Если, конечно, наши листы не сожгли сразу.
– Или не использовали под стирку, – добавил Ионас.
– И это тоже будет ответ, – не обиделся Лоран. – Тогда посмотрим, дрогнет ли эфир от простого тряпья.
С самого полудня в доме было неспокойно. Казалось, сами стены знают, что где-то далеко собираются чужие ноги.
К вечеру все, кто был посвящён в опыт, поднялись в башню. Варвара, закрыв дом на внутренние засовы, тоже пришла наверх и встала у стены, сложив руки так, будто готовится не к опыту, а к исповеди.
Солнце клонялось к закату. Где-то вдали, за лесами и полями, в трёх городках люди, возможно, уже собирались на площади, развернув наши листы. Где-то в одном доме толстый мясник мог сейчас читать вслух слова о праве спрашивать власть. В другом староста мастеровых – говорить о труде и крови. В третьем – женщина, держа в руках письмо «от друга», – тихо, но отчётливо произносить строки о том, что терпение тоже имеет край.
Железный зверь в глубине башни гудел ровно. Стрелки ходили кругами, как обычно.
– С какой стороны, по-вашему, придёт первый толчок? – тихо спросил Никандро у Кирило.
– Не знаю, – ответил тот. – Железо не пишет, откуда ему больно. Оно только показывает, что мир где-то дёрнулся.
Стефан стоял чуть поодаль, опершись о камень, и смотрел не на прибор, а в небо.
– Что вы ждёте увидеть там? – спросила Варвара.
– Ничего особенного, – сказал он. – Я просто хочу, чтобы в тот миг, когда дрогнет железо, я видел, насколько равнодушно на всё это смотрят звёзды.
Сумерки сгущались.
Сначала ничего особенного не происходило. Стрелки шевелились в своём обычном круге, ветер вёл себя как всегда, небесное море не подавало признаков странной зыби. Лишь внизу дом шумел чуть громче: где-то роняли ведро, где-то ругались слуги, где-то смеялся кто-то, не знающий ни о каких опытах.
Я уже был готов подумать, что всё это окажется детской игрой взрослых людей, как вдруг…
Железный зверь издала звук, которого я ещё не слышал. Не глухой удар, не ровное гудение, а какой-то тонкий, жалобный скрип, как если бы стальную струну натянули до предела.
Красная стрелка дёрнулась и ушла в сторону, дальше привычной отметки. Потом трепетнула, словно ей самой стало страшно, и застыла на новом месте.
– Есть, – прошептал Кирило. – Пошло.
В этот же миг где-то над лесом, на краю видимого неба, появилась узкая светлая морщина. Не комета, не обычное облако – тонкий след, слегка светящийся, будто кто-то провёл ногтем по тонкой плёнке, натянутой над миром.
– Ветер? – спросил Никандро.
Он поднял руку, проверяя направление. Ветер был слаб, тёпл, ничего необычного.
– Нет, – сказал он. – Ветер тут ни при чём. Это – шрам.
Мы смотрели, как эта морщина медленно тянется вдоль горизонта, чуть изгибаясь. Она не приближалась, не удалялась – просто была, как знак, который пока никто не умеет читать.
Внизу, под нами, дом тоже дрогнул. Я слышал, как где-то застонала балка, как зазвенело стекло в узких окнах.
Стрелка между тем продолжала стоять в стороне, новых толчков не было.
– Это, верно, первый город, – тихо сказал Лоран. – Там, где мясник. Он – прямой, как топор.
Он говорил странным голосом, как человек, который одновременно и доволен, и испуган.
Через какое-то время стрелка снова дернулась – меньшим шагом, но в ту же сторону. Морщина на небосводе чуть изгнулась, добавив ещё один изгиб.
– Второй, – сказал Лоран. – Мастеровая артель.
Через ещё какой-то срок – третий толчок. Совсем слабый, но заметный на фоне прежней тишины. Морщина на небе стала похожа на нить, которую кто-то то натягивает, то отпускает.
– Женщины, – почти шёпотом сказал Никандро. – У них голос тише, но иногда он держится дольше.
Мы стояли молча. Никто не хлопал в ладоши, никто не бросился поздравлять друг друга с «успехом опыта». Только в глазах у всех – и у Варвары, и у Лорана, и у Стефана, и у Кирило – было одно и то же чувство: страх вперемешку с тем особым восторгом, который испытывают люди, впервые увидевшие, как их мысль, брошенная далеко, возвращается к ним не как эхо, а как след в самом небе.
– Вот они, ваши демоны, – тихо сказал Стефан. – Не с рогами и хвостами, а в виде тонкой змейки в высоте и стрелки, сдвинутой на два деления.
Он перевёл взгляд на Лорана.
– Довольны, мастер? Вы хотели доказательств. Эфир вам ответил.
Лоран не отвечал сразу. Он смотрел на прибор так, как человек смотрит на ребёнка, который внезапно заговорил о вещах, о которых его не учили.
Наконец он сказал:
– Я доволен знанием. Я не могу радоваться тому, что где-то сейчас, может быть, летит камень в окно или падает первый человек. Но теперь мы знаем: общая мысль – не пустой звук. Она оставляет след и на земле, и над ней.
– Осталось только решить, – добавил Никандро, – кто отныне будет пользоваться этим знанием: те, кто хочет выровнять всех под одну меру, или те, кто всё ещё верит, что каждая душа неповторима.
Поздно ночью, когда морщина на небе расплылась, словно затянувшаяся рана, а стрелка медленно вернулась к своему обычному кругу, в дом прибыли первые вестники.
Один гонец – с синяком под глазом и рваным рукавом – привёз вести из первого города. Люди там и впрямь вышли на площадь, мясник читал письмо так громко, что его слышали даже за рекой. Сначала всё шло «мирно, но крепко», как выразился гонец. Потом один из стражников толкнул старика, пришедшего с палкой; толпа заволновалась, полетели крики, камни, в ход пошли дубины.
– Убитых двое, – сказал гонец. – Один солдат, один мальчишка из подмастерьев. Мясника забрали под стражу.
Из второго города письмо было спокойнее: там староста мастеровых сумел удержать людей от драки, разговор кончился угрозами, но без крови. В третьем – женщины действительно собрались у храма, говорили тихо, но настойчиво; священник вышел к ним, выслушал, пообещал передать их слова властям. Там обошлось и вовсе без разбитых голов, только ночью кто-то тайком нарисовал на дверях сборщика налогов знак круга с перечёркивающей линией.
Когда всё это пересказали в зале, на лице у каждого проявилось своё.
У судьи – тревога, перемешанная с привычной тяжестью: ещё одна работа, ещё дела.
У Варвары – тень боли от смертей, но и твёрдость человека, который заранее взял грех в расчёт.
У Кирило – странное, почти детское любопытство: его зверь, оказывается, не лгал.
У Никандро – мрачное подтверждение старых догадок.
У Ионаса – сжатые губы писца, который первый раз ясно увидел: его строки идут рядом с чьей-то кровью.
У Лорана… в его глазах не было ни радости, ни сожаления. Было то, чего я тогда ещё не умел толком назвать: решимость. Как у человека, который попробовал краешек горького лекарства и убедился, что пациент его не умер, а лишь содрогнулся.
Стефан же сказал только одно:
– Мы открыли дверь. Закрыть её уже не получится.
С того дня в доме стало теснее, хотя стен никто не двигал.
Не теснее телами – теснее совестями.
Весть о трёх городках пришла и ушла. Гонцы отоспались, кони отъелись, в людской ещё пару вечеров пересказывали, как «там, у купцов, народ поднялся», добавляя к каждому рассказу лишнюю кровь и храбрость. Потом и это стихло: печень любит новый хмель, ухо – новую байку.
А у нас наверху тишина только густела.
Стефан ходил по дому, словно носил на плечах невидимый плащ, от которого сам не мог избавиться. Чаще оставался один, дольше задерживался у образа в маленькой комнате, где прежде только легко крестился «для вида».
Однажды я застал его там.
Он сидел на лавке, локти на коленях, лицо в ладонях. Свеча уже догорала, воск стекал на стол струйкой, похожей на ту самую «морщину» на небе.
– Господин… – начал я, но он поднял руку.
– Молчи, – сказал он. – Я сейчас сам себе судья и свидетели. Если пущу тебя вовнутрь, придётся оправдываться.
Он всё же поднял голову.
– Ты ведь записывал наши ночные споры? – спросил.
– Да, – ответил я.
– Тогда запиши и это, – сказал он. – Тот, кто думает, что можно разбудить людей и остаться чистым, похож на мальчишку, который играет с углями и надеется, что руки его будут пахнуть только дымком, не гарью.
Он встал, медленно, словно каждое движение давалось с треском.
– Но и закрывать печь нельзя, если в доме холодно, – добавил он уже тише. – Вот мой крест: я всю жизнь колебался между страхом и теплом. Сейчас же, кажется, впервые понял, что тепла без ожогов не бывает.
Он прошёл мимо меня, слегка коснувшись плеча.
– Не запишешь – забудешь, – бросил он. – А забывать такие вещи нам нельзя.
Лоран же, напротив, стал спокойнее.
Не веселее – нет, он и прежде не был резвым. Но как будто внутри него одна из тяжёлых дверей наконец захлопнулась, и сквозняк мысли перестал бегать туда-сюда. Он теперь меньше спорил и больше спрашивал.
– Видели вы когда-нибудь, – рассказывал он нам как-то вечером, – как строят плотину? Сначала каждый камень кажется мелочью. Один носит их в корзине, другой складывает, третий заливает глиной. Вода по-прежнему бежит, как бегала, и кажется, что этот детский труд – пустое затевание. А потом наступает час, когда вода, упёршись в стену, вдруг поднимается выше привычного. И никто уже не помнит, какой именно камень оказался последним.
Он посмотрел на нас с Стефаном, на Ионаса и даже на Кирило, который терпеливо чистил рядом железную деталь.
– Наши листы в трёх городах – не плотина, – сказал он. – Это только первые камешки. Но мы уже видели, как вода дрогнула. Теперь нужно понимать: либо мы продолжим класть камни, и тогда попробуем направить поток, либо пустим всё на самотёк, и тогда, когда плотина самовольно сложится из чужих рук, нас смоет.
– То есть вы не остановитесь, – сухо заметил судья. – Я так и думал.
– Остановиться – значит оставить знание полудохлым, – ответил Лоран. – Мы теперь знаем, что общая мысль, поднятая в одном месте, оставляет след в самом небе. Неужели вы хотите отойти в сторону, уступив это тем, кто меньше задумывается о последствиях?
Он бросил короткий взгляд на Варвару.
– Вы, сударыня, – сказал он, – держите башню, письма, людей. Если не вы, то кто? Уличный крикун? Слепой фанатик? Всякий огонь найдёт себе руки. Вопрос лишь, будут ли это руки хоть сколько-нибудь трезвые.
Варвара молчала. Она умела молчать так, что в этом молчании было больше слов, чем в чьей-либо речи.
Наконец сказала:
– Я не хочу быть хозяйкой нового пожара. Но ещё меньше хочу быть той, кто, видя складывающийся костёр, отворачивается в сторону и делает вид, что всё это – игры мальчишек.
Она поднялась.
– Я дам вам ещё одну попытку, – сказала. – Но с каждым шагом цена будет выше. И отвечать будем не только перед самим собой.
Той же осенью в дом пришли новые вестники. На этот раз не по нашей воле.
Из столицы прискакал чиновник – сухой, в хорошем сукне, с глазами человека, которому не привыкать служить любой власти, лишь бы та вовремя платила. Он долго шептался с судьями, потом был принят Варварой в малой гостиной.
Мы узнали суть разговора уже вечером: когда чужой чиновник уехал, судья собрал нас в библиотеке, как будто мы все были его подчинёнными.
– Слух о волнениях в трёх городках дошёл до самой верхней власти, – сказал он. – Там пока не знают, откуда именно растут ноги, но чувствуют, что в княжестве завелось что-то новое. Задумались, откуда вдруг простые люди заговорили одинаковыми словами в разных местах. Слишком уж много совпало: один день, похожие речи, одни требование.
Ионас побледнел.
– Наши листы? – прошептал.
– Наши, – кивнул судья. – И ещё сотни других, что ходят по рукам и рынкам без вашего участия. Вы лишь подбросили в общий костёр более сухих дров.
– Что хотят от нас? – спросила Варвара.
– Пока – понять, к какому берегу вы больше склоняетесь, – ответил судья. – Верхняя власть любит привлекать сильные головы тоже, но на своих условиях. Они не прочь, чтобы в нашей земле нашлись люди, умеющие усмирять толпу словом, а не только плетью. Но они боятся, что вы решите усмирить её не в ту сторону.
Он посмотрел на Лорана:
– Они зовут таких, как вы, «новыми ловчими», – сказал он. – Одной рукой вы кормите народ обещаниями, другой – ловите его в сеть. Вопрос в том, чьей добычей окажется сеть.
Лоран чуть усмехнулся.
– Ловчий, – повторил он. – Слово презрительное, но честное. Лучше быть ловчим, чем добычей.
– Можно ещё быть тем, кто стоит в стороне от леса, – буркнул Стефан. – Но таких в вашем счёте вы, разумеется, не держите.
Судья развёл руками.
– В стороне от леса уже не получится, – сказал он. – Век наш таков, что охота идёт повсюду. Одни загоняют, другие бегут, третьи режут. Наблюдателей становится всё меньше.
После ухода чиновника в доме ещё сильнее натянулись невидимые струны.
Кто-то из гостей уехал, не попрощавшись, – слишком чуткий к ветру опасности. На их место приходили другие – те, кто, наоборот, чувствует себя живым только на краю бури.
Однажды в дом явился молодой проповедник, о котором уже шли разговоры в ближайших землях.