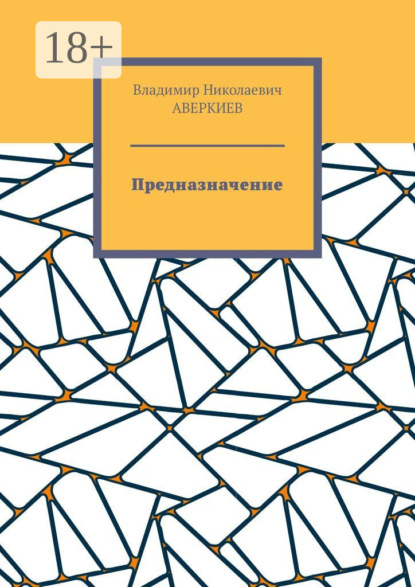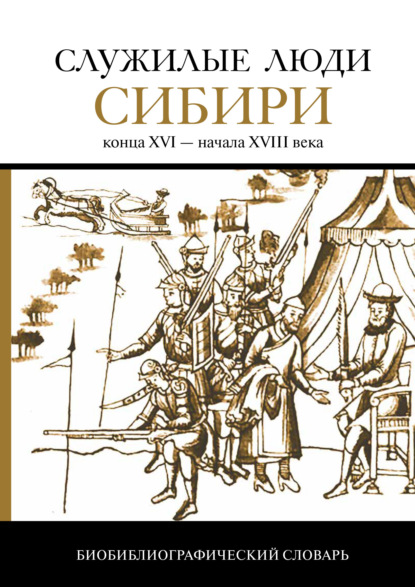- -
- 100%
- +
Он был худ, с горящими глазами, голос у него был не громкий, но цепкий. Он стоял посреди зала и говорил так, что даже усталые слуги цеплялись за его слова.
Он обещал простой конец всем сложностям:
– «Бог придёт и сам поставит всё на свои места. Ваша задача – только отвернуться от нынешней власти и ждать. Не действовать, а ждать. Терпеть ещё немного. Скоро всё разом изменится».
Людям было сладко это слышать: не надо ломать голову, не надо спорить, не надо рисковать. Надо лишь терпеть и ждать чудесного переворота.
После его отъезда Лоран сказал:
– Вот с такими мне придётся бороться. Иначе они выиграют. Ведь людям легче ждать чуда, чем строить тяжёлый мост.
Стефан устало улыбнулся:
– А вам не приходило в голову, мастер, что вы с ним из одного корня? Он обещает чудеса свыше, вы – чудеса от человеческого расчёта. Оба хотите собрать людей под один знак.
Он вздохнул.
– Разница лишь в том, что чей-то знак висит в небе, а ваш – печатается на бумаге.
– Моя бумага хотя бы не обещает рай за один день, – парировал Лоран. – Я говорю людям: путь будет тяжёлый, придется отдать часть привычного. Он же – дешёвый утешитель.
Он помолчал.
– Но да, – признал он. – Мы оба играем в одну игру: кому достанется общая душа. Просто я не скрываю, что это игра.
Тем временем демоны верхнего моря, если их можно так назвать, всё явственнее показывали своё присутствие.
Ночами на небе всё чаще появлялись тонкие светящиеся нити. Они не падали, не горели, как хвостатые звёзды, а тянулись поперёк обычных ходов созвездий, будто кто-то старательно чертил на небесной коже новые линии.
Железный зверь у Кирило уже не только дёргался в дни смут; иногда он начинал дрожать даже тогда, когда никаких вестей о волнениях не приходило. И только спустя несколько дней до нас доходило: где-то далеко, за горными перевалами, вспыхнул спор, начался бунт или, напротив, старая власть рухнула без крика, как сгнившая балка.
– Выходит, эфир знает раньше нас, – ворчал Кирило, записывая очередную отметку. – Как старый пес, который слышит шаги хозяина задолго до стука в калитку.
– Или как совесть, – добавлял Стефан. – Она тоже знает о грядущем грехе раньше, чем рука поднимется. Только мы чаще её заглушаем.
Я в те дни всё чаще ловил себя на том, что, глядя на небо, ищу уже не привычные созвездия, а эти новые нити.
Иногда ночью вдруг просыпался от тяжёлого сна, выходил на узкую галерею, идущую вокруг дома, и видел в высоте тонкое мерцание – будто кто-то шьёт, не глядя, грубую сеть.
И начинал думать: может, те, кого мы свыклись звать «бесами» в человеке, – всего лишь нижние узлы этой сети. А сами узлы – выше, а мы только дёргаемся в них, как рыба.
В одном из таких ночных брожений я встретил Ионаса.
Он сидел на ступенях, ведущих к башне, и держал голову в руках. Луна освещала его пальцы, всё ещё чёрные в складках от чернил.
– Не спится? – спросил я.
– Таким, как мы, нынче спится плохо, – ответил он. – Мы ведь между молотом и наковальней. Сверху – власть, снизу – народ, а мы – те, кто связывает их бумагой.
Он поднял на меня глаза.
– Знаешь, что мне снилось? – спросил. – Будто все мои списки, сделанные за жизнь, поднялись и пошли. Листы – как белые птицы. Одни летят к бедным, другие – к богачам, третьи – в казну. И каждый лист, куда ни прилетит, меняет что-то: тут из-за него помирились, там – поссорились, тут – убили. А я стою, как дурак, посреди площади и не могу ни одну птицу вернуть назад.
Он усмехнулся, но в этой усмешке не было веселья.
– Ты моложе, – сказал он. – Может, у тебя ещё есть право ошибаться. Я же слишком много видел, как слово живёт собственной жизнью. Поэтому всякий раз, когда Лоран просит меня «переписать помягче», я чувствую, что нажимаю не на перо, а на горло кому-то.
– Почему же ты согласился? – тихо спросил я. – Мог уйти, спрятаться в захолустье, переписывать псалмы для какого-нибудь монастыря.
Он вздохнул.
– Потому что бегство не лечит, – ответил он. – Всё равно и туда придут новые листы. Я подумал: лучше уж быть там, где всё начинается, чем потом сидеть в стороне и делать вид, будто это тебя не касается.
Он посмотрел в сторону башни.
– А ты? – спросил он. – Что ты ищешь среди всех этих людей? Учёный голод? Жажду славы? Или просто любопытство?
Я не сразу нашёл слова.
– Не знаю, – сказал я. – Мне кажется, я ищу правду. Но всякий раз, когда мы делаем шаг, правда меняет лицо. Вчера мне казалось правдой, что нельзя играть с чужими жизнями. Сегодня – что нельзя оставлять мир в старой гнили. Завтра, может быть, будет третье.
Ионас усмехнулся.
– Ты говоришь, как молодой Стефан, – заметил он. – Он тоже когда-то думал, что правда меняется вместе с вопросом. Теперь же он скорее похож на человека, который видит, что в каждом ответе сидит маленький бес.
Он поднялся.
– Пойдём спать, – сказал он. – Пока ещё есть такие ночи, когда нам дают спать.
Так шли дни в доме, который уже давно не значился ни на одной карте просто как «усадьба». Если бы кто-то рисовал карту истинную, а не чиновничью, он, наверное, отметил бы вокруг нашей башни круги, как вокруг камня, брошенного в воду: круги писем, речей, новых мыслей, дрожаний в небе.
Я тогда ещё не знал, что скоро один из этих кругов вернётся к нам самим – уже не как опыт, а как ответ.
И что демоны верхнего моря, до сих пор лишь лёгкими морщинами тревожившие небесную кору, вдруг протянут щупальца прямо в наш дом.
Первый знак пришёл не с неба, а со створок ворот.
Утром, когда я, как обычно, шёл со связкой книг к кабинету сэра Стефана, со двора донёсся крик конюха:
– Глядите! Да глядите же вы, слепые!
Я выглянул в окно галереи и сразу понял, что дом наш перестал быть просто домом.
На левой створке ворот, под самой кованой подпоркой, чёрнела свежая краска. Круг, перечёркнутый косой линией. Тот самый знак, что уже рисовали на дверях сборщиков и складов, – только здесь круг был крупнее, линия – толще, а сам рисунок сделан аккуратно, не дрожащей рукой.
К воротам сбегались слуги. Кто-то крестился, кто-то плевал через плечо, кто-то смеялся нарочно громче, чем следовало.
– Ну, всё, – сказала старшая горничная, – дождались. Теперь мы не просто барский дом, а метка.
У меня внутри всё село. До сих пор знак этот жил в чужих рассказах, на чужих дверях. Теперь он был у нас, на железе, к которому я столько раз прикасался ладонью, возвращаясь из города.
Через некоторое время к воротам вышла сама Варвара.
Она остановилась на несколько шагов, не торопясь подойти ближе. Смотрела не на знак даже, а чуть выше, словно прикидывала: влезет ли сюда ещё что-нибудь кроме круга с линией.
– Когда это сделали? – спросила она.
– Ночью, сударыня, – отозвался привратник. – Караул стоял, по двору ходили, но кто-то подошёл со стороны рва. Тихо, как мышь. Один из малых слышал шорох, да решил, что кошка.
Варвара медленно подошла к воротам. Провела пальцем по чёрной линии; краска уже подсохла, только чуть блеснула.
– Умойте, – сказала она. – Но не сейчас. Пусть повисит до вечера.
– Сударыня! – привратник даже отпрянул. – Люди увидят…
– Так пусть увидят, – спокойно ответила она. – Мы ведь не прячемся.
Она повернулась и пошла обратно к дому. На ступенях столкнулась с Лораном.
Он бросил взгляд на створки, и я заметил – глаза у него на миг сверкнули так же, как в ту ночь, когда стрелка ушла в сторону.
– Вот и ответ, – тихо сказал он. – Народная рука дорисовала за нас то, что мы сами пока не решались начертать. Круг – мир. Черта через него – отказ.
Он посмотрел на Варвару:
– Вас не пугает, сударыня, что ваш дом достоин такого знака?
– Меня пугает другое, – ответила она. – Что однажды этот знак появится у тех, кто его придумал.
Она на мгновение задержала на нём взгляд.
– Вечером у ворот соберутся любопытные, – добавила. – Пусть смотрят. Нам тоже полезно на них смотреть.
В тот же день пришло письмо из того самого первого города, где мясник читал наш лист. Письмо было на грубой бумаге, почерк – угловатый, но уверенный. Подпись – «жена того самого мясника», имя её я тогда прочесть не смог: буквы слиплись.
Письмо читали вслух в малой гостиной: Варвара, Стефан, Лоран, судья, я – при дверях.
Женщина писала коротко, как умеют те, кому некогда украшать:
«Муж мой сидит под стражей, его, говорят, будут судить не только за драку, но и за слова, что прочёл. Люди сперва были вместе, потом отступили: кто испугался, кто побежал по домам. Наш дом обыскали, лист ваш нашли, унесли. Говорят: “Эти слова пришли из ваших мест. Там, в башне, сидят смутители, что тянут нитки к нам”.
Я не знаю, так ли это. Но знаю, что без того листа мы бы по-прежнему молчали. За это я вам благодарна. За мужа – нет. Если вы мудрее меня, скажите: кто виноват – тот, кто сжёг, или тот, кто принёс огонь?»
Прочитав, все замолчали.
Стефан встал, прошёлся по комнате, вернулся, сел снова. Потом сказал:
– Вот она, настоящая мерка. Не наши высокие речи, не стрелка в башне, а этот вопрос: кто больше виноват.
Он поднял глаза на Лорана:
– Что вы ответите этой женщине, мастер?
Лоран смотрел перед собой.
– Если скажу, что виноват только тот, кто ударил и убил, – совру, – сказал он. – Если скажу, что виноваты одинаково все – и мы, и они, и стража, и сам муж её, – выйдет так, будто не виноват никто.
Он помолчал.
– Скажу иначе: мир уже был полон сухого хвороста. Мы поднесли свечу. Тот, кто бросил факел, не знает ни нашего имени, ни ваших книг. Но и мы не можем отвести от себя искру.
Он вздохнул.
– Если хотите, я напишу ей сам. Это будет первое письмо, где я не буду убеждать, а только признаю свою долю.
– Напишите, – сказала Варвара. – И скажите там не только о доле вины, но и о доле смысла. Если наш огонь только жжёт, а не светит, мы действительно хуже всякого поджигателя.
Ночью, спустя несколько дней после истории со знаком на воротах, демоны верхнего моря впервые пришли к нам не сбоку, а прямо сверху.
Я спал плохо, ворочался, и вдруг почувствовал странную тяжесть – не как от дурного сна, а как от резкого изменения погоды. Воздух стал вязким, в груди – пустота, как перед тем, как броситься в воду.
Где-то в глубине дома глухо загудело: не колокол, не шаги, а протяжный стон камня.
Я вскочил, на ходу натянул плащ и выбежал в коридор. Там уже мелькали светильники – кто-то тоже проснулся.
– В башню! – крикнул сверху голос Кирило. – Скорее!
Мы поднялись по ступеням почти бегом. Варвара – в простом тёмном платье без уборов, Стефан – вполуголый, только плащ накинут, босые ступни шлёпают по камню, Лоран – бледнее обычного, но с тем же сухим взглядом. Никандро уже был наверху.
Когда мы выскочили на площадку, я понял, что такого неба ещё не видел.
Оно не было ни чёрным, ни синем. Скорее – серым, как свинец, но подёрнутым бледными прожилками. Из этих прожилок сходились к центру тонкие светлые нити, как корни, тянущиеся к одному узлу. А прямо над нашей башней, высоко-высоко, висело мутное пятно, слабое свечение, будто кто-то зажёг свечу под толстой тряпкой.
Воздух был плотным, тугим; в ушах стоял тонкий звон.
Железный зверь в центре площадки дрожал всем телом. Стрелки прыгали, как безумные; красная ушла так далеко, что я даже не сразу понял, где её прежнее место.
– Это не похоже ни на что, – прошептал Кирило. – Ни на грозу, ни на движение судов, ни на привычные смуты.
Он приложил ухо к корпусу зверя.
– Слышите? – спросил он.
Мы слышали. Там, внутри железа, звучало не простое гудение, а как будто множество тонких ударов, сливающихся в один. Будто по нему стучали не молотком, а пальцами многих рук.
– Что это? – спросила Варвара.
Ответил ей не Лоран и не Стефан, а Никандро.
– Это то, что я видел однажды в верхнем море, – сказал он глухо. – Только тогда свечение было дальше, а сейчас – прямо над нами.
Все взгляды обратились к нему.
– Расскажите, – сказал Стефан. – Сейчас не время беречь тишину.
Никандро стоял, вцепившись руками в каменный бортик площадки. Лицо его в этом странном свете казалось вырезанным из серого дерева.
– Мы шли тогда по дальнему пути, – начал он. – Вдоль берега, где одно княжество сменяется другим, а границы стираются только на карте, не в головах. Люди там годами жили в ссоре: город с городом, вера с верой, власть с властью. И всё это зрело, как тесто в печи.
Он перевёл взгляд на мутное пятно в высоте.
– В ту ночь небо было почти таким же. Только тогда свечение было не над нами, а над полосой земли, по которой мы шли боком. Железные приборы на судне – у нас тоже есть свои звери – сходили с ума: стрелки рвались из круга, корпус гудел. Люди на палубе чувствовали слабость, как от болезни, хотя ни один не был болен.
Он сжал кулаки.
– А потом вдоль берега вспыхнули огни. Не обычные, костровые, а рваные, резкие. Горели усадьбы, склады, храм в одном городке. Потом до нас дошли вести: в ту ночь примерно в один час в нескольких местах люди одинаково взбесились. Где-то началась резня, где-то самосуд, где-то «суд общины» над местными властями. Никто не мог объяснить, почему все разом. У каждого места была своя обида, свои причины, но час совпал.
Он помолчал.
– Тогда я впервые увидел такое пятно в небе. И впервые подумал: есть не только наша воля и их воля, но и нечто третье. Когда слишком много напряжения копится на земле, верхнее море тоже напрягается. И однажды это возвращается вниз.
– Вы хотите сказать, – тихо произнёс Лоран, – что сейчас такой же час?
– Хуже, – ответил Никандро. – Тогда мы были всего лишь свидетелями. Теперь мы одни из тех, кто натягивал струну.
Он показал вверх.
– Видите, как нити сходятся к нашему дому? – сказал. – Это не просто чужая буря. Это узел.
Никто ничего не ответил.
В этот момент снизу донёсся крик. Не человеческий – петушиный. Сразу несколько петухов закричали разом, не по времени. Потом – собачий вой. Где-то за стеной конь заржал так, что кровь стыла.
Варвара схватила меня за руку – сильно, до боли.
– Смотри, – прошептала она.
Я посмотрел вниз, во двор. В тусклом свете факелов видел: кони рвутся, бьются в стойлах, собаки, наоборот, жмутся к земле, воют, не поднимая головы. Люди мечутся, не понимая, в чём дело.
– Это не обычная буря, – сказал Кирило. – Воздух вроде бы тих, а всё живое ведёт себя, как перед землетрясением.
– Земля под нами крепка, – возразил судья. – Здесь нет трещин, всё давно вымерено.
– Трещины сейчас не в земле, – сказал Стефан. – Они в том невидимом, что сверху и внутри нас.
Железный зверь снова издала тонкий, протяжный визг. Стрелки дернулись, потом одна – совсем тонкая – вдруг ушла назад, как будто сила, тащившая её, оборвалась.
Пятно над башней чуть дрогнуло, вытянулось, стало размываться. Нити потянулись в стороны.
Через несколько мгновений всё кончилось. Небо стало просто серым ночным небом. Воздух – обычным. Звон в ушах стих. Внизу кони успокаивались, собаки переходили с воя на редкое рычание.
Только в нас самих ничего не успокаивалось.
– Что это было? – тихо спросила Варвара.
На этот раз ответили трое, каждый по-своему.
– Это был удар, – сказал Кирило. – Верхнее море взялось узлом и разжалось. Наш зверь только принял его отголосок.
– Это был знак, – сказал Стефан. – Кому – не знаю. Но мы уж точно были не единственными, кто его почувствовал.
– Это был ответ, – сказал Никандро. – На наши игры. На наши листы. На наши споры. Где-то сейчас, в нескольких местах, произошло что-то, что позже будут объяснять по-своему: мол, так уж вышло, «люди не выдержали», «власть перегнула». А мы будем знать: в этом есть и наша доля.
Он перевёл взгляд на Лорана:
– Вы хотели делать опыты над миром, мастер. Мир ответил. Готовы ли вы отвечать перед ним?
Лоран долго молчал. В его лице не было ни прежней уверенности, ни привычной иронии. Был только расчёт – но уже иной, с учётом нового числа, которого не было в прежних рядах.
– Готовы мы или нет, – наконец сказал он, – уже поздно спрашивать. Вопрос теперь в другом: кто первый поймёт, что именно произошло этой ночью.
Он оглядел всех нас.
– Тот и станет хозяином нового века. Или его первым жертвой.
Утром пришли вести.
В одном соседнем городке ночью вспыхнул пожар – сгорел склад, где хранили зерно для войска. Люди говорили, что то ли молния ударила, то ли кто-то метнул смоляные горшки. Кто-то шептал, что видели перед этим странный свет в небе, не похожий ни на обычную грозу, ни на северное сияние.
В другом – рухнула старая башня у городских ворот. Никто её не поджигал и не подрывал: просто выкрашенный, ухоженный, почтенный столб камня, простоявший десятки лет, вдруг дал трещину и сложился, как усталый старик. Несколько сторожей погибли.
В третьем месте, по слухам, ночью на площади собрались люди без всяких листов и призывов. Просто вышли, как будто по звонку. Стояли, молчали, смотрели на небо. Ничего не кричали, ни на кого не бросались. Утром разошлись по домам, но с того дня перестали ходить к местному сборщику налогов.
– Это уже не мои листы, – тихо сказал Лоран, когда эти вести принесли ему. – Это что-то, что пошло дальше.
– Не только дальше, – ответил Стефан. – Но и ближе.
Он посмотрел на меня:
– Пиши, – сказал он. – Пиши обо всём, что видим и слышим. Если выживем, это будет наша книга о том, как демоны верхнего моря вошли в жизнь людей. Если не выживем – пусть кто-нибудь другой найдёт твою тетрадь и ужаснётся.
Так демоны, о которых мы сперва говорили как о образе, потом – как о дрожании эфира, наконец протянули невидимые пальцы прямо в наш дом. Они ещё не взяли нас за горло, но уже стояли в углу, прислонившись к стене, и слушали, о чём мы скажем дальше.
ГЛАВА II. ЛЮДИ ЗНАКА
Утро после той ночи было тихим – слишком тихим, как бывает после большой ругани, когда все ходят на цыпочках, боясь поднять глаза.
Небо стояло ровное, бледное, будто ничего не помнило. Птицы пели, куры копались в мусоре, собаки лениво чесались. Только мы знали, что ночью над домом висело мутное пятно и железный зверь визжал, словно его резали.
Я спустился в людскую – принести себе хлеба и слухов. Слухи там раздаются охотнее, чем еда.
Там уже шёл спор.
– Говорю тебе, – уверял поварёнок, размахивая ложкой, – ночью стоял во дворе, видел, как небо дышит. Прямо над башней. Как будто кто-то там сверху гигантский мехами воздух гонял.
– Мехами он себе гонял, во сне, – отмахнулась старшая горничная. – Это у нас в башне дышат, а вам кажется, что небо. Госпожа с учёными опять чего-то там колдовали.
– Тише ты, – шипнул кто-то. – Тут нынче за слово «колдовство» можно и по шее.
Старшая горничная фыркнула, но замолчала.
– А мне сестра из города писала, – вмешалась прачка, – что там тоже ночью неспокойно было. Народ в трактире сидел, как подбитый. Никто не смеялся, только пили и молчали. А под утро будто вскрик прошёл по всем, сразу. Никто не понял что, только дома опять отметили.
– Чем отметили? – спросили сразу несколько голосов.
– Да чем, чем… кругом этим. С чертой. У нас-то на воротах один, а там, говорят, по целой улице двери пометили.
Гул прошёл по лавкам.
– Видали, – сказал кто-то глухо, – у нас тоже уже есть.
– А я слышал, – вставил старый конюх, – что этот знак не простой. Кто его на двери получит, тому житья не будет. И сверху смотреть начнут, и снизу. Сверху – как на смутьяна, снизу – как на богатого. Такое клеймо, что хоть уходи в лес.
– Да куда ты уйдёшь, – отрезала горничная. – В лесу теперь тоже неспокойно. Там свои знаки.
Она спохватилась и перекрестилась.
Я взял хлеб, кусок сыра и уже выходил, когда разговор повернул туда, куда ему давно хотелось.
– А всё от этих, – сказал поварёнок, кивнув наверх, туда, где была башня. – Жили бы мы, как жили, и не дергалось бы небо. А то задумали мир переворачивать, вот он и трещит.
– Молчи, дурень, – резко сказала старшая. – Если госпожа услышит, язык отрежет. Она, может, и правда что-то хорошее задумала. Только мы всё равно ничего не поймём.
Я замер у двери. В этих словах было то, чего я боялся больше прямых проклятий: усталое нежелание разбираться.
Тем же днём меня послали в город. Варвара хотела знать, что говорят люди не только у нас на кухне, но и на площади.
– Съезди, – сказала она. – Глаза у тебя пока ещё не завышены книгами, уши не забиты своими речами. Посмотри, послушай. Не ищи прямо, бери обыденное: рынок, кабак, площадь у храма. А вернёшься – расскажешь всё, даже то, что тебе покажется мелочью.
Стефан, стоявший рядом, только кивнул:
– И поменьше думай за людей, – добавил он. – Пока записывай.
Я сел на коня, которому было, кажется, всё равно, толкают ли эфир в небесном море или нет. Для него мир делился только на овёс и ремень.
Дорога до ближайшего города была известна, как привычная фраза. Лес, поле, пару деревень, мост через мутную речку. Я ехал и всё смотрел вверх – в небо. Оно было обычным, с редкими облаками. Ни пятен, ни нитей. Но от этой обычности по спине ползло холодком: как от лица человека, который слишком старательно делает вид, что всё в порядке.
Город встретил обычным шумом. Торговцы кричали, каждый перекидывал цену через голову соседа; дети носились между лавками; свиньи важно шагали, как чиновники; запахи – кислый, пряный, жареный – клубились в воздухе.
Но стоило всмотреться, как эта привычная каша начинала распадаться.
На многих дверях я увидел круг с чертой. Где-то – неуклюжий, размазанный, будто рисовали на бегу. Где-то – тщательно, нарочно: чёрная краска, ровно, от угла до угла. На одной лавке знак был выведен красной краской, поверх свежей вывески: «Хлебный двор».
Я остановился у этой лавки. Хозяин – сухой человек с жёстким лицом – заметил мой взгляд.
– Любуетесь? – спросил он. – Утром вот проснулся, а у меня на двери это. Городовой прошёл, посмотрел, плюнул. Не стирать же самому: подумают, что боюсь. Оставил.
– А что для вас этот знак значит? – осторожно спросил я.
Он пожал плечами.
– Для меня? Пока ничего, – ответил он. – Для других – слишком много. Кто мимо идёт – одни крестятся: мол, враг власти. Другие кивают: свой, мол. А я хоть бы знал, чьим я стал. Своим-то хлебом кормлю и тех, и других.
Он вздохнул.
– Раньше, – продолжил он, – если тебя отмечали – ясно было кем: либо власть, либо церковь. И там, и там хоть какие-то правила есть. А теперь… от кого ждать – сверху или снизу?
Я отошёл к площади.
Там было людно, как всегда. Но стоило задержаться подольше, как ухо начинало цеплять странное.
Раньше на площади больше говорили о житейском: кто женился, кто разорился, кто продал кобылу втридорога. Теперь всё чаще звучало: «порядок», «равенство», «доля», «правда». Слова тяжёлые, нездешние, но уже обкатанные языком.
Под навесом, у стены дома, стоял мальчишка и раздавал небольшие листки. Бумага плохая, шрифт неровный, но слова читались легко. Я взял один, отошёл в сторонку.
В листке говорилось всё то же: о праве спрашивать, о труде, который уходит в чужой карман, о необходимости собираться и говорить вслух. Строки были проще, чем у наших ночных писаний, грубее, но я услышал в них родной ход мысли. Наши слова уже жили здесь без нас, изменённые, но узнаваемые.
На полях один из читателей дописал углём: «А что потом?» – и ниже, другим почерком, было приписано: «Потом будет кровь».
Я сложил лист и спрятал.
В трактире воздух был гуще, чем на площади. Там пахло не только пивом и жареным мясом, но и непрожёванными словами.
Я сел в угол, заказал похлёбку, прислушался.
За соседним столом спорили двое: ремесленник в кожаном фартуке и человек в добротном камзоле – видно, что из тех, кто привык считать, а не рубить.
– Я говорю, – стучал кулаком ремесленник, – что так дальше жить нельзя. Мы работаем, как волы, а потом приходит один господин и забирает половину. Мне свои дети дороже его сундуков.
– Ты хочешь, чтобы не было господ вообще? – прищурился счётчик. – Чтобы каждый сам себе закон? Тогда через год в городе будет три хлева и ни одной мастерской.
Он поднял кружку.
– Нужен иной порядок, – сказал он. – Не такой, как сейчас, где верхнему всё, нижнему крохи. Но и не такой, как ты хочешь, где каждый тянет в свою сторону. Нужна мера.
– Мера… – передразнил ремесленник. – Эти ваши меры всегда заканчиваются тем, что одному достаётся тройная порция, а мне – пустая миска.
К их столу подошёл третий – в серой, ничем не приметной одежде. Лицо запомнить было трудно – такое каждый день видишь десятками.