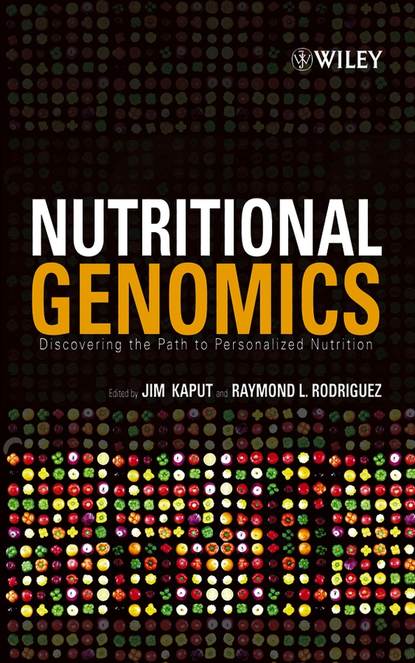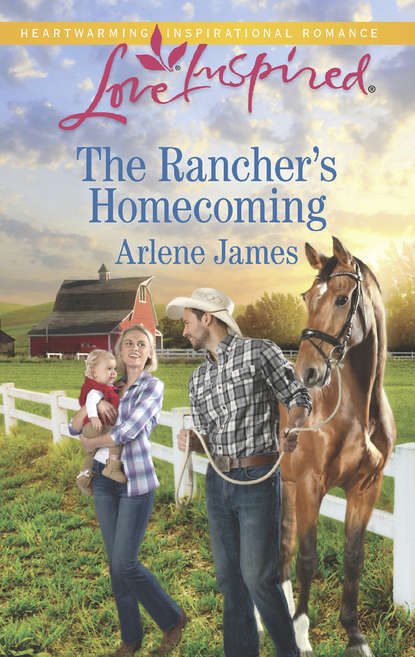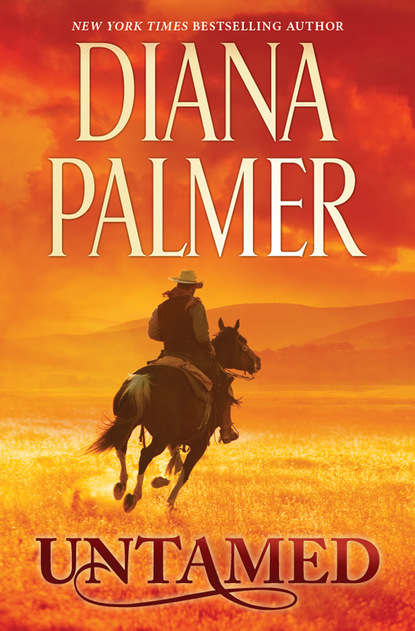- -
- 100%
- +
– Братья, – тихо сказал он, – вы спорите зря. Есть люди, которые уже всё рассмотрели. Они сидят в башнях, читают книги, говорят с морями…
Я вздрогнул.
– …и предлагают новый строй, где никто не будет сам за себя. Где все – за всех и каждый под одной меркой. Не надо вам самим ломать головы. Надо лишь слушать и не мешать.
Ремесленник фыркнул.
– Мы-то не помешаем, – сказал он. – А вы кто такие, чтобы нам мерки ставить?
– Мы – те, кто умеют держать общую нитку, – спокойно ответил серый. – Хотите вы или нет, век к этому идёт.
Он улыбнулся так, как улыбался Лоран, когда говорил с нами о «плотине».
– Знак на вашей площади – круг с чертой, – сказал он. – Круг – старый мир, черта – наш отказ от прежнего. Скоро появятся и другие знаки. И тогда уже не вы будете спорить в трактире, а другие, в башнях и дворцах, будут спрашивать: «что нам делать, чтобы эти люди не смели?»
Слова его были слишком знакомы. Я вдруг ясно понял: Лоран – не один. В других городах ходят свои «Лораны», свои «кружки», свои башни. Мы не центр мира, мы один из узлов.
Назад я возвращался с тяжёлой головой.
Дорога была та же, но казалась иной. Каждый придорожный камень мог теперь быть помечен невидимым знаком, каждый крест у развилки – молчаливым свидетелем чьей-то будущей беды.
У ворот дома знак всё ещё висел. К вечеру он почернел, треснул местами, но держался.
У ворот уже собралась горстка людей – не наших, а из окрестных. Пришли, как на ярмарку, только смотреть.
– Это они, – шептал кто-то, кивая на башню. – Отсюда всё идёт.
– Что – всё? – переспросил другой.
– Да всё, что теперь кругом творится. Слова, листы, знаки. Говорят, у них на верхушке не трубы, а глаза.
Меня пропустили; я был «свой», меня знали. Но я ощущал на спине взгляды – цепкие, настороженные.
Вечером Варвара собрала нас в библиотеке.
Я рассказал всё: и про лавку с красным кругом, и про листы, и про трактир, и про серого человека, который говорил чужими словами.
– Видите, – сказал Лоран. – То, что мы делаем здесь, делается и в других местах. Наш знак – не один. И наш круг – не единственный. Значит, эфир трещит не только над нами.
– Это вас радует? – резко спросил Стефан. – Вам мало того, что мы уже подвинули стрелку и обожгли пару городов?
– Меня радует только одно, – ответил Лоран. – Что мы не одни в этом поле. Значит, у нас будет с кем бороться и с кем соединяться.
– Соединяться… – передразнил Ионас. – Вы всё говорите, как плотник или военачальник. А я-то слышу в каждом вашем слове камень. Камень в стену, камень в плотину, камень в голову.
Варвара до поры молчала.
– Я хотела, – сказала она наконец, – чтобы этот дом стал местом, где мир можно рассмотреть, как на ладони. Теперь вижу: мы сами стали частью узора. На нас уже рисуют, как на ладони.
Она перевела взгляд на меня:
– Ты спрашивал, когда будет вторая глава, – сказала она. – Вот она и началась. Первая была о доме, который смотрит на мир. Вторая – о доме, на который смотрит мир.
Она медленно поднялась.
– Значит, дальше мы должны жить так, будто за нами всё время следят. И не только люди, но и то самое верхнее море, с его невидимыми нитями.
Она посмотрела по очереди на каждого:
– Ты, Лоран, – будешь не только придумывать новые ходы, но и считать, сколько они стоят по-живому. Ты, Стефан, – не прятаться за сомнением, когда придёт час назвать вещи по имени. Ты, Кирило, – перестанешь видеть в своём звере только игрушку для ума; это теперь наш общий колокол. Ты, Никандро, – не уйдёшь, как обычно, к следующему берегу, когда шторм станет сильнее. Ты, Ионас, – будешь писать, даже когда руки будут дрожать.
Она повернулась ко мне:
– А ты, писец, – будешь помнить, что каждая строка – не просто «история», а след в эфире. Мы не знаем, кто и как его потом прочтёт. Но ты будешь свидетелем.
Я молчал. Всякая красноречивая клятва в тот миг показалась бы дешёвой.
Снаружи всё казалось прежним: тот же двор, те же крыши, те же куры, тот же запах кухни. Но теперь на воротах пару дней висел знак, которого ещё недавно не было в самом языке. По ночам над домом могли вспыхнуть тонкие нити, которых не было в наших прежних молитвах.
И главное – всё чаще, глядя на лица людей, я видел в них не просто характеры, привычки, грехи, а тени каких-то общих, ещё не до конца родившихся мыслей.
Как будто каждый носил в себе маленький кусок неба, и демоны верхнего моря уже тянулись к этим кускам невидимыми пальцами.
Через несколько дней после появления знака у ворот в дом пришёл ещё один гость – тот, кого никто не звал, но всякий дом рано или поздно встречает.
Это был деревенский священник.
Не наш приходской – с ним Варвара жила в давнем, усталом мире взаимных уступок: он не слишком лез к ней с поучениями, она не слишком мешала ему держать народ в привычном страхе. Пришёл другой – из соседней округи, низенький, коренастый, с густыми бровями и глазами, которые всё время щурились, будто свет им был лишним.
Звали его отец Гавриил.
Он приехал не один. С ним – ещё двое: один в простой серой одежде, другой в потёртом, но аккуратном чёрном сукне. Эти двое держались чуть позади, как тени.
Я увидел их из окна галереи: как они слезают с коней, как отец Гавриил, не оглядываясь на слуг, сразу идёт не в дом, а к воротам – и становится перед нашим чёрным кругом, не перекрестясь и не сплюнув.
Он долго смотрел на знак, потом поднял голову к башне.
В это время к нему вышла Варвара.
– Батюшка, – сказала она спокойно. – Давно вы не наведывались.
– А теперь, значит, пора, – ответил он, не кланяясь. – Раньше ваш дом был просто большим домом, а теперь на нём метка. Да ещё и какая.
– Метку нам оставили ночью, без разрешения хозяев, – мягко сказала Варвара. – Как и в городе, как и у сборщиков. Люди нынче любят рисовать там, где им кажется нужным.
– Люди рисуют внизу, – отрезал Гавриил. – А вы рисуете наверху.
Он ткнул пальцем в небо.
– Слухи ходят, – продолжил он, – что в вашей башне не только на звёзды глядят. Что вы, сударыня, связались с морем, которое над головами, и шевелите его, как тесто. Что из-за ваших затей в трёх городах народ вышел, а у нас в округе кони сходят с ума.
– Слухи любят дорисовывать, – сказала Варвара. – Но не всё, что в них говорят, ложь.
Он хмыкнул.
– Вот я и пришёл разделить, где в этих слухах правда, а где бесовщина, – сказал он. – Потому что если в вашей башне завелось такое, чего ни в Писании, ни в предании, ни в совести не найти, мне придётся говорить с людьми иначе о вашей милости.
Слова его были грубы, но в них не было хамства. Это была грубость человека, который привык глядеть людям в глаза с низкого порога, а не снизу на высокий балкон.
– Господи, – прошептал рядом со мной один из слуг. – Сейчас начнётся.
И в самом деле: началось.
Они собрались в библиотеке: Варвара, отец Гавриил, судья, Стефан, Лоран, Никандро, Кирило, Ионас. Меня оставили при дверях – «записывать», как всегда. Двое тихих спутников Гавриила остались у порога, как и я.
Библиотека была нашим обычным полем для словесных схваток, но сегодня она казалась теснее. Свечи коптили сильнее, чем обычно, будто сами нервничали.
– Отец, – начала Варвара, – вы человек прямой, я это знаю. Говорите, как на исповеди. В чём вы обвиняете этот дом?
– Я не судья, сударыня, – сказал он, бросив взгляд на сидевшего рядом с ним настоящего судью. – Я пастырь. Меня не интересуют ваши бумаги и права. Меня интересует, с кем вы делите небо над своей башней.
Он обвёл взглядом полки с книгами.
– Я знаю, – продолжил он, – что вы держите у себя людей учёных. Они читают книги восточных мудрецов, спорят о том, как движутся звёзды, ставят свои железные штуки, чтобы слышать, как дрожит воздух. Всё это само по себе ещё не грех. Но когда из-за этих занятий в трёх городах одновременно проливается кровь, а у нас в округе ночью небо рвётся, как старый холст, я не могу молчать.
Он повернулся к Стефану:
– Вы, сударь философ, когда-то читали мне свои речи о свободе человека. Я тогда ещё подумал: добрый вы человек, но слишком любите играть словами. Теперь вот ваши слова гуляют по трактирным листкам. Там, внизу, их читают люди, у которых в руках не перо, а топор. Вы уверены, что держите ответ за каждую букву?
Стефан сжал пальцы.
– Я не писал листы для топора, отец, – тихо сказал он. – Я писал для мысли.
– А топор видел в них только повод, – отрезал священник. – Вы бросили искру в сарай, где сушат солому, и удивляетесь, что там загорелось.
Он перевёл взгляд на Лорана:
– Про вас, мастер, я слышал меньше, но худшего, – сказал он. – Говорят, вы таких искр за жизнь бросили немало. Что вы не просто болтаете, а считаете, где и как загорится. Это так?
Лоран не опустил глаз.
– Я считаю, да, – ответил он. – Потому что если не считать мне, будут считать другие, куда менее совестливые.
Он выдержал паузу.
– Но не думайте, отец, что я поджигатель ради забавы, – добавил он. – Я пытаюсь найти такой огонь, который бы выжег старую гниль, а не живую плоть.
– Огонь не различает, – резко сказал Гавриил. – Это вы себе льстите.
Он повернулся к Варваре:
– А вы, сударыня, – сказал он, – пустили всех этих людей под свою крышу. Вы построили башню, которая лезет выше нашей колокольни. Вы собираете письма из всех земель, как пчелиные рои. Теперь же на ваших воротах знак, на вашем доме – шёпот, над вашей башней – свет, которого я не видел за все свои годы. Вы сами понимаете, какой пример вы подаёте своему люду и соседям?
Варвара слушала его, не отводя взгляда.
– Я понимаю одно, отец, – ответила она. – Век наш уже стал другим. Люди всё равно будут искать ответы не только в ваших проповедях, но и в книгах, и в собственных головах. Я лишь хотела, чтобы в моём доме это делалось не тайком, а открыто. И чтобы люди, которые умеют думать, не разбрелись по подвалам, а встретились лицом к лицу.
– А когда их мысли, – не уступал Гавриил, – начинают трогать небо, вы тоже называете это «открытостью»?
Он встал, прошёлся по комнате, остановился у окна.
– Я простой священник, – сказал он. – Я могу не понимать ваших учёных хитростей. Но я хорошо понимаю одно: когда в четырёх деревнях подряд перестают приходить к исповеди, ссылаясь на новые листки и новые речи, у меня начинает гореть небо не только над головой, но и в сердце.
Он повернулся.
– Я пришёл не за тем, чтобы вы сложили свои книги в огонь, – тихо добавил он. – Я пришёл узнать: вы вообще видите границу? Или для вас её больше нет – ни между небом и верхним морем, ни между человеком и демоном, ни между мыслью и делом?
В комнате повисла такая тишина, что скрип пера Ионаса на полях показался громом.
– Граница есть, – первым ответил Никандро. – Я видел её. Она не на земле, не на карте и не в книгах. Она там, где люди перестают видеть в другом человеке лицо и начинают видеть только часть толпы или часть замысла.
Он посмотрел по очереди на Лорана, на Стефана, на Варвару, потом – на священника.
– Если мы начнём считать души только звеньями цепи, – продолжил он, – тогда и верхнее море перестанет различать, кто упал, а кто сохранил честь. Тогда и правда не останется никому.
Гавриил внимательно взглянул на него.
– Вы кто такой по чину? – спросил.
– Никто, – ответил тот. – Я просто человек, который видел, как рушатся суда и города. И который привык видеть в этом не только «волю Божью», но и прямое следствие человеческого упрямства.
– Хорошо сказано, – признал священник. – Но мне мало красивых слов.
Он посмотрел на Варвару:
– Я хочу, чтобы вы сделали один шаг, сударыня, – сказал он. – Не для меня. Для тех, кто смотрит на ваш дом снизу, а не сверху. Пока знак на воротах висит, люди будут думать только одно: «там, за стеной, сидят смутители, которые нас продают за свои высокие мысли».
Он указал на окно, через которое чуть видна была створка ворот.
– Сотрите знак при всех, – сказал он. – Не украдкой, не ночью. Днём, при людях. И скажите вслух, что ваш дом не принадлежит ни одной тайной силе – ни сверху, ни снизу.
Он перевёл взгляд на башню.
– А потом… потом я попрошу вас ещё об одном. Но сперва – это.
Варвара задумалась. В её лице не было ни страха, ни раздражения. Только тяжёлый счёт.
– Вы понимаете, отец, – сказала она медленно, – что если я прикажу стереть знак, многие решат, будто я испугалась?
– Пусть думают, что хотят, – ответил он. – Пусть каждый увидит своё. Главное – вы покажете, что не бежите в хвост чужим чертам. Что круг вашей жизни и вашей власти вам не кто-то сверху или снизу чертит, а вы сами.
Вмешался Лоран:
– Если мы сотрём знак, – сказал он, – люди решат, что мы отрекаемся от всего, что уже сделано. Что мы отказываемся от их общего гнева, который мы же подняли. Они скажут: «барыня испугалась, барыня нас сдала».
– А если не сотрёте, – отозвался Гавриил, – другие скажут: «барыня сошла с пути, барыня связалась с бесами». Вы уже не в том положении, чтобы прожить без чужих слов.
Он посмотрел прямо на Варвару.
– Вы хотели, чтобы ваш дом был передним краем века, – сказал он. – Так вот он и пришёл. Век редко спрашивает: «как вам удобнее выглядеть?» Он просто ставит к выбору, каждый из которых неприятен.
Варвара всё так же молчала. Я видел, как у неё под подбородком нервно дернулась жилка.
Наконец она кивнула.
– Хорошо, – сказала она. – Завтра, в полдень, прикажу собрать людей у ворот. И при всех мы смоем этот знак. Но не молча.
Она перевела взгляд на меня:
– Ты запишешь мои слова, – сказала. – А потом… потом мы решим, что делать с башней.
– Что вы имеете в виду? – резко спросил Кирило.
– Потом, мастер, – ответила она. – Не сейчас.
Наутро двор был полон.
По приказу Варвары всех, кто жил в доме и вокруг, – слуг, конюхов, прачек, работников, даже тех, кто жил в ближайшей деревне, – позвали к воротам. Пришли и чужие: те, кто уже привык ходить глядеть на наш чёрный знак, как на диво.
Солнце стояло высоко, без туч. Знак на створке казался ещё чернее, резче.
Перед воротами поставили большую бочку с водой. Рядом – ведро, щётки, тряпки. Над бочкой стоял привратник, бледный, как полотно: ему предстояло стирать.
На ступеньку крыльца вышла Варвара.
Она была без украшений, в простом тёмном платье, только на плечах – лёгкая накидка. Лицо – спокойное, но глаза внимательные.
– Люди, – сказала она, и голос её сразу накрыл двор. – На моих воротах появился знак. Не я его рисовала, не вы. Его нарисовали те, кто предпочитает ночную краску дневному слову.
Она махнула в сторону чёрного круга.
– Этот знак – круг, перечёркнутый линией, – продолжила она. – Говорят, круг – это весь наш мир, наша привычная жизнь. Черта – отказ от неё. Я не знаю, кто именно хотел, чтобы мой дом стал для вас знаком отказа.
Она коротко усмехнулась.
– Я и сама не во всём довольна этим миром, – сказала. – И я тоже хочу, чтобы многое в нём изменилось. Но я не хочу, чтобы этим знаком отмечали мой дом так, будто отныне он принадлежит только одной силе – будь то бунт или власть, вера или разум.
Она ступила на одну ступень вниз.
– Этот дом – место, где спорят, – сказала она. – Здесь спорят о законах, о вере, о небе, о хлебе, о справедливости. Иногда – до крика, иногда – до слёз. И я не стану закрывать эти споры. Но я не хочу, чтобы вы думали, будто чужая черта на воротах важнее, чем мои слова.
Она повернулась к привратнику.
– Смой, – приказала она. – Но не как чужой страх, а как чужую подпись под моим именем.
Привратник подхватил ведро, подошёл к воротам. Люди потянулись шеями.
Он облил створку водой. Чёрная краска сначала только поблёкла, потекла вниз. Потом, под щёткой, начала сходить. Круг расползался, линия ломалась. Вода капала на землю, становясь серой.
Пока он тёр, Варвара продолжала:
– Я знаю, – сказала она, – что многие из вас видели такие знаки на чужих дверях. У сборщиков, у торговцев, у ремесленников. Вы не всегда понимаете, что они значат. Одни говорят – знак борьбы. Другие – знак смуты. Третьи – знак нового времени.
Она обвела взглядом лица.
– Я не запрещаю вам рисовать их на своих дверях, – сказала. – Если ваша совесть считает, что так надо – рисуйте. Но на моих воротах знак будет только один: то, что вы видите сейчас.
Она указала наверх, на герб её рода – вырезанный в камне щит с тремя птицами.
– Я отвечаю за этот дом не перед ночными рисовальщиками, а перед Богом и перед своей совестью, – сказала она. – И если когда-нибудь я решу, что этот дом должен стать домом бунта или домом нового порядка, я скажу это вам сама. Не через краску, а словами.
Когда знак смыли, на створке остался только мутный круглый след, как шрам после ожога.
Во дворе послышался смешанный гул: кто-то облегчённо вздохнул, кто-то, наоборот, хмыкнул с недовольством, кто-то прошептал: «испугалась».
Отец Гавриил стоял в стороне, молча. Лицо у него было напряжённое, но в глазах мелькнула тихая отрада.
– Это первый шаг, – сказал он потом Варваре. – Люди должны видеть, что вы не прячете лица и ворот.
– А второй? – спросила она.
Он кивнул в сторону башни.
– Там, – сказал он. – Башня ваша слишком долго смотрела только вверх. Пора, чтобы она хоть раз посмотрела вниз.
Вечером, когда люди разошлись, а створки высохли, мы снова собрались в библиотеке.
На этот раз разговор шёл только о башне.
– Что он хочет? – первым спросил Кирило. – Чтобы мы разобрали моё детище по камню?
Он говорил не так грубо, как обычно. Это было отчаяние человека, чьё единственное детище – каменное и железное.
– Нет, – ответила Варвара. – Он хочет, чтобы мы открыли её для людей. Не только для учёных, моряков и писцов, но и для тех, кто живёт под башней.
Она посмотрела на нас.
– Он говорит: пока башня закрыта, внизу будут говорить о ней всё, что придёт в голову. Как только пустим их внутрь, часть бесов уйдёт.
– Часть придёт, – мрачно сказал Лоран. – Толпа в башне – это ещё один зверь.
– Но если мы не пустим, – возразил Стефан, – то сами станем для них зверями. Лучше показать, чем прятать.
Он вздохнул.
– Когда человек своими глазами видит трубы, шестерни и линзы, он меньше склонен думать, что там сидит чёрт. Пока же всё это только в слухах – любая нелепость кажется правдой.
Кирило фыркнул.
– Я строил башню для меры, а не для шествий, – сказал он. – В моих железках нет места для толпы. Они тонкие. Один дурак с тяжёлой рукой – и все наши годы к чёрту.
– Ты сам говорил, – напомнил Никандро, – что железо похоже на людей: умеет дрожать, умеет бояться, умеет ломаться. Вот и проверим, кто крепче – твои шестерни или наши соседи.
Я молчал. Внутри меня спорили два голоса. Один шептал: «Откройте, пусть все увидят, что вы не колдуете». Другой отвечал: «Откройте – и вы никогда уже не сможете закрыть».
– Мы можем сделать иначе, – неожиданно сказал Ионас. – Не устраивать шествие наверх, а устроить вниз.
– Что ты имеешь в виду? – спросила Варвара.
– Пусть башня спустится к людям, – сказал он. – Не в камне, в слове. Мы покажем им не всё, но многое: опишем, как устроен прибор, как он дрожит, когда в небе что-то происходит. Сравним с тем, что они видят и слышат сами.
Он посмотрел на Лорана, на Стефана.
– Вы умеете говорить так, чтобы вас слушали и не только при свечах, – сказал. – Пусть отец Гавриил соберёт людей у храма, а вы выйдете и скажете им: «вот что мы делаем в башне, вот что видим, вот где граница между измерением и чудом».
Он усмехнулся.
– А башня потом уже будет не только «их», но и «наша», – добавил. – Не чужой камень, а часть общего дела. Тогда знак на воротах, может, и вовсе лишним покажется.
Это была дерзкая мысль: выйти к людям с тем, что до сих пор считалось делом «верхов». Но всё в нашем доме уже двигалось к тому, чтобы «верх» и «низ» перестали быть только словами.
Варвара долго молчала. Потом сказала:
– Хорошо. Сделаем и так, и так.
Она посмотрела на Кирило:
– Башню мы покажем не толпе сразу, а по одному. Тем, кого сами выберем: старостам, тем, кто умеет читать, тем, кто ведёт других. Пусть увидят железо, трубы, записи. Пусть узнают, что там – не чёрт, не святой, а мера.
Она перевела взгляд на Стефана:
– А ты с Лораном и отцом Гавриилом выйдешь к людям у храма. И расскажешь, что здесь делается. Только не как «учёный», а как человек. Без хитрых слов.
– Так мы впустим ещё больше демонов, – пробормотал Лоран.
– Или вытащим наружу тех, что уже сидят в головах, – возразил Стефан. – Лучше они кричат при нас, чем втихую.
Несколько дней готовились к этому «схождению башни».
Кирило, ворча, убирал из верхних помещений всё лишнее: тайные чертежи, неоконченные модели, странные сосуды с ржавой стружкой и маслом. Оставил только главное: железного зверя, трубы, таблицы с отметками.
– Пусть видят, что здесь не прячут чьё-то сердце в ящик, – бурчал он. – Хотя для меня сердце как раз вот тут.
И похлопывал по железу.
Стефан составлял речь, ругая себя за каждое слишком красивое слово. Он рвал листы, бросал в камин, снова писал.
– Я привык говорить так, как удобно уму, – жаловался он. – А теперь надо говорить так, как может выдержать простая грудь.
Лоран же всё это время ходил молчаливее обычного. Я видел, как он вечером долго смотрит на очищенную створку ворот, на мутное пятно, оставшееся после знака. Казалось, он примеряет к этой пустоте новый знак – не чертой, а мыслью.
– Вы с этим согласны? – не выдержал я как-то вечером, когда мы остались с ним вдвоём в галерее.
– С чем? – спросил он, не отрывая взгляда от двора.
– С тем, что мы как бы сдаём позиции, – сказал я. – Стираем знак, открываем башню, идём к людям с объяснениями, как провинившиеся.
Я чувствовал себя дерзким, но вопросы давно свербели.
Он усмехнулся.
– Ты всё ещё думаешь в словах «выигрыш» и «проигрыш», – сказал он. – Дитячья мера.
Он обернулся ко мне.
– В настоящей игре, – продолжил он, – иногда важнее не нажим, а выдержка. Иногда полезно самому отступить на шаг, чтобы увидеть, куда течёт река.
Он кивнул в сторону храма, крыша которого виднелась вдали.
– Сейчас люди смотрят туда и сюда, – сказал он. – И спрашивают: «кто врёт?» Если мы замкнёмся, они решат за нас. Если мы выйдем, у нас будет шанс хоть немного повернуть их вопрос.
Он на мгновение стал серьёзен, без привычного холодка в голосе.
– Не думай, что я вдруг стал мягче, – сказал он. – Я всё так же хочу нового порядка. Но я не хочу, чтобы меня сожгли вместе с первым возом глупцов. Для этого иногда приходится сгибаться.
Я молчал. Слишком многое в его словах звучало одновременно честно и опасно.
День «схождения башни» назначили на воскресенье.
Утром народ и так шёл в город – к рынку, к храму. Отец Гавриил договорился: после службы не отпускать людей по домам сразу, а попросить их остаться на площади.
Я пошёл туда вместе с Стефаном, Лораном и Варварой. Никандро и Кирило остались в башне – ждать первых гостей наверх.
Площадь перед храмом была полна. Мужики, бабы, дети, старики. Одни – в лучшем, что у них было; другие – в том же, в чём жили каждый день.
Над ними – колокольня. Там висел тот самый колокол, который Гавриил обещал использовать не только для зова к молитве, но и для зова к разговору.
Он и в самом деле позвонил в него иначе: не привычным размеренным звоном, а двумя длинными, тяжёлыми ударами.
Люди остановились.
Отец Гавриил вышел на ступени храма.
– Люди, – сказал он, – вы знаете меня. Я много лет кричу вам одно и то же. Сегодня говорить буду не один.
Он кивнул в сторону Варвары, Стефана, Лорана.
– Эти люди живут рядом с вами, – продолжил он. – Их дом выше ваших, их башня выше нашей колокольни. Из-за них и неба, и земли в наших краях стало неспокойнее. Вы ругаете их на кухнях, шепчетесь на постоялых дворах, рисуете на их воротах круги. Сегодня у вас есть право сказать им в лицо, что вы думаете. И услышать от них, что они делают.
Он отошёл в сторону.
Варвара вышла вперёд.
– Вы меня знаете, – сказала она. – Я здесь родилась, здесь жила всегда. Я не святая и не колдунья. Я просто женщина, которая получила от предков землю и дом и должна этим управлять.
Она обвела взглядом лица.
– В моём доме есть башня, – сказала она. – В ней люди глядят на небо и слушают, как оно дрожит. В моём доме есть те, кто пишет листы, которые ходят по вашим городам. И есть те, кто ругает власть, защищает власть, спорит с властью. Это правда.
Она коротко вздохнула.