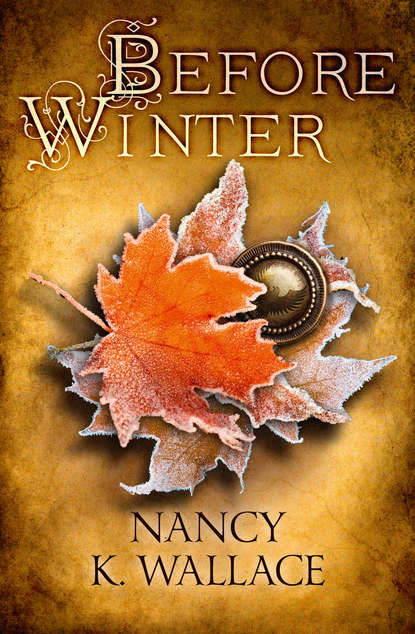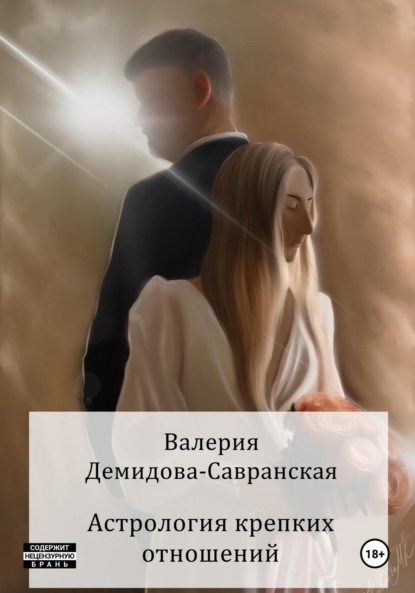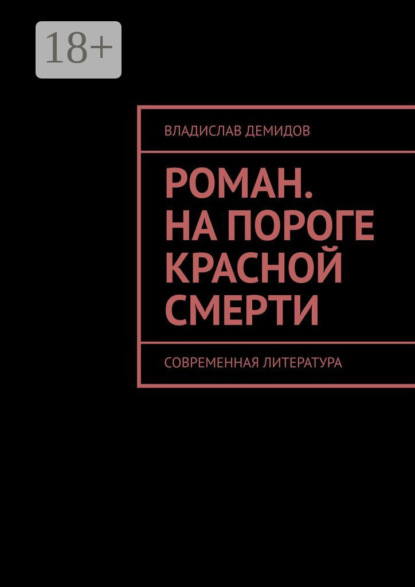- -
- 100%
- +
– Но я не хочу, чтобы вы думали, будто мы делаем это за вашей спиной, – сказала она. – Потому я пришла сюда.
И отступила на шаг.
Вперёд вышел Стефан.
Я впервые видел его таким – без длинных вступлений, без книжных оборотов.
– Я много лет говорил вам издалека, – начал он. – Из залов, где чистые скатерти и полы. Писал книги, которые далеко не все читали. Это была моя ошибка.
Он посмотрел поверх голов, куда-то туда, где виднелась наша башня.
– Мы ошиблись, – продолжил он, – когда решили, что можно говорить о человеке только между книгами и трубами. В это время вы жили здесь: пахали, торговали, терпели. А наши слова гуляли сами по себе – как птицы, вылетевшие из клетки.
Он поднял руку.
– Если вы хотите ругать кого-то за то, что в трёх городах пролилась кровь, ругайте и меня. Я дал этим словам язык. Я не знал, что они так далеко полетят, но это не оправдание.
Он опустил руку.
– Но если вы думаете, что всё зло только от нас, в башне, – вы ошибаетесь, – сказал он. – Всё, что мы делаем, рождено тем же, чем живёте вы: вашим гневом, вашей усталостью, вашими мечтами. Мы лишь дали этому форму. Без нас кто-нибудь другой дал бы худшую.
Люди шептались. Кто-то кивал, кто-то мрачнел.
Вперёд вышел Лоран.
– Я не стану говорить, что невиновен, – сказал он сразу. – Я виновен в том, что много лет думал о людях как о цифрах. Я считал, сколько их нужно, чтобы перевернуть порядок, и редко думал о каждом.
Он на мгновение замолчал.
– Но я узнал одну вещь, – продолжил он. – Без меры всё равно не обойтись. Если не мы будем считать, сколько стоит слово, это сделают другие – те, кто считает только монеты.
Он шагнул ближе к людям.
– Вы видите знак на воротах и думаете: «там живут чужие». На самом деле мы такие же, как вы. У нас те же страхи, та же усталость, та же злость. Разница в том, что у нас есть башня и книги, а у вас – поле и лавка. Но к небу мы все одинаково близки и одинаково далеки.
Он перевёл дух.
– Демоны, о которых вы шепчетесь ночами, – не рогатые. Это наши общие мысли, которые мы сами же подкармливаем, – сказал он. – Если мы будем молчать, они будут расти в темноте. Если будем говорить, у нас хоть какой-то шанс с ними договориться.
Это было, пожалуй, самое честное, что я слышал от него.
После их слов люди стали задавать вопросы. Сначала робко, потом смелее.
– Это правда, что ваша башня дёргает небо? – спросил один.
– Нет, – ответил Кирило, которого специально привели снизу. – Это небо дёргает мою башню. Я всего лишь сделал железо, которое дрожит, когда наверху что-то меняется.
Он прикоснулся к груди.
– Я не знаю, откуда приходят эти толчки, – сказал он. – Может, от ваших молитв, может, от ваших руганей, может, от ваших страхов. По крайней мере, так выходит по счёту.
– А эти круги с чертой… вы их придумали? – крикнула женщина из толпы.
– Нет, – ответила Варвара. – Их рисуют те, кто хочет, чтобы мир стал другим, но боится назвать, каким. Мы лишь дали им слова. Знак – их.
– Почему вы не боитесь, что вас сожгут за всё это? – спросил кто-то.
– Боюсь, – честно сказала Варвара. – Но ещё больше боюсь прожить жизнь, делая вид, будто ничего не происходит.
Эта «проповедь башни» не сделала нас ни любимцами народа, ни его врагами до конца. Но лица стали меняться: некоторые смотрели теперь на наш дом не только с завистью и страхом, но и с любопытством.
К вечеру того дня к башне пришли трое: староста ближайшей деревни, ремесленник из города и тот самый хозяин хлебной лавки, у которого я видел красный знак.
Они поднялись наверх, увидели железного зверя, потрогали трубы, посмотрели на таблицы.
– И это всё? – спросил хлебник. – Нет ни чёрных свечей, ни книг на непонятном языке?
– Есть только железо и числа, – вздохнул Кирило. – А чудеса вы додумывали сами.
– Чудес, – отозвался староста, – нам, может, и не надо. Нам бы меры да правды.
На что Стефан тихо заметил:
– Мера без правды – новый кнут. Правда без меры – новый пожар. Мы здесь пытаемся между этим ходить. Не всегда ровно.
Чем больше мы открывались, тем сильнее я чувствовал: мы только раздвинули дверцы, а не закрыли их. Сквозняк века пошёл через дом свободнее.
Первые дни после «схождения башни» прошли внешне спокойно. Народ ходил по своим делам, в трактирах больше говорили о ценах на соль и скорой зиме, чем о башне и демонах.
Но спокойствие было странное – как вода перед тем, как её начнут грести вёслами.
По ночам над домом не происходило ничего явного: не было ни мутных пятен, ни светящихся нитей. Железный зверь Кирило гудел ровно. Птицы спали как положено птицам, кони не бились в стойлах.
И всё-таки что-то изменилось.
Это «что-то» я впервые заметил в мелочи.
Шёл по двору – и увидел, как мальчишка из прислуги рисует углём на камне круг. Не тот, с чертой, а просто круг. Рисует, прищурившись, старательно.
– Что это у тебя? – спросил я.
Он смутился, но руку не убрал.
– Да так, – пробормотал. – Просто… смотрю, у всех теперь круги какие-то. У сборщика – с линией, у господских ворот был, теперь стерли. В городе есть. А у нас во дворе – нет. Вот и подумал: почему бы не нарисовать, пока никто не видит.
– А что круг значит? – спросил я нарочно просто.
Он помолчал, покрутил в руках обломок угля.
– Не знаю, – сказал наконец. – Но, кажется, это теперь значит, что мы тоже кого-то считаем. Не только нас считают.
И, сказав, испугался собственных слов, быстро размазал рисунок подошвой.
Я пошёл дальше с тяжёлым чувством. Круг стал жить сам по себе, даже без черты.
В те дни особенно заметно изменился отец Гавриил.
Он, казалось, получил странное облегчение от того, что заставил нас смыть знак и выйти к людям. Но облегчение это было с привкусом новой заботы.
Он стал чаще заезжать в дом. Не как сановник, не как надзиратель – как человек, который сам ещё не уверен, на чьей он стороне, но не хочет отпускать нас с глаз.
Иногда мы встречались с ним в саду – без свиты, без слушателей.
– Скажу тебе честно, – сказал он мне как-то, когда мы шли между голыми яблонями, – я и сам не знаю, что страшнее: когда все сидят по своим норам и верят в своё маленькое чудо, или когда вы, с башней, будете учить их верить в одно большое.
Он поправил подрясник.
– Но я точно знаю, – продолжил он, – что ложь сверху всегда тяжелее, чем ложь снизу. Потому в ваши речи я всматриваюсь внимательнее, чем в трактирные.
Он посмотрел на меня.
– Ты у них вроде как глаз да ухо, – сказал он. – Писец. Следи не только за словом, но и за тем, как от него пахнет. Истина тоже бывает с душком.
Мне почему-то стало неловко, будто он поймал меня на том, что я сам уже давно чувствовал, но не решался назвать.
Однажды вечером к нам в дом приехал вестник от верховной власти – не тот сухой чиновник, а иной: человек в тёмном, с серебряной цепью на груди, с гербом княжеского дома на перстне.
Его усадили в малую гостиную. Варвара, судья, Лоран, Стефан – все были там. Я сидел, как всегда, в тени.
– Наш господин, – мягко, но твёрдо сказал посланный, – слышал много о ваших занятиях. О башне, о письмах, о слухах, идущих из ваших мест.
Он улыбнулся уголком рта.
– В столице, сударыня, любят знать, откуда веет, прежде чем затягивать воротник потуже, – сказал он. – Наш господин не против учёных спорщиков. Иногда они полезнее лестных придворных. Но он не любит, когда спорщики заводят вокруг себя толпу.
– Толпу мы к себе не зовём, – спокойно ответила Варвара. – Толпа сама идёт к тем, кто хоть как-то пытается назвать то, что все чувствуют.
Посланный чуть склонил голову.
– Тем важнее, – сказал он, – чтобы люди вроде вас не забывали: мудрость и власть – вещи разные. Ваша башня пусть мерит небо, никто её за это не тронет. Но если она станет колоколом смуты, её придётся рассматривать уже не как украшение владения, а как орудие.
Он на мгновение замолчал.
– Наш господин, – продолжил он, – не хочет ломать вашу башню. Напротив, он думает: не использовать ли её для общего блага?
– Общего чьего? – не удержался Стефан. – Земли? Власти? Людей?
– Всё вместе, – спокойно ответил посланный. – Мы вступаем в век, когда нельзя править только мечом. Нужны глаза, которые видят дальше. Уши, которые слышат дрожание не только в людях, но и в эфире.
Он посмотрел на Лорана.
– В столице есть люди, которые слышали о вас, мастер, – сказал он. – О ваших записках, о ваших мыслях о «общем порядке». Некоторые считают вас опасным мечтателем. Другие – полезным смутителем.
Он улыбнулся.
– Наш господин мыслит трезво: лучше иметь таких людей при себе, чем против себя, – сказал он. – Потому предложение простое. Башня, ваши книги, ваши приборы – все могут служить княжеству. Вы будете первым советом по делам мира и эфира. Но – под княжьим знаком. Не под кругом с чертой, не под нищими лозунгами, а под гербом.
Повисло молчание. Предложение было заманчиво и страшно одновременно.
– И цена? – тихо спросила Варвара.
– Цена проста, – ответил посланный. – Ваш дом официально становится «домом наблюдения». Всё, что вы измеряете, записываете, знаете, вы будете сообщать не только сюда, на полки, но и туда, куда укажут.
Он посмотрел на меня – впервые.
– Ваша тетрадь, юноша, – сказал он, – может однажды оказаться полезней целого полка.
Он обернулся к Лорану.
– Ваши листы, мастер, – продолжил, – могут разойтись не только по трактирным столам, но и по писцам княжеских судов.
Наконец – к Стефану:
– Ваши речи, сударь философ, могут прозвучать не только в этой библиотеке, но и в большом зале, где решают, кто завтра будет собирать налоги, а кто – головы.
Он сложил руки.
– Взамен вы получите одно: защиту, – сказал он. – Пока башня под гербом, ни один местный служака не посмеет стучать в ваши двери с дубиной. Любой знак на ваших воротах будет считаться оскорблением не только вас, но и княжеского дома.
Судья чуть заметно дёрнулся: он понимал цену таких договоров.
– А если мы откажемся? – спокойно спросила Варвара.
Посланный улыбнулся шире, но улыбка стала холодной.
– Тогда, сударыня, вы будете и дальше жить, как жили, – сказал он. – Только без нашей защиты. А в смутные времена дома без покровителя становятся то местами паломничества, то удобными жертвенниками.
Он поднялся.
– Подумайте, – сказал он. – Я останусь здесь на три дня. Потом уеду. Ответ повезу в столицу таким, какой он будет.
Эти три дня стали для меня, пожалуй, одними из самых тяжёлых. Не потому, что кто-то кричал или ломал мебель. Напротив: всё было внешне размеренно, тихо, почти вежливо.
Но под этой вежливостью чувствовалась пропасть.
Варвара молчала больше обычного, проводя часы у окна или в саду. Стефан ходил, как человек, который не знает, какому суду его поведут. Лоран, наоборот, ожил и стал резвее, чем раньше: видно, он уже мысленно строил свои сети на новый лад, если башня станет центром не только местной, но и княжьей паутины.
– Вы разве не понимаете, – шептал он мне вечером, – что это шанс? Если мы получим руку сверху, мы сможем направить весь этот поток не глупцам, а тем, кто способен считать.
Он стучал пальцами по столу.
– Представь, – говорил он, – один дом, одна башня, но связи во все концы княжества. Мы будем знать, где дрожит эфир, где собираются люди, где слова вот-вот превратятся в камни. Мы сможем тушить и зажигать осознанно.
– Или князь сможет, – тихо возражал я. – А мы будем только его ушами.
Он на мгновение замолкал, затем снова говорил:
– Не забывай, – напоминал он, – что всякий сильный вынужден слушать. Даже князь. Кто держит его ухо, тот держит и часть руки.
Стефан думал иначе.
– Я всю жизнь избегал прямой службы, – сказал он мне в ту пору, когда мы сидели в маленьком кабинете среди его книг. – Мне легче было спорить дальше от печати и казны. Свобода недорогая, зато чистая.
Он покрутил в пальцах перо.
– Но теперь что? – продолжил он. – Либо мы принимаем княжий знак над башней, и тогда все наши игры с эфиром становятся частью большой счётной книги власти. Либо остаёмся одни, и нас могут раздавить под пятой сабо́й толпы или сапога́ солдат.
Он усмехнулся устало.
– Ты видишь, мальчик, – сказал он, – как заманчиво быть зрителем? Но век наш уже не верит зрителям. Всякий, кто видит много, становится либо советником, либо подсудимым. Среднего не оставили.
Я слушал и понимал: перед нами не просто выбор между «да» и «нет», а развилка, на которой демоны верхнего моря уже потирают свои невидимые ладони. И при любом ответе они найдут себе корм.
Решающий разговор состоялся на третий день, вечером.
Посланный князя сидел в большой гостиной, как хозяин в ожидании гостей. Лицо его было невозмутимым, как у игрока, который уверен, что карты всё равно у него.
Варвара, Стефан, Лоран, судья, отец Гавриил, Никандро, Кирило, Ионас – все были там. Меня, как обычно, не прогнали, а оставили в тени.
– Ну что ж, – сказал посланный, когда все расселись. – Слушаю вас.
Варвара поднялась.
– Наш дом не отказывается служить земле, – начала она. – Мы и без ваших слов знаем, что небо и люди не существуют отдельно от власти. Но и делаться простым пристяжным в княжьей упряжке мы не можем.
Она выдержала паузу.
– Мы согласны делиться тем, что знаем, – продолжила она. – Записями о дрожании эфира, сведениями о том, где наши приборы чувствуют натяг. Но только на одних условиях.
– Каких же? – чуть приподнял бровь посланный.
– Во-первых, – сказала Варвара, – все сведения, которые мы сообщаем, остаются не только у вас, но и у нас. Мы ведём собственную книгу. Если когда-нибудь выяснится, что власть использует наши меры только для подавления всякой жизни, а не только явной смуты, мы оставляем за собой право прекратить сообщение.
– Сами решите? – вкрадчиво уточнил он.
– Мы, – твёрдо ответила она. – Этот дом – не казённая конюшня.
Она перевела дух.
– Во-вторых, – продолжила, – никакой человек не может быть осуждён только потому, что железо в нашей башне дрогнуло. Прибор показывает дрожь, но не вину. Если начнут ссылаться на наши стрелки, чтобы оправдать казни, мы закроем башню.
Посланный чуть улыбнулся.
– Вы ставите условия, сударыня, будто сидите по ту сторону стола, – сказал он мягко. – Век редкий.
– Век редкий, – кивнул Стефан. – И стол, за которым мы все сидим, один. Если вы перевернёте его только на одну сторону, он всё равно ударит по всем.
– В-третьих, – вмешался Лоран, – нам нужен доступ к тем сведениям, что собирает власть. Не по милости, а по договору. Если мы будем служить вашими глазами и ушами, вы должны позволить нам хоть иногда говорить не только вам, но и народу.
Он прищурился.
– Иначе получится, что мы только прикрываем старые грехи новыми словами, – добавил он.
Посланный смотрел на нас с любопытством, как на диковинных зверей.
– Вы хотите многого, – заметил он. – Почти так же многого, как я хотел бы от вас.
Он приложил руку к груди.
– Я не уполномочен отвечать за господина во всём, – сказал он. – Но могу сказать одно. Власть привыкла брать, не отдавая. Это правда. Но наша власть уже начала чувствовать, что век меняется. Если она совсем не уступит, её сметут те, кто хуже вас.
Он улыбнулся уже теплее.
– Я донесу ваши условия, – пообещал он. – И добавлю от себя: лучше иметь дело с теми, кто честно ставит границы, чем с теми, кто улыбается и кивает, а потом делает в подвалах своё.
Он поднялся.
– Ответ я привезу не скоро, – сказал он. – Пока же живите, как жили. Но знайте: теперь на вашу башню смотрят не только соседи, но и столица. И то, что вы там делаете, станет одним из оснований того, каким будет наш век.
Он ушёл, оставив нас с этим странным «пока».
Ночью после его отъезда железный зверь в башне снова дрогнул.
Не резко, как в ночь страшного пятна, не тихо, как при обычных смутах. Стрелка чуть-чуть ушла в сторону, едва заметно. Как будто верхнее море вздохнуло.
– Это что? – спросил я Кирило.
Он пожал плечами.
– Может быть, – сказал он, – где-то кто-то ещё сидит за таким же столом и решает, кому служить: себе, власти или всем сразу.
Он нахмурился.
– А может, это просто ветер, – добавил он. – Мы всё больше привыкаем видеть в каждом толчке знак.
– Не только мы, – тихо сказал я. – Внизу теперь тоже видят.
Я подумал о мальчишке, рисующем круги, о хлебнике с красным знаком, о женщине-мяснице, написавшей нам письмо. О всех тех, чьи мысли, страхи и надежды теперь затягивались в одну невидимую сеть.
Повествование нашего века входила в ту пору, когда всё ещё можно было назвать «переходом». Ничего ещё окончательно не рухнуло, не зацементировалось.
Но уже чувствовалось: скоро придёт время, когда каждая нерешительность будет грехом. Когда выбирать стороны придётся не в библиотеке, а на площади.
И демоны верхнего моря, раз уж мы их разбудили, не собирались ложиться обратно спать. Они ходили над нами, как сторожа, и ждали: кто же первым решится назвать их по имени – не в книгах, а перед людьми.
Письмо из столицы не приходило долго.
Настолько долго, что посланный князя перестал казаться живым человеком и превратился в тень, мелькнувшую среди наших дней. Слова его ещё стояли в ушах, но сама фигура выветрилась, как запах дорогих духов.
Жизнь понемногу вернулась к своему ходу – только этот ход уже шёл по новой колее.
Первым делом изменились дороги.
Раньше к нашему дому тянулись в основном два рода людей: нуждающиеся в покровительстве и любопытные до чтения. Теперь подъезжать стали и третьи – те, кого я про себя назвал людьми знака.
Они не всегда носили знак на груди или шляпе. Чаще – в глазах.
Это были молодые ремесленники, подмастерья, сыновья богатых лавочников, несколько разорившихся дворян, пара учёных, не сумевших ужиться ни в городе, ни при дворе. Они приезжали будто бы по делам: кто в архив, кто к судьям, кто к Варваре с просьбой за кого-то. Но я видел, как многие из них задерживали взгляд на башне, на створках ворот, там, где недавно был круг с чертой.
Некоторые и спрашивали прямо:
– Это у вас… тот самый дом, откуда пошли листы?
Говорили негромко, без почтения, но и без страха. В их голосах было то особое напряжение, когда человек уже избрал себе веру, но ещё ищет, кому её высказать.
Лоран, как водится, первый их заметил.
Он вообще умел узнавать в толпе нужные лица так же быстро, как опытный торговец зерном узнаёт на глаз влажность и сорт.
Однажды я вошёл в библиотеку и увидел, что там сидят четверо незнакомых мне молодых людей. Одежда у всех разная – от хорошего сукна до поношенного кафтанчика, – а лицо у каждого словно из одного корня: глаза горят, губы сжаты, подбородки упрямые.
Лоран ходил перед ними взад-вперёд, как преподаватель перед учениками, только вместо доски – окна с видом на двор.
– Вы говорите, – говорил он, – что мир сгнил. Что вокруг одна ложь: в храмах, в палатах, в домах управителей. Вы правы наполовину. Ложь есть. Но гниль – не в том, что мир плох, а в том, что он раздроблен.
Он ткнул пальцем в воздух.
– Здесь – одни живут по своим законам, там – другие, наверху – третьи. Каждый держит свой круг, никого не впуская. Я же говорю: пора рисовать другой знак.
Один из юношей не выдержал:
– Не круг с чертой? – спросил он. – Его-то теперь в каждом трактире рисуют.
– Круг с чертой – детское неумение сказать словами, – отмахнулся Лоран. – Это «нет» без «да». Слом без замысла. Я говорю о другом.
Он обернулся к окну, там как раз мелькнул петух.
– Представьте колесо, – сказал он. – В центре – малая часть, наружу – множество спиц. Пока каждая спица живёт сама по себе, повозка развалится. Но когда все спицы держат одну ступицу, колесо катится, даже по ямам.
Он снова повернулся к ним.
– Я хочу, чтобы вы стали спицами, – сказал он. – Не камнями и не молниями.
Юноша в лучшем камзоле, тот, у которого от роду был вид ученика, спросил:
– И кто будет в центре этого колеса?
Лоран чуть улыбнулся.
– Не один человек, – сказал он. – Не я и не князь. Закон. Новый порядок, где все обязаны другим столько же, сколько себе.
Он наклонился вперёд.
– Для этого нужны те, кто умеет держать связь, – продолжил он. – Люди знака. Не того, что на воротах, а того, что в словах. Вы будете в своих городах и сёлах теми, кто умеет и читать, и говорить, и слушать. Вы будете ловить настроение, ещё до того, как оно прорвётся в драку. Вы будете знать, где рождается новая мысль, и донесёте её сюда.
Он выпрямился.
– Взамен вы получите одно: будете стоять на шаг ближе к тому, где решают, каким станет следующий век, – сказал он. – Не у всякого есть такая доля.
Я слушал и понимал: вот они, зародыши того, что позже назовут «кружками», «союзами», «общинами». Пока – без громких имен, без печатей. Но по сути – то же самое: сеть людей, связанных не кровью и не серебром, а общей мыслью.
Стефан относился ко всему этому с тяжёлым недоверием.
Однажды, когда юные «люди знака» разошлись, он задержал Лорана в коридоре.
– Ты снова строишь лестницу, – сказал он. – Только теперь не из книг, а из живых.
– Лестницы всегда строили из живых, – не смутился Лоран. – Вопрос только в том, куда по ним поднимаются: к виселице или к новому закону.
– Ты слишком уверен, что знаешь, куда ведёт твоя, – устало возразил Стефан. – А мир любит сдвигать лестницы, когда люди уже поднялись.
Он опёрся о стену.
– Помнишь, как в трёх городках люди вышли по твоим листам? – спросил он. – Ты хотел узнать, где порог. Узнал ли?
– Узнал, что порога нет, – тихо ответил Лоран. – Есть только привыкание. В первый раз два мёртвых – ужас. В десятый раз – уже число в записи.
Он посмотрел прямо в глаза Стефану.
– Ты сам говорил, что любовался чужими бедами на страницах, как зритель, – добавил он. – Я хотя бы признаю, что режиссёр.
Стефан поморщился, как от зубной боли.
– В том-то и беда, – сказал он. – Ты слишком радостно принимаешь на себя имя палача, даже если пока носишь перо вместо топора.
Отец Гавриил «людей знака» чуял носом.
Он видел, как в трактирах возникают тихие кружки. Как после службы некоторые не сразу расходятся, а отходят в сторону, собираются пятёрками, десятками, и там уже говорят не о том, что звучало со амвона, а о «новом порядке», «общей мере», «людской доле».
У него, со своей стороны, тоже собирался круг.
Это были старики, бабки, несколько солдат на покое, пары мастеров, привыкших держаться старых способов. Они собирались в притворе храма или в избах, читали псалмы, говорили о смирении и наказании. Но даже там, среди воска и ладана, всё чаще звучало новое:
– Мир сошёл с ума. Люди лезут к звёздам и к железу. Надо держаться за старое, а то нас всех унесёт.
Гавриил понимал: просто кричать «назад» уже бесполезно. Век, как волна, не катится вспять.
И потому тоже стал менять речь.
– Не всякое новое – от беса, – говорил он теперь. – Но и не всякий, кто сулит новый хлеб, от Бога.
Он поднимал руку.
– Зло не всегда приходит с ножом, – говорил. – Иногда – с пером. Иногда с железной стрелкой. Иногда с мягкими речами о том, что «никто не будет больше над вами».
Он смотрел на людей.
– В этом мире у нас осталось только одно верное мерило, – говорил. – Не то, что вам обещают, а то, что требуют взамен. Если у вас хотят забрать всю волю, весь язык, всю веру – и взамен обещают только «порядок», бегите. Даже если этот порядок освещён светом новых звёзд.
Он не раз произносил эти слова и в нашем доме, глядя не на простых, а на нас.
А в это время железный зверь продолжал жить своей жизнью.
Он дрожал всё чаще.
Не так бурно, как в ночь страшного пятна, но и не так тихо, как прежде. Стрелка всё чаще отрывалась от привычных отметок и делала небольшие, будто пробные шаги в сторону. Кирило записывал, чертил, соединял даты.
– Смотри, – говорил он мне однажды, показывая доску с метками. – Вот ярмарка в соседнем княжестве – толчок небольшой, ровный. Вот известие о войне на дальних границах – дрожь, но в другом направлении. А вот…
Он ткнул пальцем в ряд свежих царапин.
– Это последние недели, – сказал он. – Вещи странные: ни войн, ни пожаров, ни голода. Зато слухи: здесь кто-то отказался платить старый налог, там – люди перестали приходить к судье, в третьем месте – собрались и сами решили, кому быть старостой, не спрашивая наверху.
Он перевёл дух.
– Железо реагирует не только на кровь, – пробормотал он. – Оно реагирует на сами попытки жить по-другому. Даже если пока всё тихо.