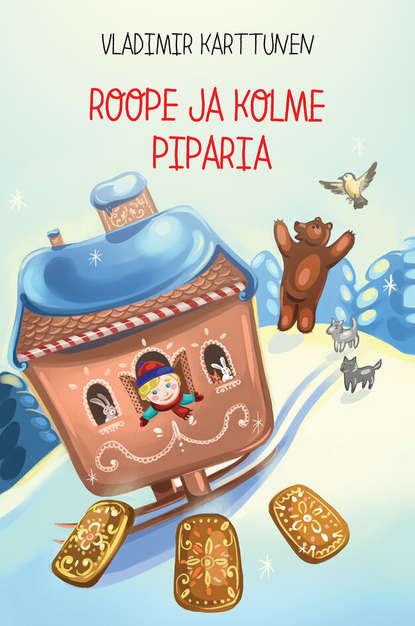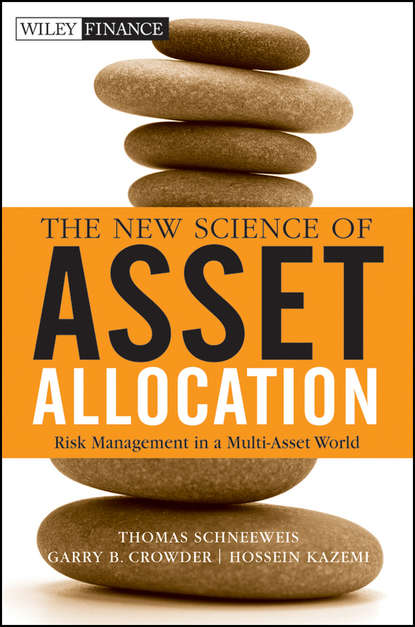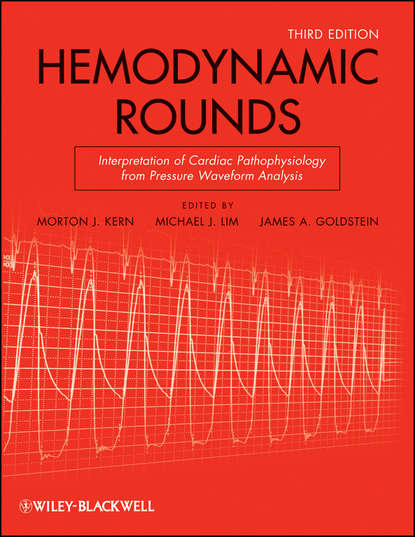- -
- 100%
- +
– Будешь настоящим, когда поймёшь, что там происходит, – тихо сказал он отражению.
На улице воздух оказался влажным и прохладным. Асфальт ещё хранил ночную прохладу, редкие машины тянулись по проспекту, как светлячки.
Он пошёл пешком, энергично, будто каждая ступенька тротуара подталкивала вперёд.
Институт располагался в старом здании, где когда-то была военная часть. Теперь вместо складов боеприпасов – серверные, вместо казарм – кабинеты с досками, покрытыми интегралами и стрелками. Перед входом стояла бетонная плита с названием центра астрофизики и космологии.
На вахте дремал охранник, который узнал его по привычной сумке и усталой походке.
– Рано вы сегодня, сеньор Мехиа, – сказал он, поднимая шлагбаум.
– Космос не согласовал со мной график, – ответил Рафаэль, проходя внутрь.
Лифт скрипнул, довёз его до третьего этажа. Коридоры были пусты, лишь где-то за стеной жужжал кондиционер, а в одной из комнат глухо стучала клавиатура – кто-то из аспирантов тоже решил игнорировать утренние часы сна.
Его кабинет открывался обычным ключом. Внутри пахло бумагой, пылью, чуть-чуть – остывшим металлом. На столе лежали стопки распечаток, пара открытых монографий, у стены стояла доска со схемами.
Он включил свет, компьютер, сел, положил перед собой блокнот.
Сначала вывел на большой экран тот же график, что смотрел на кухне. Затем добавил сверху несколько модельных кривых – разные массы чёрной дыры, разные массы звезды, разные углы обзора. Кривые велись себя как капризные участники ансамбля: каждый стремился сыграть свою мелодию, не слушая остальных.
Его три точки – жалкие, но уже громкие – гуляли по этим линиям, как туристы по чужой карте.
Он нашёл более устраивающую комбинацию: тяжёлая чёрная дыра, звезда по массе близка к солнечной, падение по почти параболической орбите, сильное перераспределение энергии.
Кривая в таком варианте обещала пик светимости, который в логарифмической шкале почти пугал.
– Если это правда, – тихо проговорил Рафаэль, – мы смотрим на одно из самых прожорливых событий такого рода.
Он мысленно достал статистику прошлых TDE: сотни зарегистрированных слабых вспышек, десятки более уверенных случаев, только единицы, претендовавших на рекорд.
Этот кандидат с самого начала вставал отдельной колонкой.
Он поймал себя на том, что ищет глазами оправдание: может быть, всё объясняется гравитационным линзированием, вмешательством массивной галактики на луче зрения. В таком случае наблюдаемая яркость сильно завышена, а реальная энергия выглядит скромнее.
Он открыл программу, которая делала перекрёстные ссылки на каталоги известных линз. Прогнал координаты, дождался ответа.
На экране появилась пустая таблица. Ни одной уверенной линзирующей системы в окрестности.
– Ты серьёзно, – пробормотал он. – Ни единого хорошего линза на помощь?
Было немного даже досадно. Линзирование в подобных ситуациях всегда служило удобным спасательным кругом: «конечно, всё в рамках, просто вам повезло поймать усиленный пример».
Сейчас всё выглядело так, словно природа намеренно убрала из кадра все оправдания.
Он перевёл взгляд на доску. Там, среди старых формул и схем, осталась нарисованная несколько месяцев назад кривая, обведённая маркером. Над ней, шутки ради, было написано: «Хвост, в котором живут демоны».
Речь тогда шла о статистических отклонениях, о событиях, которые в рамках теории должны быть редкими, но не невозможными.
– Ну что, демон, – сказал он доске. – Ты решил показаться?
Компьютер тихо пикнул: пришло новое уведомление.
Лара отправила первую порцию спектральных данных.
Он открыл файл, посмотрел на график потоков по длинам волн.
Широкие, размазанные линии, глубокие провалы, странные плечи в ультрафиолете, подчёркнутое, почти театральное сочетание ширины и яркости.
В подписи Лара добавила: «Это не типичный квазар. Ширина линий безумная, но континуум иной. Похоже на то, чего вы все так ждёте, только с усилителем».
Рафаэль прибавил масштаб, рассмотрел детали.
Каждый пик, каждая впадина были как штрих в почерке неизвестного. Он сравнил с библиотекой предыдущих TDE. Если наложить один на другой, новый объект выглядел как старший, агрессивный брат знакомых феноменов.
Больше энергии, больше ширина линий, больше всего.
Он чувствовал, как по спине пробегают мурашки – не от ужаса, а от ощущения, что плывёт по тонкой границе между комфортной зоной и чем-то более опасным.
В дверь тихо постучали.
– Войдите, – сказал он, не отрывая взгляда от экрана.
В кабинет заглянула Лусия, аспирантка второго года, с вечным хвостиком и толстым свитером, который она не снимала даже летом.
– Вы уже видели? – спросила она, не спрашивая, о чём речь.
– Да, – ответил он. – Кофе, графики, первая истерика. Всё по плану.
Она улыбнулась.
– Я прочла чат. Некоторые уже спорят о том, как будет лучше сформулировать пресс-релиз.
– Пресс-релиз подождёт, – сказал Рафаэль. – Сначала надо понять, не ошиблись ли мы где-нибудь.
– Где вы хотите начать?
Он на секунду задумался.
– С самого неприятного места, – сказал. – Сколько у нас шансов, что всё это – комбинация обычной сверхновой и нашего желания увидеть TDE?
Лусия подошла ближе, глянула на экран.
– Красное смещение, ширина линий, отсутствие длительной предыстории в архиве, – стала она перечислять. – Для сверхновой слишком плавный рост, слишком яркий континуум, да и центр галактики…
– Я знаю, – перебил он мягко. – Но давай всё равно проверим. Построим альтернативную модель, пусть даже заведомо плохую. Тогда совесть будет чище.
Она кивнула, открыла на втором мониторе свой терминал.
Некоторое время в кабинете слышно было только постукивание клавиш и приглушённое гудение системного блока. Солнце за окном поднялось чуть выше, полоска света на подоконнике стала ярче.
Рафаэль временами отрывался от кода и смотрел в окно. Там, за стеклом, располагалась вполне приземлённая реальность: парковка, несколько деревьев, серые стены соседних корпусов, голубое пятно неба.
Несколько человек проходили по двору, не подозревая, что где-то наверху обсуждают событие, которое произошло, когда ни одного из них не существовало даже в виде гипотезы.
Он подумал о том, как часто научные открытия на первых порах похожи на слухи.
Сначала их слышат только внутри узкого круга – несколько десятков людей, которые примерно представляют, что означает необычная линия в спектре или странный наклон на графике. Потом информация просачивается дальше, к тем, кто не различает деталей, но хорошо чувствует слово «самый».
Самая яркая, самая далёкая, самая мощная.
Опасные прилагательные.
Лусия первой закончила.
– Я прогнала суперширокую сверхновую, – сказала она. – При любом разумном подборе параметров она даёт слишком резкий пик. Наш объект растёт мягче. И центральное положение в галактике всё равно остаётся проблемой.
– Хорошо, – ответил он. – Значит, наша любимая версия продолжает выигрывать.
Он отметил внутри себя маленькую галочку: один источник сомнений стал чуть слабее.
– Что дальше? – спросила она.
– Дальше мы делаем то, что всегда, – сказал он. – Прогнозируем.
Он переключился на окно с симуляциями.
– Нам нужно не только объяснить первые точки, но и предсказать, как будет вести себя светимость в ближайшие недели, – продолжил он. – Если наши модели правы, кривая должна пойти примерно так…
Он провёл рукой в воздухе, как будто рисовал.
– Если нет – мы увидим отклонение.
– И поймём, что теория дырявее, чем казалась, – добавила Лусия.
– Либо что природа решила не играть по нашему сценарию, – согласился он.
Они составили несколько сценариев эволюции яркости, каждый с собственными допущениями. Отправили в общий чат картинку с многоцветным веером прогнозов, прикрепили подпись: «Пожалуйста, снимайте как можно чаще, пока объект высоко над горизонтом».
Через пару минут чат ожил новой волной сообщений: кто-то обещал дополнительные ночи на телескопах, кто-то ругался на погоду, кто-то уже докладывал о том, что отправил заявки на срочное наблюдение в рентгене.
Рафаэль смотрел на этот шум и испытывал странное облегчение.
Событие, о котором несколько часов назад знали трое, теперь становилось общим делом для десятков. Ответственность расползалась по сети людей и приборов, становилась менее тяжёлой для одного мозга.
– А вы сами выхватите время на нашем 3.5-метровом? – спросила Лусия.
– Попробую, – сказал он. – Если заведующий не решит, что у нас есть дела поважнее, чем смотреть на катастрофу, произошедшую десять миллиардов лет назад.
– Какие дела могут быть важнее?
Он усмехнулся.
– У каждого свои приоритеты.
В этот момент всплыло ещё одно уведомление – письмо от пресс-службы института.
«Уважаемый д-р Мехиа,
нам сообщили, что Ваша группа участвует в наблюдениях потенциально очень интересного события. Просим, как только будет подготовлен первый черновик научной заметки, сообщить, чтобы мы могли планировать информационную кампанию…»
Он не стал дочитывать. Закрыл письмо, поморщился.
– Видите? – показал он экран Лусии. – У кого-то приоритеты очень понятны.
Она хмыкнула.
– Может, хотя бы подождём, пока вы убедитесь, что это действительно не наш систематический баг?
– Этого они как раз боятся больше всего, – ответил он. – Ничто так не расстраивает пресс-службу, как отсутствие повода.
Он вспомнил пару случаев за последние годы, когда «самая далёкая галактика» и «самый старый кластер» оказывались жертвами неточного калибратора или некорректного выбора модели. Тогда приходилось публично отступать, объяснять, исправлять.
Он не хотел повторения.
Внутри него жил маленький, очень дисциплинированный страх: опубликовать раньше, чем успеешь проверить все неприятные варианты.
Он повернулся к Лусии:
– Давай договоримся. Первую серьёзную запись о нём мы напишем только тогда, когда накопим хотя бы неделю данных. До этого – никакой конкретики по параметрам наружу.
– Вас всё равно будут дергать, – предупредила она.
– Пусть дергают, – сказал он. – Лучше выглядеть скучным и осторожным, чем весёлым и неправым.
За окном солнце окончательно поднялось, осветило крыши. В коридоре послышались первые голоса коллег, скрип стульев, хлопки дверей других кабинетов.
Институт начинал свой обычный рабочий день.
Только для Рафаэля этот день уже не был обычным.
Где-то за десятки миллиардов триллионов километров от Мадрида, за границами привычных масштабов, огромная звезда когда-то подошла слишком близко к гравитационной пасти. Её разорвало на части, раскрутило, разогрело, заставив загореться потоки вещества.
Свет, который теперь вызывал встревоженные письма и графики на экране, был лишь слабым эхом той древней трагедии.
А ему предстояло провести ближайшие месяцы, разговаривая с этим эхом на языке формул и распределений.
Он повернулся к доске, взял маркер.
Под старой надписью про демонов в хвосте распределения аккуратно дописал:
«AT2028xx – кандидат. Проверить всё, затем дать ему имя».
Он отступил на шаг, посмотрел.
Название типа ещё не существовало, идентификатор был условным, но факт появления новой строки на доске означал главное: игра началась.
Глава 3. Интеграл по шуму
К утру Нина уже плохо различала, где кончается ночь и начинается новый день.
После третьего последующего кадра с белым кругом, смены разговоров в общем чате и нескольких коротких созвонов её мозг превратился в ленту уведомлений. В какой-то момент Илья посмотрел на часы и мягко сказал:
– Ступай спать. Ты уже повторяешь одни и те же аргументы, только другими словами.
Она хотела возразить, но поймала себя на том, что не помнит, сколько времени сидит перед экранами.
Коридор обсерватории встретил её тусклым светом дежурных ламп и запахом старой краски. Стены, выкрашенные в выцветший бежевый, казались чем-то средним между больницей и школьным фасадом. За дверями некоторых комнат мерцали мониторы, слышалось шуршание вентиляторов, где-то вдалеке хлопнула тяжёлая створка технического помещения.
Снаружи воздух был холоднее, чем ожидалось. Нина на минуту задержалась на крыльце, вдохнула. Небо над куполами уже начинало светлеть на востоке – очень тонкая полоска тусклого серебра, почти не отличимая от низких перистых облаков.
Парковка тонула в синеватом предрассветном полумраке. Вдоль её края стояли такие же уставшие машины, как люди внутри зданий: пара пикапов, старый универсал с наклейкой университетского кампуса, маленький красный автомобиль, который Нина уже научилась узнавать – он принадлежал технику с ночной смены.
Её собственная временная жизнь пока укладывалась в четыре стены комнаты в гостевом доме для студентов. Дом стоял чуть в стороне от основных корпусов, у невысокого склона, заросшего редким колючим кустарником. За ним мира не существовало: только серые камни, сухая трава и какой-то бесконечно далекий, обрывистый горизонт.
Нина шла по асфальтовой дорожке и чувствовала, как ноги становятся ватными.
Сон в последнее время приходил не равномерными пластами, а кусками, как данные в разреженной выборке. Два часа с вечера, потом три – посреди ночи, иногда получалось урвать ещё час по дороге между корпусами. Организм, казалось, смирился с этим рваным графиком, но голова протестовала – особенно тогда, когда требовалось принимать решения, важные не только для цифр на экране.
В комнате было прохладно. Кондиционер, настроенный на какую-то абстрактную «комфортную» температуру, шёл на минимуме, но стены всё равно отдавали ночной прохладой. Нина скинула толстовку на спинку стула, уронила рюкзак рядом, села на край кровати и несколько секунд просто смотрела в одну точку – на штору, чуть шевелящуюся от сквозняка.
В голове всё ещё светился белый круг.
Не «кандидат», не «транзиент», не – просто ровное сияние посреди вычитанного кадра, чернильное поле вокруг и аккуратный контур где-то там, в цифровых единицах.
Она вспомнила, как впервые увидела настоящую ночную съёмку, ещё в Германии, на курсах по обработке данных. Тогда её поразило, насколько «грязным» выглядит сырое изображение: шум, полосы, отдельные сбойные пиксели. Начиная с тех пор, она воспринимала свою работу как попытку выудить что-то внятное из общего хруста статистики.
Теперь этот белый круг выделялся даже на фоне общей зернистости.
Нина легла, не раздеваясь, натянула на себя тонкое одеяло. Телефон привычно оказался в руке – пальцы сами открыли мессенджер. В общем канале проекта новые сообщения бежали непрерывно:
«Chile: clouds, but we got some r-band points. Flux still climbing.»
«Keck: first spectrum looks insane. Broad lines, weird blue excess.»
«Rafa: preliminary fits suggest very massive BH. Still checking for lensing.»
«Press office asking again. We told them "no numbers yet". For now.»
Она перечитывала короткие фразы, как будто это были реплики из пьесы, в которой ей досталась второстепенная роль.
Сон всё не приходил.
Последним усилием она включила режим «не беспокоить», положила телефон экраном вниз и закрыла глаза.
Сначала показалось, что темнота под веками – такая же, как за окном, от которых её отделяет лишь стекло. Потом темнота заполнилась остаточными изображениями: квадраты, точки, линии графиков.
Ей привиделось, будто окно комнаты – это большой монокромный экран. На нём возникли знакомые три панели: эталон, текущая съёмка и разность. Но вместо серого – строгое чернильное поле, вместо пикселей – почти живые точки. В центре снова загорелся круг, но на этот раз он был не статичным: он дышал, пульсировал, менял толщину, как будто кто-то растягивал его изнутри.
Круг стал тонким, как кольцо. Внутри появилось что-то похожее на шахматную доску – тонкая сетка светлых и тёмных ячеек, дробящих пустоту.
Она попыталась приглядеться, но клетки начали смещаться, перекраиваться в иной рисунок, и всё распалось.
Нина проснулась от резкого рывка – как будто её выдернули из воды.
Свет из щелей под шторой изменился: стал более плотным, желтоватым. Гудение кондиционера слегка изменило тон.
Она посмотрела на часы.
Было всего полдвенадцатого дня. Тело требовало продолжения, но голова уже включилась – не полностью, но достаточно, чтобы снова потянуться к телефону.
В общем канале стало ещё шумнее.
Первые оценки по рентгеновским наблюдениям: «Extremely bright. Could be strongest TDE-like event ever seen».
Радиоастрономы: «No prior source at this position. Starting monitoring campaign.»
Кто-то из теоретиков написал: «If z is right, this is ridiculous».
Нина прокрутила ленту вверх, нашла своё собственное сообщение с ночи – короткую строку о том, что их модель отдаёт высокую вероятность TDE, но недостаточную уверенность.
Под ним уже висело несколько реакций. Среди них – скупое «good catch» от незнакомого профиля с инициалами R.M.
Она догадалась, что это Рафаэль, тот самый, кого Илья называл «поедом статистики».
– Добро пожаловать в мир людей, которые любят интегралы больше сна, – сказала она в пустоту комнаты, голосом, чуть хриплым от недосыпа.
Полежать просто так она не смогла. Тело ещё и просило отдыха, но мысль о том, что события развиваются без неё, окрашивала это желание лёгким чувством вины.
Она поднялась, пошла в душ, постояла под водой чуть дольше обычного, пока горячие струи не смыли с кожи ночную сухость кондиционированного воздуха. В зеркало посмотрела на своё отражение: взъерошенные волосы, лёгкие синеватые тени под глазами, тонкие плечи. Ничего героического.
Оделась в джинсы и мягкую фланелевую рубашку, такую, какие носили многие вокруг, чтобы не бросаться в глаза.
Ноутбук, проживающий на столе, включился без промедления. Заставка с наивной фотографией осеннего леса, которую она поставила ещё в Германии, теперь смотрелась странно – словно память о другом климате, другом ритме времени.
Нина подключилась к серверу обработки Паломара. Поток данных о новом объекте уже превратился в аккуратную таблицу: время наблюдения, фильтр, величина, ошибка, флаги качества. Рядом – отдельная колонка с индексами, которые её модель присваивала кандидатам: вероятность того, что это TDE, SN, flare.
Она увеличила масштаб на участка с их новым «белым кругом».
Вероятность TDE росла от кадра к кадру. Там, где в начале ночи сеть выдавала незрелые семьдесят процентов, к утру уже светились все девяносто с лишним.
Именно этого она и добивалась, когда модифицировала архитектуру – чувствительности к ранней фазе. Однако сейчас рост уверенности выглядел пугающе гладким, в чём-то даже навязчивым.
– Ты, может, слишком хочешь быть правой, – пробормотала Нина, глядя на цифры.
Она открыла код. Вчерашнюю ночь они проводили данные через сверточно-рекуррентную конструкцию, которая должна была использовать краткие отрезки световых кривых. Она настраивала слой внимания, пытаясь добиться того, чтобы сеть фокусировалась на форме изменения яркости, а не на случайных выбросах.
Теперь хотелость проверить, как себя поведёт всё это не на одном, а на сотнях событий.
Она выгрузила из базы несколько последних месяцев наблюдений: кандидаты, которые уже получили свои классификации, вспышки, которые в итоге оказались обычными сверхновыми, и другие, подтверждённые как TDE.
В памяти сервера возник аккуратный куб данных: время, фильтр, яркость для каждого объекта.
Нина запустила тренировку заново, на этот раз включив режим, в котором сеть сама пытается выделять отличительные признаки.
На экране побежали строки логов. Графики потерь и точности начали потихоньку вырисовываться.
Мозг временно переключился на автоматический режим: проверка наличия переобучения, контроль за равномерностью выборки, расчёт времени до окончания эпохи.
Она поймала себя на том, что перестала думать о самом источнике – отодвинула его в сторону, как это делала с любыми другими, когда превращала их в обучающие примеры.
Через полчаса сеть достигла приемлемого уровня.
Нина отложила кружку – чай успел остыть, но она всё равно сделала пару глотков – и запустила тест на всём архиве.
Результат приятно щёлкнул по самолюбию: модель различала TDE и сверхновые лучше старой версии, особенно в первые двое суток после вспышки.
Теперь можно было позволить себе вернуть в картину новый объект.
Она подмешала его в массив без маркировки, дала сети возможность «решить самой».
Ответ был ожидаемым: почти стопроцентная уверенность, что это приливный разрыв.
Нина задумалась.
С одной стороны, это подтверждало её работу. С другой – не давало ничего принципиально нового. Всё, что она видела сейчас, укладывалось в картину «очень яркий представитель знакомого класса».
А она, к своему удивлению, хотела странностей. Не привычного, пусть и рекордного, феномена, а чего-то, что делало бы привычные схемы не до конца удобными.
Это желание она не любила в себе. Оно граничило с научным суевериями: ожидание «аномалии», которая сделает тебя частью важной истории.
Чтобы не поддаваться этой тяге, она занялась тем, что всегда считала более честной процедурой, – лечением шума.
До сих пор вся классификация работала с фоторядом в виде отдельных измерений. Но что, если попробовать посмотреть на ту же вспышку более непрерывно, встроив в данные контексты других диапазонов?
Нина подключилась к общему хранилищу, где временными рядами лежали рентгеновские измерения, радиоинтенсивности, всё, что уже успели добавить коллеги со всего мира.
По каждому такому ряду можно было извлечь набор признаков: характерные масштабы изменений, автокорреляционные функции, спектральную плотность. Всё это – зерно для алгоритма, который не ограничивается простой световой кривой.
Она начала собирать для каждого события длинный вектор параметров.
Для большинства привычных TDE эти векторы выглядели однообразно: плавный рост, медленный спад, отсутствие короткопериодических структур, предсказуемые задержки между диапазонами.
Когда она дошла до нового источника, цифры повели себя иначе.
Визуально световая кривая пока не отличалась от слегка ускоренной версии уже известных событий. Но при расчёте автокорреляции в оптическом диапазоне внезапно появлялись небольшие боковые пики – не сильные, не бросающиеся в глаза непосвящённому, но стабильные.
Она перепроверила.
Скрипт выдал тот же результат.
Нина сменила шаг дискретизации, пересчитала. Гребень основной корреляции стоял у нуля, как и должен, но по бокам плясали маленькие возвышенности, словно кто-то незаметно вложил внутрь гладкой кривой тихий ритм.
– Так, – произнесла она, тянув звук, больше для того, чтобы не молчать. – Или у нас в данных сидит какая-то пакостная систематика, или…
«Или» она не докончила вслух.
Вместо этого стала смотреть, как ведут себя те же функции для других TDE.
У большинства автокорреляция падала красиво и ровно, как струя фонтанчика в лабораторном эксперименте. Никаких боковых вздутых мест, только гладкое затухание.
У пары объектов из старой выборки мелькали незначительные неровности, их можно было списать на недостаток точек или неудачные интервалы наблюдений.
У нового же события рисунок оставался устойчивым даже при сильных вариациях шагов, при введении шумовых симуляций, при лёгком изменении алгоритма.
Нина откинулась на спинку стула, зажмурилась.
Мозг, набитый примерами про «ложные сигналы», тут же подкинул объяснения: неравномерность наблюдений, особенности фильтров, влияние частотно-зависимого пропуска атмосферы, наконец – ошибка в коде.
Она повертела в голове каждый пункт.
Код она уже гоняла на десятках других событий – без появления подобных якобы-ритмов. Неравномерность временной сетки учитывалась, как могла, она сама проверяла interpolation scheme.
Она записала на листок бумажного блокнота:
«AT2028xx: корреляция имеет слабые плечи на Δt ≈ 1.7, 3.4 дня (в наблюдаемой рамке). Проверить: связаны ли они с расписанием телескопа?».
Затем залезла в файл расписаний, свела времена наблюдений в одну линию.
Пики автокорреляции не совпадали с периодичностью съёмки.
– Неприятно, – сказала она, глядя на листок.
Это означало, что возможное объяснение «так совпало с графиком» исключается – или, по крайней мере, не выглядит очевидным.
Она написала Илье в личный чат:
«Я копаюсь в автокорреляции. У нашего монстра есть странные боковые пики. Не ухожу ли я в спекуляции?».
Ответ пришёл быстро.
«Если ты об этом спрашиваешь, значит, уже наполовину ушла. Но всё равно пришли картинку. Посмотрим, насколько это страшно».
Она отправила ему график.