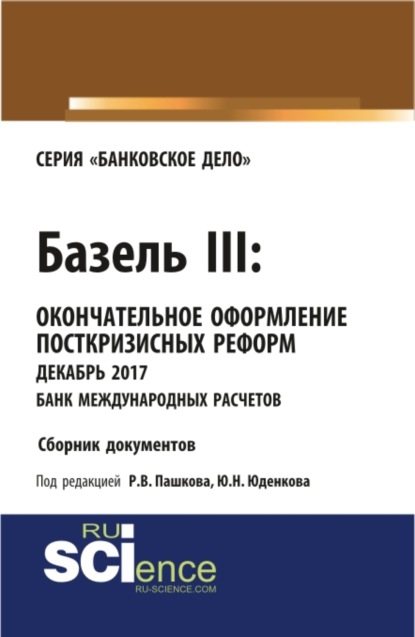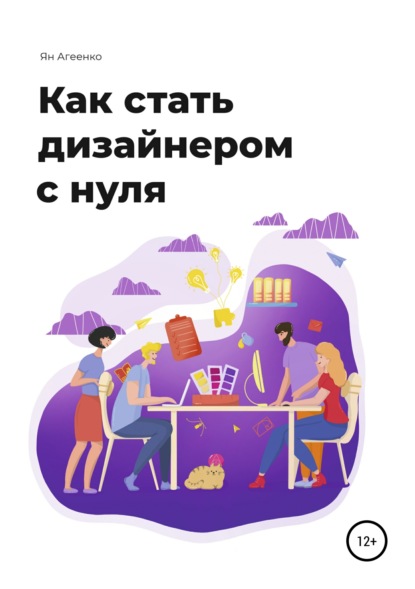- -
- 100%
- +
Среди них – несколько выделяющихся строк от научного отдела.
SUBJ: URGENT – Reallocation request (TDE candidate AT2028xx)
SUBJ: Preliminary briefing notes – possible record-breaking tidal disruption
Елена поставила кружку под кофемашину, нажала кнопку и вернулась к столу, пока аппарат гудел и шипел.
Открыла первое письмо.
На экране появилось письмо на несколько страниц, с таблицей в приложении.
Вкратце: мониторинговая программа, назначенная на ряд галактик и скоплений, просит перераспределить часть времени космического рентгеновского телескопа в пользу нового транзиента.
Пояснения были изложены сухо, но явственно:
«…яркость в рентгеновском диапазоне на момент последних наблюдений превосходит типичные TDE на порядок…»
«…красное смещение предполагает, что мы имеем дело с одним из наиболее далёких подобных объектов…»
«…координированная кампания включает наземную оптику, радио и спектроскопию; отсутствие космического рентгеновского блока серьёзно ослабит научный потенциал…»
Внизу подписи – несколько имён, знакомых по прежним проектам. Среди них – Рафаэль Мехиа.
К письму прилагалась таблица с цифрами: сколько часов просят забрать у каких программ, на какие интервалы перенести, какую «научную цену» это будет иметь.
Елена не любила такие таблицы – не потому что там были числа, а потому что за каждой строкой сидел живой человек: координатор другого проекта, его аспиранты, его заявки на гранты, которые строились вокруг обещаний по уже выделенному времени.
Каждый подобный перенос обещал в будущем несколько недовольных голосов, письма с просьбами «компенсировать» и спор о приоритетах.
Она открыла второе письмо.
Это был черновик внутренних тезисов к предстоящему брифингу для прессы. Пресс-служба уже вовсю готовилась, хотя эмбарго ещё действовало.
«…звезда, разрушенная гравитацией сверхмассивной чёрной дыры…»
«…энергия, сопоставимая с миллионами сверхновых…»
«…свет, который летел до нас 10 миллиардов лет…»
Фразы были узнаваемыми. Те же конструкции перекочёвывали из одного релиза в другой, чуть менялись числа, прилагательные, но тон оставался.
Она проскроллила вниз.
В самом конце увидела абзац, который заставил сдвинуть брови:
«Некоторые предварительные анализы указывают на возможную сложную структуру в изменении яркости вспышки, потенциально связанную с нестандартными процессами вблизи горизонта событий или даже с экзотическими формами материи. Эти результаты пока обсуждаются».
Слово «экзотический» внутри предварительных тезисов было красной лампочкой.
Елена сделала пометку в уме: «Вернуться, спросить, кто это вписал, и попросить вычеркнуть до выяснения».
Кофе тихо сигналом известил, что готов.
Она взяла кружку, подошла к окну.
Дождь тонкими струями стекал по стеклу. Люди под зонтиками спешили по тротуару, машины оставляли за собой брызги. Внутренний двор был пуст, металлический «шарик-планета» блестел, покрытый каплями.
«Ещё один день, когда дальний космос перепутается с местной политикой», – подумала она и вернулась к столу.
В календаре на десять утра значилось:
«Видеоконференция: TDE AT2028xx – Scientific priority and resource allocation».
До совещания оставалось минут двадцать.
Елена открыла короткую сводку научного отдела, подготовленную специально для неё.
Здесь язык был чуть менее академическим, но всё равно строгим:
– источник обнаружен в оптике как быстро растущий транзиент в центре далёкой галактики;
– предварительный спектр подтверждает природу «приливного разрушения»;
– яркость в нескольких диапазонах превышает средние значения для этого класса;
– координаторы кампании просят немедленного перераспределения времени на космических обсерваториях;
– теоретические интерпретации разнятся, но все сходятся во мнении, что событие статистически редкое.
Внизу – аккуратная сноска:
«Отдельные группы отмечают возможные аномалии в структуре световой кривой, но на данный момент это не оформлено как проверенный результат».
Она поймала себя на том, что читает эту строку дважды, как будто там спрятано больше смысла, чем написано.
«Аномалии» в подобном контексте означали всё: от банальной ошибки обработки до намёка на то, чего не хотелось упускать.
Часы на мониторе показали 09:58.
Елена открыла окно видеоконференции, проверила камеру, звук. На экране появилась сетка из пустых окон, куда постепенно вклеивались лица:
– знакомый лысоватый директор космического проекта,
– женщина из американского агентства с аккуратно собранными волосами,
– руководитель научного отдела,
– несколько представителей со стороны обсерваторий,
– пара людей, представляющих «стратегический комитет».
Наконец в одном из окон всплыла фигура Рафаэля. Он выглядел уставшим, но собранным.
– Доброе утро, – сказала Елена на английском, который был рабочим языком подобных совещаний. – Благодарю всех, кто подключился. У нас плотная повестка, поэтому предлагаю без долгих вступлений.
Она коротко обозначила цель:
– Мы должны решить, насколько оправдано перераспределение времени наших космических ресурсов в пользу нового события, и обсудить, как координировать научный и коммуникационный аспекты.
После этого передала слово научному координатору.
Тот включил демонстрацию экрана: на общем фоне появились графики, изображения, таблицы.
Отчёт был похож на многие другие, которые Елена слышала за годы работы, но в нём чувствовалась особая концентрация: докладчик ловко переключался между слайдами, отметками, числами.
На одном слайде – изображение галактики: тусклая, размытая, с яркой точкой в центре.
На следующем – световая кривая в оптическом диапазоне: резкий подъём в первые дни, затем намечающийся выход на плато.
Далее – график рентгеновской светимости, который, даже будучи нормированным, выглядел агрессивно: столбик новой вспышки отчётливо возвышался над серой «грядой» прежних событий.
Под графиком – неуклонная подпись: «AT2028xx – верхний хвост распределения».
– Как вы видите, – говорил докладчик, – по всем основным параметрам это событие лежит крайне высоко. Мы не ставим под сомнение принадлежность к классу приливных разрушений, но именно сочетание яркости и расстояния делает его уникальным.
Он включил следующий слайд – диаграмму с красной звёздочкой вверху.
– По предварительной оценке, это один из наиболее далёких подобных транзиентов. Если удастся удержать непрерывный мониторинг, мы сможем проверить ряд моделей, которые до сих пор были лишь на бумаге.
– Вопрос, – вмешался директор космического проекта. – Какие ресурсы вам нужны и на какой срок?
Докладчик переключился на таблицу.
– Мы просим перераспределить двадцать процентов наблюдательного времени рентгеновской обсерватории в ближайшие три месяца, с постепенным сокращением по мере затухания. Это потребует сдвига нескольких программ, но мы старались минимизировать ущерб.
Елена смотрела на цифры и мысленно прикидывала: чьи отчёты придётся потом выслушивать.
– Насколько невосполнимы потери для тех, у кого мы забираем время? – спросила она. – Программы мониторинга скоплений, опрос кандидатов axion-like, проект по ультракомпактным бинарным системам…
– Любой сдвиг неприятен, – честно сказал координатор. – Но редкость такого события оправдывает перераспределение. Мы говорим о феномене, который может не повториться в рамках работы текущей обсерватории.
Елена перевела взгляд на Рафаэля.
– Доктор Мехиа, – сказала она. – Как теоретик, вы разделяете эту оценку? Мы знаем, что вы обычно осторожны с словами "уникальный" и "беспрецедентный".
Он чуть усмехнулся.
– Я всё ещё осторожен, – сказал. – Но в данном случае готов поддержать приоритет.
Статистически подобные флуктуации возможны, однако именно такие случаи позволяют проверить хвост наших распределений.
Если не воспользоваться шансом, мы останемся с красивыми, но не полностью протестированными моделями.
– Есть ли у вас какие-то особые требования к данным? – вмешалась представительница американского агентства. – Вы упоминали в переписке, что хотите максимально плотное покрытие.
– Да, – кивнул он. – Для большинства TDE нам хватает разреженных точек. Здесь нас интересует возможность поймать более мелкие структуры на фоне общего затухания.
Слово «структуры» повисло в воздухе.
Елена вспомнила строчку про «возможные аномалии» и решила спросить прямо:
– Вы говорите о каких-то конкретных особенностях или это общая формулировка?
Рафаэль на секунду замялся, подбирая нейтральный ответ.
– Отдельные анализы, проведённые нашими коллегами по оптическим данным, намекают на присутствие слабых отклонений от гладкой световой кривой, – сказал он наконец. – Пока это на уровне статистических эффектов, далёких от твёрдого вывода. Чтобы проверить, действительно ли там есть физически значимые вариации, нам нужно больше точек и в других диапазонах.
– То есть сейчас мы не можем говорить об этом публично? – уточнила Елена.
– Настоятельно не рекомендуется, – вставил научный директор. – Иначе нас утянут в болото спекуляций задолго до того, как мы поймём, что там на самом деле.
Один из людей «стратегического комитета», мужчина в дорогом костюме, до этого молчавший, поднял руку.
– Позвольте замечание, – сказал он. – Вы говорите о перераспределении существенных ресурсов. Нас спросят – и парламент, и аудиторы, и налогоплательщики – почему именно это событие того стоит.
Фраза «самое яркое» нам поможет, но, возможно, нам стоит использовать и формулировки вроде «возможные признаки новой физики»…
Елена почувствовала, как у неё напряглись плечи.
Рафаэль, судя по выражению лица, тоже.
– Я бы предостерёг от таких заявлений, – сказал он, усилием голос делая более спокойным. – На данном этапе у нас нет доказательств того, что речь идёт о нарушении известных законов.
Да, мы наблюдаем экстремальные параметры, да, есть предварительные намёки на сложное поведение. Но пока всё, что мы видим, можно поместить в рамки расширенных моделей аккреции.
– А если в итоге окажется, что там действительно что-то новое? – не унимался человек в костюме. – Мы упустим шанс сделать заявление первыми.
– Наука – не рынок первичных размещений, – сухо ответила представительница американского агентства. – Если мы начнём говорить «новая физика» каждый раз, когда видим странное поведение данных, через год нам перестанут верить.
Елена почувствовала к ней тихую благодарность.
– Коллеги, – вмешалась она, – давайте разведём два уровня:
один – внутренний, где мы обсуждаем всё, включая самые смелые гипотезы;
другой – публичный, где мы обязаны говорить только о том, что выдержало проверку.
Она повернулась к научному координатору:
– В ваших тезисах для пресс-службы есть фраза про «экзотические процессы». Прошу её убрать до тех пор, пока у нас не будет чего-то более определённого.
Координатор слегка покраснел.
– Принято, – сказал он. – Это было добавлено по просьбе… некоторых коллег, желающих… сделать текст более…
– Оставим это слово без продолжения, – мягко прервала она. – Нам важнее сохранить доверие, чем добавить «экзотики».
Совещание продолжилось обсуждением логистики: какие программы пострадают, как оформить изменения, кто будет контактным лицом по координации наблюдений.
Когда дело дошло до финансовой части, Елена ненадолго отключилась внутрь себя.
Перед глазами произвольно всплыл кадр: далёкая галактика, как на слайде, и яркая точка в её центре. Спустя миллиарды лет та точка заставляет людей в разных странах спорить о процентах бюджета, строках отчётов, формулировках релизов.
Она знала, что без этого слоя реальность больших проектов невозможна. Но иногда было странно, почти нелепо, что древний поток фотонов упирается не в зеркало телескопа, а в аргументы бухгалтерии.
Ближе к концу совещания снова поднял руку человек из «стратегического комитета».
– Один уточняющий вопрос, – сказал он. – Есть ли основания полагать, что эта вспышка может иметь какое-либо практическое значение?
Я имею в виду не «прикладную пользу» в примитивном смысле, а, скажем, последствия для наших представлений о стабильности чёрных дыр, сценариях эволюции галактик…
Елена заметила, как несколько учёных на экране невольно поморщились при слове «практическая».
Рафаэль ответил спокойно:
– Любое уточнение параметров таких событий влияет на наши модели роста сверхмассивных чёрных дыр и, косвенно, на понимание того, как формируются структуры во Вселенной.
Возможно, мы сможем лучше оценить, как часто происходят столь экстремальные акты аккреции в ранние эпохи.
Это не та польза, которую можно измерить в евро к следующему кварталу, но это вклад в фундаментальную картину.
– Иногда этого достаточно, – тихо сказала представительница американского агентства.
Елена подвела итог:
– Итак, мы согласны на перераспределение запрошенных двадцати процентов времени в пользу этого объекта, с пересмотром через три месяца в зависимости от эволюции его яркости.
Пресс-служба подготовит материалы в сотрудничестве с научным отделом, без преждевременных упоминаний о «новой физике» и прочей "экзотике".
Коллеги из обсерваторий, прошу вас максимально чётко документировать все параметры наблюдений: если в будущем будут найдены тонкие эффекты, нам нужно будет быть уверенными, что они не связаны с систематикой.
Все кивают. Несколько голосов почти одновременно произносят: «Agreed», «Sounds reasonable», «Yes».
Созвон заканчивается. Окна с лицами исчезают одно за другим, остаются пустые квадраты, потом и они исчезают, остаётся рабочий стол.
Елена несколько секунд смотрит на собственное отражение в чёрном экране, как на человека, который только что подписался под очередной порцией головной боли для своего департамента.
Она делает глоток остывшего кофе и морщится.
Чуть позже, когда основная волна писем по итогам совещания пошла по рассылкам, у неё на столе оказался ещё один документ – копия внутренней переписки, куда, как по инерции, включили её адрес.
В переписке обсуждали странную автокорреляцию.
Она читала:
«…Нина из Паломара нашла устойчивые боковые пики в функции автокорреляции в оптике…»
«…пока не ясно, связаны ли они с физикой источника или с расписанием наблюдений…»
«…Рафаэль считает, что это интересно, но преждевременно выводить на большой круг…»
Дальше следовало письмо, в котором один из молодым исследователей восторженно писал:
«Если структура окажется реальной, можно будет говорить о совсем иных процессах модуляции потока. Вплоть до спекуляций о "квази-периодическом" поведении в окрестности горизонта…»
И почти сразу под ним – сухой ответ Рафаэля:
«Спекуляции оставим для внутреннего семинара.
Сначала убедимся, что это не инструментальная или выборочная штука.
Нина и Илья работают над проверками.
До завершения проверок прошу воздержаться от любых намёков на "периодичность" вне нашего узкого круга.»
Елена закрыла письмо.
С одной стороны, ей нравилась такая сдержанность. С другой – лёгкое любопытство всё равно зудело: а что, если действительно в поведении вспышки есть какой-то ритм, не укладывающийся в гладкие модели?
Она не была физиком. Образование у неё – политология, потом годы работы в административных структурах, потом внутренняя миграция в научный сектор.
Формулами она не оперировала, диаграммы читала на уровне «больше-меньше», термины усвоила столько, сколько требовалось, чтобы не смешивать квазары с квазикамичностью.
Зато очень хорошо понимала, как устроена человеческая составляющая науки.
Если в глубине данных действительно скрывается «что-то странное», первым испытанием будет не проверка гипотез, а давление истории.
Кому-то захочется написать книгу «Сигнал из чёрной дыры».
Кто-то будет бегать по конференциям, намекая на «новую эрy в понимании гравитации».
Появятся люди, которые свяжут всё это с чем угодно – от инопланетян до мистики.
И на фоне всего этого несколько уставших людей будут считать дисперсии, борьбу с систематическими эффектами, проверять алгоритмы обработки.
Елена взяла блокнот, открыть на чистой странице, записала:
«AT2028xx – выделено 20 % времени рентгеновской обсерватории, пересмотр через 3 месяца.
Автокорреляция: странные боковые пики – следить за развитием.
Пресс: убрать "экзотические процессы", сделать акцент на "экстремальном, но проверяемом" случае».
Она смотрела на эти три строки и думала, как много разных масштабов лежит между ними.
В одной – миллиарды лет и световые годы.
В другой – миллисекунды в алгоритмах анализа.
В третьей – недели в графике заседаний и публикаций.
Елена отложила блокнот.
На столе лежала папка с пометкой «Совет управляющих – повестка недели». Там были вопросы о финансировании новых миссий, о перерасходе на модернизацию наземной сети антенн, о задержке запуска одного из спутников.
AT2028xx занимал едва ли половину страницы в одном из приложений.
Но именно вокруг него уже крутилась невидимая в документах энергия: азарт людей, которые любят редкие события; осторожность тех, кто отвечает за репутацию; любопытство тех, кто ничего не понимает в приливных разрушениях, но очень любит слово «рекорд».
Она встала, подошла к окну.
Дождь почти закончился. Над тёмными крышами проступали светлые полосы.
Где-то за этими облаками, дальше, чем можно представить, часть вещества несчастной звезды уже давно ушла за горизонт событий, а другая часть деформированного облака ещё какое-то время светилась, выжигая энергию.
И если в этом свете был какой-то ритм – то сейчас он отражался в расписаниях телескопов, совещаниях в Брюсселе, письмах, черновиках, страхах и ожиданиях.
Елена посмотрела на серебряную брошку-галактику на лацкане.
В школьные годы она мечтала смотреть на небо через телескоп.
Теперь её работа заключалась в том, чтобы следить, как другие на него смотрят – и чтобы из этого наблюдения не получилось слишком много глупостей.
Она знала, что не присутствует при самом явлении, но каким-то боком всё равно была в его истории.
Возможно, именно так и работает Вселенная: через цепочки людей, решений, приборов, алгоритмов, – отдалённые яркие акты гравитации сливаются с очень земными разговорами о процентах бюджета.
Она вернулась к столу, принялась отвечать на письма.
День только начинался.
Свет от вспышки продолжал идти через шум.
Глава 7. Периоды тишины
К концу первой недели после алерта цифр стало столько, что Нина иногда ощущала их как физическую тяжесть.
Не абстрактные «данные», а именно вес – килограммы графиков, тонны таблиц, глыбы лог-файлов. Если бы всё это можно было свалить в одну комнату, ей понадобился бы погрузчик, чтобы пробраться от двери к окну.
Она сидела перед двумя мониторами в маленькой комнате Паломара, где стены были увешаны старыми плакатами из эпохи плёнок: чёрно-белые фотографии купола, люди в свитерах, полосатые диаграммы на жёлтой бумаге.
Сейчас на стенах светилось совсем другое.
На левом экране – свежая световая кривая AT2028xx: почти неделя непрерывных измерений, аккуратные точки в нескольких фильтрах, у каждой – тонкие усики ошибок. Вверху – подпись «t = 6.2 d (rest-frame)» с пометкой «approx».
На правом – знакомый график автокорреляции.
Главный пик, как и положено, торчал у нулевого сдвига – сигнал коррелировал сам с собой. Это было скучное, надёжное место. По бокам, там, где у обычных TDE кривая плавно спускалась и растворялась в шуме, у AT2028xx торчали аккуратные, упрямые бугорки.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.