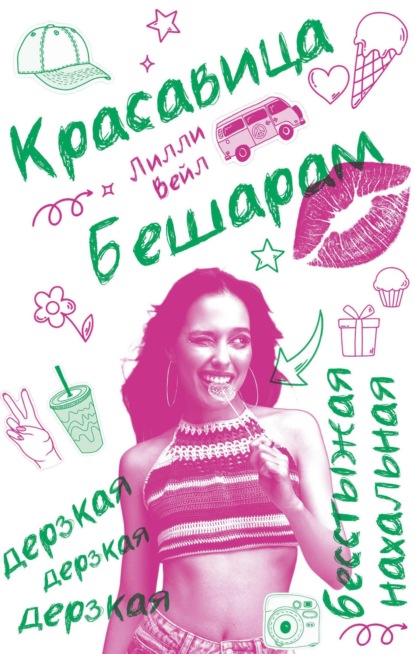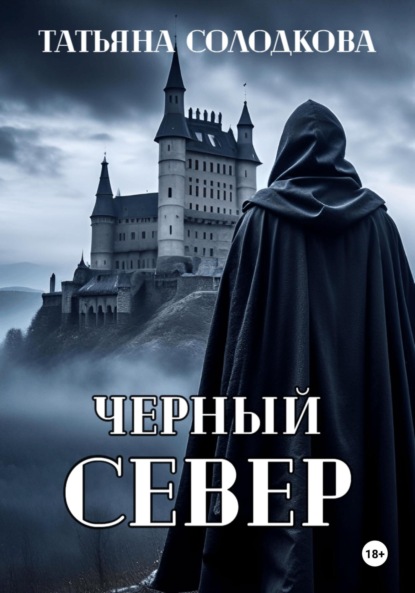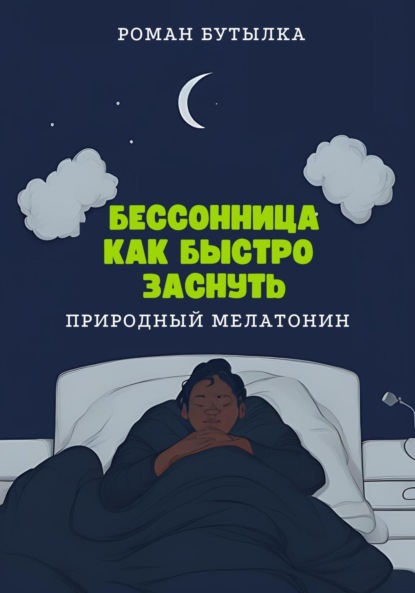Доска Лазарева

- -
- 100%
- +
Но по вечерам дома она сбрасывала этот маскарад.
– Что они опять на тебя навесили? – спрашивала она, пока мы делили по ломтику чёрствый хлеб, который она умудрялась откладывать из кухонной нормы.
– Ничего, – врал я. – Просто теперь надо раньше вставать.
– Раньше – это когда? – уточняла она.
– В пять.
Она на секунду прикрывала глаза, как от резкой вспышки света.
– Ты растёшь, тебе спать надо, – говорила она.
– Это служение, – повторял я чужими словами.
Она раздражённо взмахивала рукой:
– Служение… Они из любого твоего вдоха сделают служение, лишь бы ты не принадлежал себе.
Я тогда не знал, что «принадлежать себе» – это вообще опция.
– Ты ведь сам хочешь быть послушным, да? – спрашивала она уже тише.
Мне приходилось выбирать ответ не только для неё, но и для тех стен, которые всё слышали.
– Да, – говорил я. – Иначе… иначе плохо будет.
Мы оба понимали, кому будет плохо.
Иногда община устраивала «вечера свидетельств».
В доме молитвы собирались почти все. В воздухе висела смесь запахов: супа, машинного масла от генератора, дешёвого стирального порошка. На стене – портрет Учителя в рамке, под ним – цитата, выведенная золотистой краской:
«Твой голос – это мост между тлением и светом».
Обычно первыми выходили женщины среднего возраста: бывшие учительницы, бухгалтеры, медсёстры. Они рассказывали, как «в миру» жили в страхе, в долгах, «в блуде», как не могли справиться с детьми, пока не услышали кассету с проповедью.
Мы, дети, слушали эти истории как сказки о странной планете, на которой все время ходят в магазины и ругаются из-за телевизора.
После одного из таких вечеров Учитель поднялся и сказал:
– Сегодня я хочу, чтобы свидетельство дал сосуд.
Он посмотрел в мою сторону.
У меня внутри всё похолодело.
– Иди, Андрей.
Я вышел вперёд. Колени были ватными, рот – сухим. В руках мне всунули микрофон, хотя зал был маленький, и так было слышно. Но микрофон делал тебя ещё более видимым.
– Скажи, сын, что делает с тобой Бессмертное Сознание, когда ты слушаешь слово?
Я хотел сказать правду: что оно делает со мной ровно ничего, кроме головной боли от долгого сидения, но это не проходило по жанру.
– Я… перестаю бояться, – потянул я за первую попавшуюся нитку. – Когда ты говоришь, мне кажется, что… здесь всё правильно. Даже когда больно.
В зале кто-то всхлипнул.
– Слышите? – Учитель поднял руку. – «Даже когда больно». Это устами ребёнка говорит сама Истина.
Мама сидела в женском ряду, сжав губы.
После собрания ко мне подходили люди.
– Ты молодец, – говорила одна женщина и гладили по голове, как собаку. – Такое свидетельство.
– Ты не устаёшь? – шептала другая. – Столько Господь на тебя возложил.
Уставал я не от Бога и не от слов. От того, что мне всё время приходилось угадывать, что хотят услышать.
В детской это всё быстро отразилось.
Если раньше замечание получали все одинаково – по строке в журнале, по выговору перед строем, – теперь любое моё движение сопровождалось дополнительными комментариями.
– Андрей, ты должен подать пример младшим.
– Андрей, ты же понимаешь значение послушания.
– Андрей, нельзя позволять себе такие выражения лицом.
Моё лицо, как оказалось, тоже стало чьей-то территорией.
Кто-то из мальчишек откровенно ненавидел меня за это.
Игорь, который раньше делил со мной табуретку у умывальника, стал отодвигаться.
– Теперь ты у нас главный святой, – сказал он однажды, когда мы вдвоём чистили картошку во дворе. – Сиди там со своими видениями.
– У меня нет… – начал я и запнулся. Нельзя было произносить «нет» в таком контексте.
– Конечно, нет, – он плюнул в ведро с кожурой. – У тебя всё – да.
Вечером его поставили на Бдение за «недовольный тон в трудовых часах».
Я стоял у окна спальни, смотрел, как он темнеет в коридоре, повернувшись лицом к стене. На уровне его глаз тоже висел листочек с фразой. Я не видел, какая это фраза, но слышал, как он шепчет сквозь зубы.
Внутри было чувство, что наказали меня. Просто чужим телом.
Самым странным элементом моей «особенности» оказались прикосновения.
В общине были свои маленькие «чудеса»: кому-то «легчало» после молитвы, у кого-то «проходила боль».
Раньше к Учителю подходили взрослые – с больной спиной, с головной болью, с проблемным ребёнком. Он клал руку на голову, молился, и человеку становилось то ли действительно легче, то ли просто привычнее терпеть.
Теперь в этот ритуал включили меня.
– Пускай мальчик прикосновения сделает, – сказал он однажды. – Через чистый сосуд легче проходит сила.
Женщина средних лет, у которой болела шея, с сомнением посмотрела на меня.
Я подставил ладонь, как меня попросили. Кожа у неё была тёплая и влажная.
– Скажи: «Не я, но Бессмертное Сознание прикасается к тебе», – подсказал Учитель.
Я повторил. Слова прозвучали как чужой текст, который я выучил для спектакля.
После молитвы женщина расплакалась:
– Я прямо почувствовала. Как будто всё внутри согрелось. Он особоённый, ваш мальчик.
Меня никто не спрашивал, что я сам почувствовал. А я почувствовал только липкий пот на своей ладони и желание пойти помыть руки.
Но руки были теперь тоже не вполне мои.
– Береги их, – говорила сестра Мария, когда видела царапины. – Через них тебе ещё служить.
Я боялся даже порезаться о ржавый гвоздь, не столько из-за столбняка, сколько из-за возможного выговора: «Как ты мог не смотреть, куда ставишь пальцы, если ты сосуд?»
Мама жила между гордостью и паникой.
Перед другими она старалась держаться правильно.
– У тебя сын – знак, – говорила ей одна из сестёр в прачечной, пока они отжимали мокрые простыни. – Ты должна радоваться.
– Радуюсь, – улыбалась мама.
Эта улыбка держалась ровно до двери нашего дома.
В комнате она снимала платок, тёрла виски пальцами и садилась на табуретку.
– Они хотят, чтобы ты всё время был на виду, – говорила она, не глядя на меня. – Чтобы ты был живым плакатом.
– Это служение, – повторял я, потому что выбора слов у меня было немного.
– Служение – это когда ты можешь сказать «нет», – устало вздыхала она. – Всё остальное – эксплуатация.
Слово «эксплуатация» я тогда не понимал. Я представлял себе экскаватор.
– Главное, чтобы они не решили, что через тебя можно говорить всё, что угодно, – добавляла она. – Тебя же никто не спросит, что ты сам думаешь.
А я и сам не очень понимал, что думаю. Между мамиными фразами и штампами Учения было мало пространства.
Иногда мне казалось, что я – действительно канал. По которому туда-сюда гоняют чужие слова.
Годы спустя, когда пиар-отдел ChessNet обсуждал мой «личный бренд», их формулировки звучали удивительно знакомо.
– Твоя история уникальна, – говорил продюсер, листая презентацию. – Детство в закрытом сообществе, потом шахматы, потом болезнь, потом взлёт. Это же подарок.
Они употребляли другие слова – «уникальный», «цепляющий», «вирусный» – но суть была той же: из тебя делают витрину.
Разница была только в том, что теперь за это платили.
Но там, на Станции, мне никто не объяснял, что можно различать: где ты – человек, а где – сюжет.
Одна из самых тяжёлых дополнительных практик называлась «ночное слушание».
Раз в месяц нескольких человек выбирали, чтобы они проводили ночь в доме молитвы. Считалось, что в тишине легче услышать «шаги Бессмертного Сознания».
Обычно выбирали братьев служения и пары «духовно зрелых» сестёр. После моего «свидетельства» меня включили в этот список.
– Ребёнок чист, – говорил Учитель. – Через него может прийти свежий звук.
Вечером мы приходили в дом молитвы. Свет приглушали ещё сильнее. На коврах стояли три стула треугольником. На одном сидел кто-то из старших, на другом – я, третий оставался пустым. Для «Присутствия».
– Мы будем молчать, – объяснил брат Фёдор, старший в этот раз. – Если тебе придёт мысль, не торопись её говорить. Дай ей устояться.
Мы сидели. За стенами хрипел генератор, где-то лаяла собака. Внутри тикали часы.
Через полчаса я начал засыпать. Голова тяжело клонится, веки потеют. Я пытался держаться, прикусывал язык.
– Бодрствуй, – шепнул брат Фёдор.
В какой-то момент мне правда что-то «пришло». Не сверху, а снизу, от тела: тупая боль в коленях, затёкшие ступни.
– Скажи, – подбодрил он.
– Мне кажется… – выдавил я, – что… Бессмертное Сознание тоже… устало сидеть.
Фраза выскочила раньше, чем я успел её провернуть в голове.
Повисла пауза.
Брат Фёдор покосился на пустой стул.
– Усталого в Бессмертном нет, – строго сказал он. – Усталость – в плоти. Учись различать.
«Шаги» в ту ночь так никем и не были услышаны.
Утром, когда мы выходили из дома молитвы с опухшими глазами, я оглянулся на тот третий стул.
Он был пуст, но по ощущению – очень занят. На нём сидели ожидания всех вокруг.
Всё это складывалось в странную картину детства, в котором почти не осталось собственных случайностей.
Обычно в этом возрасте у ребёнка есть право на глупость: побегать, упасть, разодрать колени, что-то разбить, что-то ляпнуть.
У меня каждый жест становился поводом для интерпретации.
Если я случайно улыбался – говорили: «Смотри, в нём радость духа».
Если хмурился – «его, значит, за что-то дух укоряет».
Если молчал – «он в созерцании».
Если говорил – «нам пришло слово через него».
В какой-то момент я поймал себя на том, что делю свои движения на два типа: настоящие и безопасные.
Настоящие происходили редко – когда я один, когда никого нет в коридоре, когда можно просто прислониться лбом к холодной стене и ничего не думать.
Безопасные – это всё, что видели другие.
Детство превращалось в спектакль, в котором сценарий писали взрослые, а мне доставалась главная детская роль: «особенный мальчик при Учителе».
Я не знал ещё, как это потом будет отзываться в любых публичных ситуациях – от турнирных залов до студий ChessNet.
Тогда я просто старался не ошибаться в тексте.
Однажды вечером, когда мы с мамой возвращались из столовой, нас догнала сестра Мария.
– Елена, – сказала она, – я должна с тобой поговорить.
Мы остановились в коридоре. Свет ламп жёлтыми кругами падал на линолеум, стены были сырые, пальцем можно было снимать с них белую кашицу.
– Про сына, – продолжила Мария. – Ты должна понимать, какая это ответственность.
Мама кивнула.
– Я понимаю.
– Нет, ты не понимаешь, – в голосе Марии прозвучала неожиданная мягкость. – Если через него такое слово идёт, ты не имеешь права его расшатывать своими сомнениями.
– Я с ним не делюсь сомнениями, – сдержанно ответила мама.
Я оказался между ними, как книжка-раскладушка.
– Дети всё чувствуют, – Мария покачала головой. – Ты либо поддерживаешь его путь, либо ставишь ему подножку.
Подножки в секте не одобряли, в отличие от Бдения.
– Я поддерживаю, – сказала мама. – Я просто… хочу, чтобы он высыпался и ел.
– Плотское, плотское, – досадливо отмахнулась Мария. – Сначала – дух.
Мама посмотрела на меня.
– А если дух живёт в теле, которое валится с ног? – спокойно спросила она.
Мария прикусила губу. Несколько секунд они молча мерили друг друга взглядами.
– Не начинай, Елена, – в конце концов сказала Мария уже холоднее. – Ты же не хочешь снова оказаться на Бдении?
Когда она ушла, мама покачала головой.
– У них на всё один инструмент, – пробормотала она. – Бдение, лишение, изгнание. А что у меня?
Она повернулась ко мне:
– Что у меня? Ну-ка, скажи, ты же у нас канал.
Я пожал плечами.
– Я, – сказал я.
Это был первый раз, когда я произнёс это не как отчёт, а как факт.
Оказалось, что наличие «я» здесь тоже воспринимается как вызов.
Если бы тогда у нас была доска – та самая, из багажника, – я, возможно, расставил бы на ней всех этих людей: маму, сестру Марию, сестру Анну, Учителя, Славку, Игоря, себя.
Посмотрел бы, кто где стоит, кто кем ходит.
Но доски не было.
Зато было чувство невидимого поля, по которому меня уже куда-то двигают, не спрашивая, хочу ли я делать этот ход.
Секта называла это «предопределением» и «призванием».
Мама называла «ролью».
Я, ребёнок, который ещё толком не знал ни этих слов, ни того, чем они отличаются, просто старался не упасть с клетки, на которую меня поставили.
Только много лет спустя, когда я впервые сел перед журналистом и он сказал:
– Вы ведь были особенным ребёнком, правда?
– Я был ребёнком, – ответил я. – А особенность – это то, что взрослые делают с детьми, когда им нужен сюжет.
Но до этого ответа было далеко.
Тогда, на Станции, я лежал на железной кровати, слушал, как за стеной кто-то шепчет свою фразу на Бдении, и пытался вспомнить: был ли момент, когда я был «просто Андрей», без всех этих приставок.
В памяти не находилось.
Вместо этого всплывал тот же образ: железные ворота, щебёночная дорога, дом без занавесок, коридор, схлопнутый внутрь.
И я – маленькая фигурка на пустом поле.
Шахмат ещё не было.
Но ощущение, что меня уже поставили на доску, никуда не делось.
Глава 3. Лето 1995-го: доска на кухне
Лето на Станции отличалось от зимы только тем, что сырость пахла тёплой землёй, а не плесенью. Всё остальное оставалось прежним: ворота, щебёночная дорога, будильник в коридоре и голоса, читающие одни и те же фразы.
В тот год мне было десять. Я уже знал наизусть все главные цитаты Учителя, умел угадывать по вздохам в зале, когда он вот-вот произнесёт очередную «мысль для стенда», и мог без запинки перечислить названия его брошюр. Зато своё собственное «до Станции» становилось всё более смазанным.
Лето 1995-го вернуло мне одну конкретную вещь из того «до». Не лицо, не улицу, не квартиру – доску.
Только сначала появился человек.
В тот день жарило так, что линолеум в коридорах становился мягким, как жвачка. Прачечная работала без перерывов – простыни после ночных Бдений не успевали высохнуть, как их уже опять несли в котельную. Я таскал вёдра, потому что «аккуратные руки» не освобождали от грубой работы, а, наоборот, подкидывали ещё: «Пусть учится служению во всём».
К обеду нас выгнали во двор «подышать». На плацу пахло разогретым битумом и супом из столовой. Собаки валялись под бетонными постаментами, высунув языки. Где-то вдалеке тарахтел автобус: глухой звук, который обычно означал «новенькие» или поставку продуктов.
– Машина идёт, – сказал кто-то из братьев и пошёл к воротам.
Мы, дети, держались на положенном расстоянии. Ближе подходить было нельзя – это было пространство взрослых, где решались вопросы, которые нам объясняли уже в переваренном виде.
Автобус был старый, с застиранной надписью на боку. Дзынькнула дверь, из салона вышел водитель, за ним двое мужчин из общины, потом… он.
Первое, что я увидел, были руки: крупные, с широкими пальцами, но при этом трясущиеся, как у человека, который долго держал тяжёлый предмет и наконец поставил его на землю. На кистях – старые часы с поцарапанным стеклом и тонкий браслет из резинки, врезавшийся в кожу.
Мужчина не походил ни на одного из наших братьев. На нём была светлая рубашка навыпуск, джинсы с потёртыми коленями и куртка, которую он тащил в руке, хотя было жарко. Волосы – длиннее, чем у принятых здесь мужчин, слипшиеся от пота. Лицо – не опущенное, как у тех, кто прибыл сюда «разбитым грехом», а скорее растерянное.
– Он пьющий, – шепнула рядом девочка из старших, явно пересказывая услышанное. – Его прислали «на восстановление».
Слово «пьющий» звучало на Станции почти как диагноз. Таких иногда привозили: «Бог даёт им шанс». Их ставили на работу в котельной или на ремонт. Некоторых через пару месяцев увозили обратно, о других потом говорили шёпотом: «Не выдержал испытания».
Мужчину вели к дому молитвы, очевидно, на первый разговор с Учителем. Он шёл, оглядываясь, как человек, который попал в детский лагерь, но не уверен, что подписывался именно на это. У ворот на секунду его взгляд зацепился за нас, детей.
Не задержался, просто отметил: будто в его голове автоматически фиксировались все фигуры на поле.
Тогда я ещё не знал, что он сам всю жизнь привык смотреть на мир как на доску.
Вечером на собрании нам официально объявили:
– Сегодня к нам пришёл брат Сергей.
Учитель не любил лишних деталей. Биографии новеньких умещались в одну-две фразы: «долго жил в миру», «страдал от зависимости», «Господь явил милость».
– Он был мастером игры, – добавил Пастырь после паузы. – Но играл на стороне тления.
Слова «мастер игры» зацепились за что-то в памяти. Я не сразу понял, где уже слышал похожее сочетание.
Сергей сидел в первом ряду мужской половины, чуть ссутулившись. На нём уже была выданная общиной рубаха, волосы постригли короче, но взгляд остался тем же – внимательным и усталым. Когда Учитель говорил о нём, он не поддакивал, не кивал, как другие новенькие, которые старались показать свою покорность. Сидел и смотрел в одну точку на ковре.
– Господь забрал у него привычное поле, – говорил Учитель. – Но не забрал дар сосредоточения. Здесь он научится служить не себе, а свету.
После собрания женщины обсуждали новенького у выхода:
– Глаза мутные, – говорила одна. – Пьянством пропитаны.
– Ничего, – отвечала другая. – Такое чистится. У нас на трудотерапии не так и не из того вытаскивали.
Слово «трудотерапия» стало ещё одним термином, который прикрывал многие очень простые вещи: грязную работу, бессонные ночи, отсутствие жалости.
Мама ничего вслух не сказала. Только, когда мы шли домой по тёмному коридору, тихо заметила:
– «Мастер игры»… Интересно, во что он там играл.
Я промолчал. В голове вдруг всплыло: чёрно-белые квадраты, фигурки в коробке, папа, который пах перегаром и табаком.
Связь пока была слабой, как запах из давно закрытой банки.
Сергей появился на кухне через несколько дней.
Кухня была сердцем Станции: здесь всё кипело, варилось, ругалось, разливалось. Низкий потолок, две огромные плиты, алюминиевые кастрюли, которые вдвоём трудно поднять, жирные стены, запас соли в мешках под столом. На окне – решётка, за окном – двор и кусок забора.
Я помогал резать капусту. Нож тупился о толстые жилки, сок лип к пальцам. Сестра Надежда, повариха, раздавала указания, как дирижёр, только вместо палочки у неё была огромная поварёшка.
– Андрей, аккуратнее, не порежься, – бросила она. – Тебе ещё служить руками.
Я сдержался, чтобы не закатить глаза. Фраза про «руки-сосуд» звучала уже как присказка.
Дверь хлопнула, в кухню заглянула сестра Мария:
– Надежда, тебе помощника привели.
Вошёл Сергей. Теперь он выглядел уже «по-нашему»: борода чуть подпущена, рубаха застёгнута до шеи. Безчасовой ремешок он заменил на верёвочку с узелками. Но походка осталась городской – немного косолапой, с привычкой обходить невидимые препятствия.
– Будешь чистить, – коротко сказала Надежда и ткнула ему ящик с картошкой.
Сергей уселся на табурет возле двери, взял нож. Пальцы его всё ещё дрожали, но движения оказались отработанными. Картофелины превращались в ровные цилиндры, кожура срезалась тонкой спиралью, не рвалась.
Я невольно на него засмотрелся.
– Чего смотришь, канал? – буркнула Надежда. – Доску свою вылизал бы лучше.
Она называла меня то «каналом», то «пророком», в зависимости от настроения. Это не звучало как комплимент, скорее как напоминание: «не зазнавайся».
Сергей поднял взгляд.
– Канал? – переспросил он.
– Особенный у нас, – пояснила Надежда, уже жалея, что сказала. – У Учителя в любимчиках.
Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Ненавидел эти моменты, когда меня представляли чужим людям не как ребёнка, а как функцию.
– Я Андрей, – сказал я, прежде чем успел осмыслить.
Сергей кивнул.
– Сергей, – ответил. – Я тут у вас вроде как… на курсе молодого бойца.
Улыбка у него была косая, неуверенная, но в ней не было ни одной «духовной» интонации. Обычная человеческая улыбка – как в автобусе или в очереди за хлебом.
– И что… вы умели раньше? – вырвалось у меня.
Надежда шикнула:
– Помалкивай и режь.
Но Сергей уже слышал.
– Да так, – он пожал плечами. – Передвигал деревянных мужиков по доске.
Слова легли во мне как щелчок выключателя.
Я видел перед глазами – не чётко, но достаточно ясно – коричневую коробку, выдвижной ящик, внутри – фигурки, пахнущие пылью и чем-то едким, папин смех.
– Шахматы? – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал без лишнего интереса.
Сергей чуть прищурился.
– Был грешок, – признал. – Играл.
– В миру – всё грех, – огрызнулась Надежда, но без особой злобы. – Тебе, Сергей, пока лучше молчать и работать.
Он снова опустил глаза на нож. Но во мне уже что-то зашевелилось, как мышь в стене.
В тот вечер я долго не мог заснуть.
Мама металась по комнате, развешивая на верёвке после прачечной влажные рубахи. Воздух был тяжёлый, пах порошком и человеческим телом. За стеной кто-то кашлял.
– Мам, – сказал я в темноту. – А папа… папа играл в шахматы?
Она застыла спиной ко мне.
Вопрос был опасный не из-за шахмат, а из-за второго слова. Про папу у нас говорить было нельзя, как про любую «мертвечину».
– Спи, Андрей, – сказала она ровно. – Завтра рано вставать.
– Просто я помню… – начал я и осёкся.
Любую фразу, которая начиналась с «я помню», приходилось фильтровать.
– Ты помнишь не то, что было, а то, что хочет тебя отвлечь, – выдала мама чужой цитатой. Сразу было понятно, что это не её слова. – Не давай этому власти.
Она говорила признанные формулы, чтобы стены не зацепились за лишнее.
Я повернулся к стене, но сон не шёл. В голове вместо молитвенных фраз двигались какие-то мутные линии: как будто кто-то чертил на тёмном фоне квадраты.
Шахматная доска появилась на кухне через несколько дней, и я до сих пор уверен, что это было чистой случайностью.
С утра мы разгружали машину из города. В коробках был сахар, мука, макароны, несколько ящиков с надписью «гуманитарная помощь». Такие иногда приходили от каких-то церквей из Германии или Норвегии: там могли быть конфеты, устаревшие лекарства, детские книжки и вещи.
Мы, дети, обычно к этим посылкам не подпускались. Их сначала просматривали «старшие по духу», вынимая всё, что казалось подозрительным, и только потом разрешали раздачу.
В тот раз разгрузку доверили братьям, а меня с Сергеем отправили в подсобку: разбирать то, что привезли раньше и так и не разобрали.
Подсобка была похожа на желудок Станции. Там лежало всё, что по разным причинам «пока не пригодилось»: старые обогреватели, мешки с цементом, связки проводов, книги без обложек, коробки без подписей. Пахло пылью, мышами и ещё чем-то кислым.
– Я здесь ещё не был, – сказал Сергей, оглядываясь. – У вас, я гляжу, целый инвентарь мира.
– Это мертвечина, – привычно ответил я. – Просто ещё не утилизированная.
– Мертвечина, – задумчиво повторил он. – Вот как.
Он взял первую попавшуюся коробку, поставил на стол, открыл. Там оказались пластиковые тарелки и какие-то буклеты на незнакомом языке.
– Сорти́руем, – сказал он. – Туда – что можно людям. Сюда – строительное. А это… – он поднял яркий буклет с улыбающейся семьёй на обложке, – это, наверное, к вам в школу. Чтобы знали, как настоящие улыбаются.
Он говорил это тихо, почти без улыбки, но в голосе был оттенок, который я позже смогу назвать «иронией». Тогда это казалось чем-то опасным, как игра со спичками.
В следующей коробке лежали книги. Большинство – на «мире»: романы, учебники, какие-то журналы. Такие обычно отправляли в печку.
Сергей взял один том, пролистал.
– Этого Достоевского вы, пожалуй, не оцените, – пробормотал и отложил.
Потом открыл ещё одну коробку.
Внутри лежало что-то тяжёлое, обёрнутое в газету. Он развернул бумагу – и на столе возникли знакомые квадраты.
Доска была складная, с петлями, потёртая по краям. Чёрные клетки поблёскивали, белые пожелтели до цвета старой кости.
Я посмотрел на неё так, как смотрят на человека, которого давно похоронили и вдруг встретили живым.
– О-го, – сказал Сергей. Интонация была совсем не «сектантской». – А это кто у нас такой в гостях.
Он провёл пальцами по клеткам. Пальцы чуть дрожали, но от этого движение выглядело не менее точным.
– Знаешь, что это? – спросил он.
– Шахматы, – ответил я.
Слово оказалось более тяжёлым, чем я ожидал. Будто во рту вместо него лежал мелкий камень.
Сергей хмыкнул:
– Шахматы – это фигуры. А это – доска. Поле.