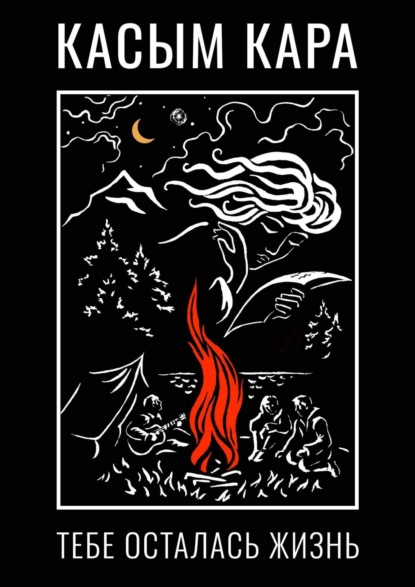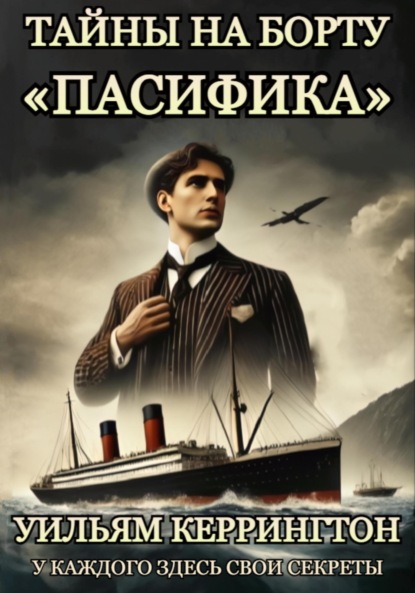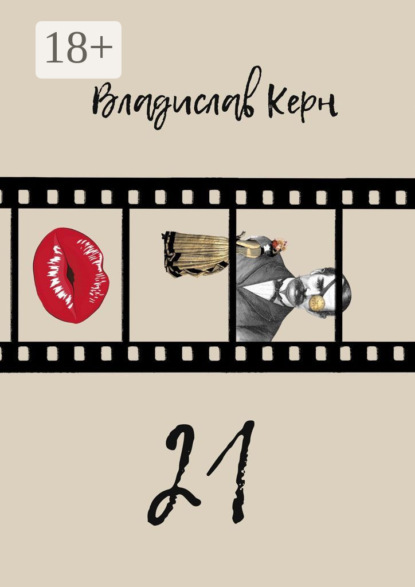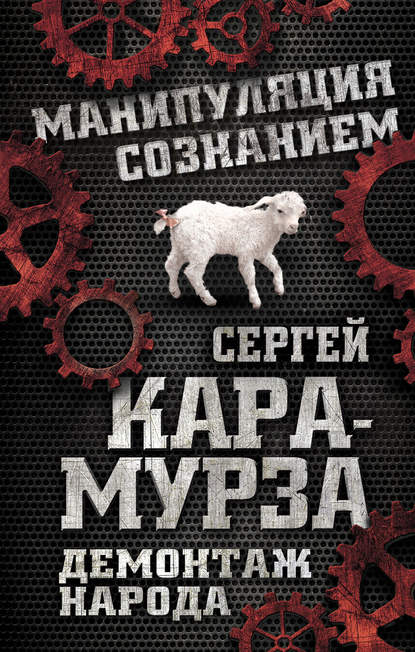Доска Лазарева

- -
- 100%
- +
Он говорил спокойно, но я чувствовал, как воздух в подсобке изменился. Как будто вещи вокруг чуть сдвинулись, освобождая место.
– Здесь такое держать не будут, – заметил я. – Скажут, что это…
Я искал подходящее слово.
– Отвлечение, – подсказал Сергей. – Идол.
«Идол» у нас означало любую вещь, к которой человек привязывается сильнее, чем к Учению. От жвачки до телевизора.
– Да, – кивнул я.
Сергей положил доску обратно в коробку, но не до конца.
– Работать дальше, канал, – сказал он. – А про эту штуку… подумаем.
В тот вечер он исчез с кухни раньше обычного. На утренней молитве его не было. Потом выяснилось, что ночевал он в подсобке «по хозяйственной необходимости». Официально – «охранял гуманитарную помощь от мышей».
Через пару дней доска стояла на кухонном столе.
Это случилось в тихий час после обеда, когда мужчины были на стройке, женщины – в прачечной, дети – кто на огороде, кто в детской.
Я получил редкое задание: отнести на кухню пустые ведёрки из-под салата. В коридоре было пусто.
Кухня встретила меня привычным запахом: капуста, жареный лук, старый жир. Но к нему добавилось ещё что-то сухое, деревянное.
На дальнем столе, обычно заставленном хлебом, стояла доска. Рядом с ней – маленький холщовый мешочек. Над доской, слегка склонившись, сидел Сергей.
– А, вот и наш канал, – сказал он, не поднимая головы. – Иди сюда.
Я поставил ведёрки, как полагалось, на нижнюю полку и, подчиняясь не правилам, а любопытству, подошёл.
Сергей развязал мешочек. На стол посыпались фигурки.
Они были не из той коробки. Те, что всплывали в моих детских воспоминаниях, были тяжёлыми, деревянными. Эти – пластмассовые, лёгкие, как игрушки, чуть облупленные. Видно, чья-то старая игра, пожертвованная «на нужды церкви».
– Хотел найти дерево, – пояснил Сергей. – Но и так сойдёт для начала.
Он стал расставлять фигуры. Делал это быстро, уверенно, не заглядывая ни в какие схемы. Короли становились на свои квадраты, ладьи – по углам, кони – с характерным изломом.
Я смотрел и чувствовал, как внутри выстраивается что-то, что давно пыталось обрести форму.
– Садись, – он подтолкнул ко мне табурет.
– Нельзя, – автоматически отозвался я. – Тут же…
– Тут кухня, – спокойно ответил он. – Не дом молитвы. На кухне вообще многое можно.
Я знал, что это не так. Но в его голосе было такое спокойствие, будто он действительно сейчас решал, какие правила действуют, а какие нет.
Я сел. Доска оказалась ровно между нами.
– Значит, помнишь, что такое шахматы? – спросил он.
– Немного, – признался я.
Врать про это было бессмысленно.
– Тем лучше, – сказал он. – Не придётся отучать от глупостей.
Он взял белую ладью, постучал её основанием о доску.
– Есть вещи, – сказал Сергей, – которые называются игрой. Но по факту это такие же системы, как у вас тут. Устав, правила, роли. Только честнее.
Я молча кивнул.
– В этой системе, – он показал на доску, – есть шесть типов фигур. Они ходят по-разному. Но у всех один закон: никто не может быть сразу везде.
Я впервые за долгое время слушал взрослого не как «сосуд» и не как ребёнок на проверке, а как человек, который действительно хочет понять.
– Ты какого цвета любишь? – спросил он.
Вопрос поставил в тупик. Цвет у нас был только один – выцветший серый.
– Всё равно, – сказал я.
– Тогда будешь за белых, – решил Сергей. – У них ход первый.
Он начал объяснять.
Ладья ходила по прямым линиям, слон – по диагонали, конь прыгал буквой «Г». Пешки двигались медленно, по одному квадрату, но могли в определённых условиях превращаться во что угодно.
Каждое правило ложилось на доску чётко, как кирпич в кладку. Никаких «как откроется в духе», никаких «кому что слышится».
– А если… – спросил я, – если кто-то захочет ходить по-другому?
Сергей усмехнулся.
– Тогда он будет просто плохой фигурой, – сказал он. – Тут не как у вас: сказал, что тебя ведёт Бессмертное, и можно всё. Тут либо по правилам, либо мимо кассы.
Слово «касса» я тогда понял не до конца. Но смысл был ясен: есть поле, есть схема, никакой метафизики.
– А король? – спросил я.
– Король – главный трус, – серьёзно ответил Сергей. – Ради него все остальные готовы сдохнуть, а сам он даже с места едва двигается.
Я хмыкнул.
Такой образ власти мне нравился больше, чем наш Учитель с его вечными «наставлениями».
– Запомнил, как ходят? – спросил Сергей.
Я повторил: ладья по прямой, слон по диагонали, конь через клетку. Слова складывались не хуже молитв. Только здесь за ними стояли конкретные ходы.
– Хорошо, – кивнул он. – Тогда сыграем.
Первая партия была похожа на экскурсию по неизвестному городу.
Сергей делал ход, потом останавливался и спрашивал:
– Что сейчас атаковано? Где опасность?
Я видел лишь хаос в квадратах.
– Ничего страшного, – говорил он. – Начнём с простого. Посмотри на эту пешку. Она идёт вперёд. Но бьёт по диагонали. То есть живёт она одним ходом, а умирает другим. Запомни.
Через несколько движений он забрал у меня фигуру.
– Видишь? Не заметил удара по диагонали.
Я кивнул.
– В вашей жизни, я так понимаю, тоже все бьют не теми ходами, которыми живут, – добавил он вполголоса.
Я не сразу понял, что он имеет в виду, но фраза застряла.
Я проиграл быстро. Сергей оставил меня без защиты, как это называют потом комментаторы: «позиция развалена».
– Ничего, – сказал он. – Первые партии всегда такие.
– Здесь… – я посмотрел на доску, – нельзя выиграть случайно?
– Можно, – пожал он плечами. – Если тебе подарят. Но если играть по-настоящему – нет. Случайность тут быстро кончается.
Это было главным отличием от Станции. Там любое событие можно было задним числом объявить «знаком» или «волей».
– Ещё партию? – спросил он.
Я посмотрел на часы над дверью. До общего собрания оставалось минут двадцать.
– Успеем, – решил Сергей. – Только давай теперь ты будешь говорить, почему делаешь ход.
Это оказалось сложнее, чем я думал.
Я привык подстраиваться, угадывать ожидания взрослых, говорить то, что от меня хотели услышать. А тут никто не подсказывал «правильные» ответы.
– Почему сюда? – спрашивал он.
– Не знаю, – отвечал я.
– Плохо, – качал головой Сергей. – Ход без причины – это как слово без смысла. Кто угодно может сказать «аминь» где угодно. Но если не понимаешь, к чему, – толку ноль.
Я сделал ещё один неуверенный ход.
– А так?
– А так ты подставился, – спокойно констатировал он. – Но уже по-другому. Запоминай не только удар, но и подставку.
Мы не успели доиграть.
В дверь просунулась голова Надежды.
– Это что у вас тут? – прищурилась она.
Сергей поднялся.
– Учим ребёнка вниманию, – сказал он. – Глаза, руки, голова. Всё сразу.
Она подошла ближе, посмотрела на доску.
– Игрища устроили? – фыркнула. – Вас на трудотерапию привезли, а не время убивать.
Я приготовился услышать: «Собрать немедленно, отнести в подсобку, забыть».
Но вдруг в дверях появился ещё один силуэт.
Учитель.
– Что за шум? – спросил он тихо.
Надежда выпрямилась, как под линейку.
– Никакого шума, Отче. Тут просто… брат Сергей…
Он шагнул в кухню.
В его валенках было что-то неслышно-пружинящее, даже летом он любил носить эту зимнюю обувь, как будто в любой момент был готов выйти в стужу.
Взгляд упал на доску.
Пауза тянулась пару вдохов.
Я почувствовал, как тело сжалось, готовое к знакомой формуле: «удалить», «сжечь», «убрать идола из среды».
– Это что? – спросил он, не глядя ни на кого конкретно.
Сергей не отвёл глаз.
– Инструмент, – сказал он. – Для тренировки сосредоточения.
Он произнёс это так, будто читал название из инструкции.
Учитель подошёл ближе, наклонился. Взял чёрного коня, повертел в пальцах.
– Ты в этом разбираешься? – спросил он.
– Немного, – ответил Сергей. – Был такой грех. Играл.
Учитель чуть улыбнулся.
– Всё, что было в миру, – сказал он, – можно освятить, если изменить цель.
Он поставил коня обратно.
– Если эта игра будет помогать нашему мальчику дисциплинировать ум, а не отвлекаться, – продолжил он, – я не вижу в ней вреда.
Слово «наш» прозвучало так, будто я был предметом.
– Но… – Надежда осторожно подняла руку, – разве не говорилось, что…
– Говорилось, – перебил он мягко. – Что всё зависит от духа.
Он обвёл нас взглядом.
– Андрей, – обратился ко мне. – Когда ты смотришь на это поле, ты помнишь, что твой настоящий дом – не здесь, а в сознании?
Я чуть не ответил честно: «Сейчас я вообще ни о чём не помню, кроме того, как ходят фигуры».
– Да, – сказал я.
Учитель кивнул.
– Тогда пусть брат Сергей займётся с тобой этим… упражнением. Но – по расписанию. Не вместо служения, а как часть.
Слово «расписание» в наших стенах звучало почти экзотично.
– Сестра Надежда, – обратился он к поварихе. – Выделите им время, когда кухня свободна.
Он вышел так же тихо, как вошёл.
Надежда смотрела ему вслед, потом на нас.
– Ладно, – буркнула она. – Сами нарвались. Теперь будете тренировать головы, пока суп остывает.
Она ушла к печке.
Сергей посмотрел на меня.
– Видишь, – сказал он. – Даже тут иногда ход бывает не тем, какой ждёшь.
Я посмотрел на доску.
Мне казалось, что сейчас она чуть светится.
Так у меня появилось первое «официальное» занятие, которое не входило ни в трудовые часы, ни в молитвы.
Два раза в неделю, после обеда и до вечерней суеты, нас с Сергеем оставляли на кухне. Остальные уходили кто куда, а мы оставались вдвоём с доской.
– Договоримся так, – сказал он в первый такой день. – Пока ты тут – забываешь, что ты канал, сосуд и прочий антураж. Здесь ты просто человек, который пытается понять игру.
– А если… – начал я.
– Если кому-то это не нравится, – перебил он, – пусть приходит и выигрывает.
Он ставил позиции, задавал задачи.
– Мат в два хода, – говорил он. – Представь, что у тебя только эти фигуры, и времени мало.
Я видел перед собой странный узор из чёрных и белых квадратиков.
– Ты слишком смотришь по сторонам, – замечал Сергей. – Смотри внутрь. Но не в дух, а в позицию.
Фразы звучали почти как с проповедей, только здесь за словами стояли конкретные действия.
Иногда его руки дрожали сильнее обычного. Пахло от него табаком и чем-то сладко-прогорклым, что я позже узнаю как запах дешёвой водки, выветрившейся из организма, но всё ещё сидящей в порах.
– Вам плохо? – спрашивал я.
– Мне нормально, – отвечал он. – Мне хуже, когда я не думаю. А тут думать приходится.
Я не понимал, как думание может быть спасением. На Станции мысль считалась подозрительной, если она не подтверждала Учение.
– Ты здесь сколько уже? – спросил он однажды, переставляя фигуры.
– Три года, – сказал я. – Почти.
– И сколько раз тебе позволяли сделать ход самому?
Я пожал плечами.
– Я не про молитвы, – добавил он. – Там всё равно сценарий один. Я про решения.
Я попытался вспомнить.
Иногда меня спрашивали: «Хочешь помочь на кухне или в прачечной?» Это были выборы без выбора: и там, и там пахло мылом и усталостью.
– Не знаю, – честно признался я.
– Вот, – сказал он. – Значит, будем тренироваться хотя бы здесь.
Он взял белую пешку.
– Смотри, – сказал. – Это ты. Самая слабая фигура. Ходит медленнее всех, отойти назад не может. Но если дойдёт до конца, станет кем угодно.
– Так не бывает, – автоматически отозвался я.
В нашем мире такого права превращения не существовало.
– В жизни – редко, – согласился он. – А в игре – пожалуйста. Но для этого ей нужно пройти всё поле.
Я провёл пальцем по ряду квадратов.
– А если её съедят?
– Тогда – всё, – пожал он плечами. – Но у неё хотя бы есть возможность. В отличие от тех, кто стоит на месте и считает, что и так уже фигурой родился.
Я не был уверен, к кому он сейчас обращается: ко мне, к себе или к кому-то третьему.
Лето тянулось вязко.
Днём воздух над плацем дрожал, как будто кто-то постоянно подогревал невидимую кастрюлю. Вечером нас гоняли полоть грядки, поливать капусту, носить воду. Ночами слышно было, как в доме молитвы кто-то отрабатывает песни: голоса повторяли одни и те же слова, будто заело пластинку.
Внутри всех этих повторов у меня появился маленький кусок другого времени.
Он измерялся не молитвами и не трудовыми часами, а партиями.
Я начал считать дни не «до собрания» и «после Бдения», а «до следующей игры».
Иногда мне казалось, что доска на кухне – это окно, которое открывается только на час, два раза в неделю. В остальное время оно закрыто, забито фанерой, как все наши окна.
– Ты не показывай этим своим, как мы играем, – советовал Сергей. – Они начнут интерпретировать. Скажут, что конь – это дух, который прыгает, где хочет, а ферзь – Матерь Церкви.
Он говорил это с такой усталой усмешкой, что я чувствовал: уже проходил через подобное.
– Они всё равно узнают, – возражал я. – Они всё узнают.
– Узнают, – согласился он. – Но чем позже, тем больше партий успеешь взять себе.
Слово «взять» в таком контексте мне нравилось. Обычно у нас говорили только «отдать», «посвятить», «принести».
– А вы… – я замялся. – Почему вы тогда… туда…
Я не знал, как вежливо назвать его прошлую жизнь.
– Вляпался? – подсказал он.
Я пожал плечами.
– Думал, что чувствовать себя фигурой на доске – плохо, – сказал он. – Хотел быть игроком. В итоге оказался… – он поискал слово, – дешёвой фигурой в чужой игре.
Я ничего не понял, но в память положил.
Мама узнала о шахматах позже, чем я ожидал.
В один из вечеров она пришла на кухню раньше, чтобы помочь с ужином, и застала нас над доской.
Я в этот момент как раз пытался вычислить, как защитить короля от мата в один ход. Пот тек по спине, ладони были влажными. Кажется, так же я потом буду сидеть над реальными партиями в реальных залах.
– Андрей, – позвала она.
Я вздрогнул. Пешка сорвалась с квадрата и упала.
– Ты идёшь или ты теперь тут живёшь?
В её голосе не было ни раздражения, ни злости. Скорее – какая-то удивлённая тревога.
– Ещё минуту, – сказал Сергей. – Он почти нашёл.
Мама посмотрела на него так, будто впервые видела.
– Вы… – начала она.
– Сергей, – представился он. – На трудотерапии.
– Я знаю, кто вы, – сказала она. – Мне говорили.
Руки у неё были в муке, волосы выбились из платка. Она выглядела старше своего возраста – не из-за морщин, а из-за какой-то усталости в осанке.
Она подошла ближе, посмотрела на доску.
– Это… – сказала она и осеклась.
Я увидел, как в её глазах мелькнуло что-то. Может быть, то же самое, что во мне, когда я впервые увидел квадраты на кухне.
– Это всего лишь игра, – сказал Сергей спокойно. – Не переживайте.
– У нас тут любая «игра» быстро превращается в ритуал, – ответила она тихо. – А любой ритуал – в инструмент.
Мы с Сергеем замолчали.
– Андрей, – обратилась она ко мне. – Тебе действительно… нравится?
Она редко задавала вопросы про «нравится». Обычно спрашивала: «Устал?», «Болит?», «Можешь?».
– Да, – сказал я, не успев придумать безопасный ответ.
Мама вздохнула.
– Тогда играй, – сказала она. – Только помни: они возьмут всё, что тебе нравится, и повернут так, чтобы это работало на них.
Сергей усмехнулся.
– На то они и мастера позиций, – сказал он.
Она посмотрела на него:
– А вы думаете, вы не были таким же?
Он не ответил.
Этот короткий разговор стал для меня первым ощущением того, что мир взрослых – тоже поле, только без чётких границ.
К концу лета я уже умел играть вслепую свои первые партии.
Не в том смысле, чтобы закрывать глаза и называть ходы, как делают гроссмейстеры. Я просто лежал ночью на железной кровати, смотрел в потолок и в мыслях расставлял фигуры.
– Пешка на е4, конь на ф3, слон на с4…
Буквы и цифры я тогда знал плохо – наша «школа» больше уделяла внимание цитатам, чем алфавиту. Сергей объяснил мне координаты:
– От «a» до «h» по горизонтали, от единицы до восьми по вертикали. Как клетки старых тетрадей, только с буквами.
Я проговаривал их шёпотом, чтобы не разбудить соседей. Стены и так слушали слишком много.
Вместо фраз про «сомнение» и «тление» во мне крутились другие формулы: «конь бьёт на g5», «слон защищает пешку».
Впервые в жизни у меня появился внутренний текст, который никто сверху не диктовал.
– Спишь? – шептала мама из темноты.
– Пытаюсь, – отвечал я.
– В голове опять твои квадраты?
– Угу.
Она помолчала.
– Когда я была маленькой, – вдруг сказала она, – у меня тоже было своё… поле.
Я насторожился. Мама редко говорила о себе «до Станции».
– Я воровала у бабушки газетные кроссворды, – продолжила она. – Решала ночью под одеялом с фонариком. Мне казалось, если я впишу все слова, всё остальное в жизни тоже как-то сложится.
– Сложилось? – спросил я.
– Нет, – улыбнулась она в темноте. – Но было легче.
Она помолчала ещё чуть-чуть.
– Так что… решай свои задачи, – сказала она. – Только не дай им превратить эту доску в ещё одну кафедру.
Я не тогда понял, как это сделать.
На следующий день Учитель на собрании вдруг сказал:
– Наш Андрей осваивает новую форму дисциплины мысли. Через него шахматы будут служить Господу.
Шахматы снова перестали быть просто игрой.
Но ощущение, что у меня есть маленький кусок поля, куда не достают их руки, ещё какое-то время держалось.
Много лет спустя, когда я буду сидеть в стеклянной студии ChessNet, а режиссёр будет показывать мне пальцем на камеру, я вспомню именно эту кухню.
Не первые серьёзные турниры, не гостиницы с грязными коврами, а жаркое лето, доску на столе между эмалированными кастрюлями, запах лука и слова мужчины, которого привезли «на восстановление».
– Ход без причины – пустой, – говорил он. – Игра без причин – тоже.
На Станции все ходы объяснялись чужими «причинами».
На доске впервые появилась возможность искать свои.
Тогда я ещё не знал, что эту доску рано или поздно тоже вытянут на сцену, поставят под прожекторы и превратят в декорацию моей истории «особенного мальчика».
Но летом 1995-го она была просто прямоугольником света на потрескавшемся столе.
И каждый раз, когда я садился напротив Сергея, у меня было ощущение, что я не просто двигаю пластмассу.
Я проверяю – хотя бы тут – могу ли я сделать ход сам.
Глава 4. Пророчества и пешечные жертвы
Когда несколько месяцев подряд тебя приводят на кухню «тренировать внимание», это сначала воспринимается как подарок. Потом – как убежище. И только потом – как ещё один зал, где на тебя смотрят.
Осень на Станции начиналась не с листьев, а с сырости. Воздух становился тяжёлым, бельё в прачечной сохло вечность, коридоры пропитывались запахом мокрой фанеры. Пахло так, будто стены тоже потеют. К этому времени доска на кухне уже перестала быть «случайной гуманитаркой» и превратилась в «инструмент для дисциплины мысли».
Сначала это звучало почти невинно.
Учитель впервые заговорил о шахматах с кафедры в один из тех вечеров, когда в доме молитвы было особенно холодно. Люди сгрудились на лавках, прижимая к груди руки, чтобы не дрожать. Мы, дети, как всегда, сидели на первых двух рядах. Я считал пятна на стене: одно – похоже на профиль, другое – на карту с дырой посередине.
– В мире, – говорил он размеренно, – есть много вещей, которые враг использует для тления. Но некоторые из них можно обратить на службу свету.
Я напрягся. Такие вводные обычно предвещали запреты: «телевизор – в печь», «магнитофон – инструмент дьявола». Сейчас тон был другой.
– Возьмём, к примеру, игру, в которую любят играть сильные головы, – продолжил он. – Там есть поле, есть фигуры, есть строгий порядок ходов. Мир использует это для гордости, для денег, для соревнования «я против всех».
Кто-то из братьев кивнул: «Да, так и есть, я видел по телевизору».
– Но что такое дисциплина мысли, если отрезать от неё гордыню? – он сделал паузу. – Это способность видеть последствия, различать ходы, не поддаваться хаосу.
Он перевёл взгляд на первый ряд, туда, где сидел я.
– Вот наш сын Андрей, – сказал Учитель, не указывая пальцем, но зал всё равно двинулся глазами в мою сторону. – Господь дал ему особую чуткость к структурам.
Слово «структуры» на Станции обычно употребляли к «иерархии духа». Теперь его прикручивали к доске.
– Через одну из мирских игр, – продолжил он, – мы видим, как Бессмертное Сознание тренирует в нём внимательность и послушание. Не к фигурам – к порядку.
Слово «порядок» прозвучало громче, чем всё остальное. Люди зашевелились: им нравилось, когда их хаос называли стройной системой.
– Поэтому, – подвёл он итог, – шахматы в нашем доме не будут развлечением. Они будут упражнением. Мостом от разума к духу.
Кто-то зааплодировал – осторожно, чтобы не показаться слишком мирским. Я вжался в лавку. Мне хотелось, чтобы доска осталась просто доской. Но в нашей вселенной ничто не оставалось «просто так» дольше недели.
После собрания ко мне подходили люди.
– Ты теперь у нас стратег, – улыбалась одна из сестёр, пахнущая хлоркой и дешёвыми духами.
– Моли Бога, чтобы твой ум не возгордился, – строго предупреждал брат Фёдор, у которого вечный насморк превращал «моли» в «муры».
Мама молчала. На кухне она резала хлеб, и нож у неё скрипел по доске чаще обычного.
Сергей отнёсся к проповеди с нервной усмешкой.
– Ну что, канал, – сказал он, когда мы в следующий раз сели за доску. – Тебя официально благословили на игру.
Он сложил ладони театральным жестом, который на Станции был бы сочтён издёвкой, если бы его увидели.
– Это хорошо? – спросил я.
Он пожал плечами.
– Это безопасней, чем если бы они решили запретить, – ответил. – Но с благословениями осторожнее. У нас в мире всё, что благословляют, потом начинают считать своим.
Он придвинул доску.
– Продолжим нашу «духовную дисциплину», – сказал он, будто цитировал Учителя, но в голосе звучало совсем другое отношение.
Мы играли. Он снова ставил позиции, снова требовал вслух объяснять каждый ход.
– Почему сюда? – спрашивал.
– Потому что… защищаю пешку, – отвечал я.
– А что будет через два хода?
Я рисовал в голове варианты. Иногда получалось, чаще – нет. Но в этом «нет» было больше жизни, чем в любом правильном ответе на вопросы из Учения.
Дверь кухни теперь почти никогда не была полностью закрыта. Её оставляли приоткрытой «для контроля». Время от времени кто-то проходил мимо, останавливался на секунду, смотрел на квадраты, кивал: «Сколько фигур, Господи», – и шёл дальше.
Сергей делал вид, что не замечает посторонних глаз. Я – не делал вид, я пытался не замечать по-настоящему.
– Представь, что вокруг ничего нет, – говорил он, видя, как у меня напрягаются плечи, когда в дверях задерживается чей-то силуэт. – Есть только поле. Тридцать две фигуры. И час твоей жизни, пока не позвали на молитву.
Это было странное утешение: ограничиться всего тридцатью двумя объектами, когда вокруг тысяча глаз.
Настоящие «пророчества» начались, когда одна из моих партий попала в чужие слова.
Вечерами на Станции по-прежнему устраивали «вечера свидетельств». Формат не менялся: люди выходили и рассказывали, как Бог «коснулся» их через Учение, тяжёлый труд или очередной отказ от чего-то.
В один из таких вечеров, уже ближе к зиме, Учитель вдруг сказал:
– Сегодня я хочу, чтобы мы послушали не только слова, но и увидели пример.
Он сделал знак брату Фёдору. Тот вышел вперёд, поставил на стол в центре зала доску. Ту самую, кухонную, только теперь её бережно укрыли белой тканью, как престол.
– Андрей, – сказал Учитель.
Я почувствовал, как ноги становятся ватой ещё до того, как поднялся.
– Подойди, сын.
Я вышел. Зал шумел, как улей. Мужчины с одной стороны, женщины с другой, дети вперёд протягиваются, чтобы лучше видеть. В свете ламп клетки на доске отсвечивали.
– Брат Сергей, – обратился Учитель в сторону мужской половины, – покажи, как Господь уже строит в этом мальчике умение жертвовать и видеть дальше одного хода.
Сергей поднялся с лавки медленно. На нём была общинная рубаха, застёгнутая до горла, бороду он подравнивал теперь регулярно. Но в походке осталась прежняя неуверенность. Он подошёл к столу, кивнул в мою сторону – еле заметно.
– Мы разыграем одну простую позицию, – сказал Учитель залу. – Чтобы вы увидели: даже пешка, самая малая, может стать ключом к победе, если её правильно отдать.