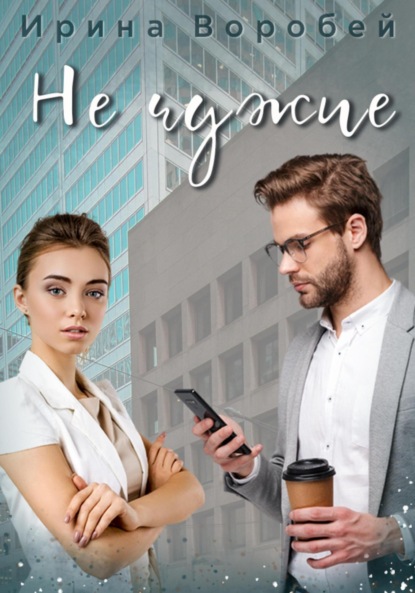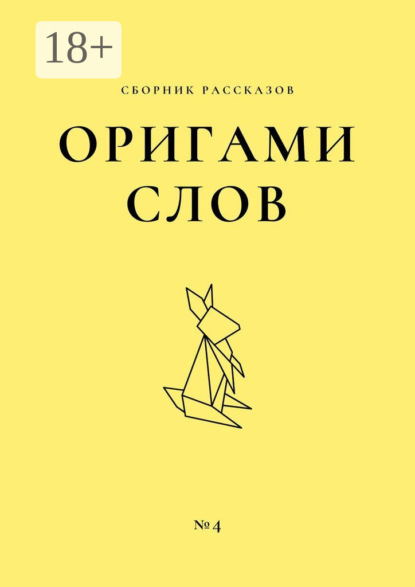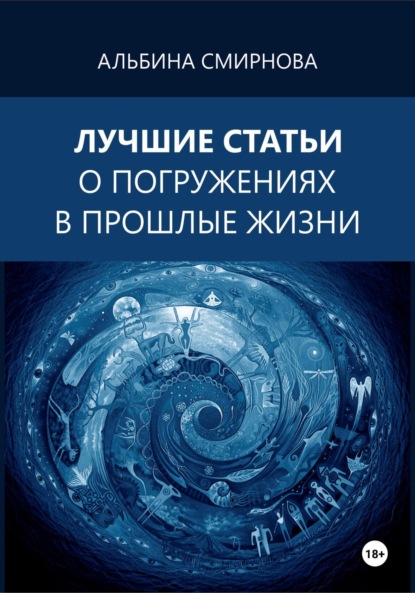Доска Лазарева

- -
- 100%
- +
У ворот уже стоял наш «ПАЗик» – старый, белый, с ржавыми потёками. Фары были выключены, но из выхлопной трубы тянулся сизый дым. Водитель, брат Николай, сидел за рулём, кутаясь в ватник.
Сергей стоял рядом с автобусом, куртка расстёгнута, лицо помятое, глаза покрасневшие. Я поймал знакомый запах. Не свежий, не с похмелья – тот, который появляется, когда человек неделю держится, а потом срывается и пытается за ночь «выветриться».
Брат Фёдор уже был на месте, с блокнотом и пластиковым пакетом, где лежали булки и варёные яйца для нас всех. Он смотрел на Сергея с недоверием, как на нестабильную фигуру на краю доски.
– Ты в состоянии? – спросил он.
– Я в лучшем состоянии, чем вы, – ответил Сергей. – У меня хотя бы голова работает, когда холодно.
– Ты помнишь, что мы договорились? – уточнил Фёдор, не обращая внимания на ответ. – Ни шага в сторону, никакого «по своим делам», никакой «забегу на минутку».
– Помню, – кивнул Сергей. – Ты идёшь от доски, я – к доске, всё честно.
Слова звучали слишком свободно для Станции. Брат Фёдор покосился на меня:
– Не слушай его шуточки. В городе много шуточек, от них вера тухнет.
Мама стояла чуть поодаль. Она не подходила к автобусу ближе, чем нужно, будто боялась, что если подойдёт, не отпустит. В одной руке у неё был мой мешочек, во второй – серый шарф.
– Иди сюда, – сказала она.
Я подошёл.
– Ты сейчас зайдёшь туда, – она кивнула на автобус, – а обратно будешь выходить уже немного другим. Я это знаю.
Она помолчала.
– Просто запоминай всё, что увидишь, честно. Не как тебе будут потом рассказывать, а как ты увидел.
– Хорошо, – сказал я. – А если…
Я хотел спросить: «А если я увидю что-то, что сюда не помещается?» Но слова застряли.
– Пиши, – подсказала она и сунула мне в руку карандаш без резинки. – В тетрадь. Хоть слово. Хоть запах.
Брат Фёдор кашлянул:
– Время.
Мама быстро обняла меня – коротко, как будто проверила, цел ли я, и отпустила:
– Возвращайся.
Я поднялся в автобус. Внутри пахло соляркой, сырой обивкой и железом. Сергей сел на сиденье напротив, прямо, без спинки, как будто ему было всё равно, где сидеть, лишь бы ехать. Брат Фёдор устроился ближе к водителю, как надсмотрщик шахматной партии.
Ворота открылись с тем же скрипом, что всегда. Только теперь я сидел не по эту сторону, а по ту. Машина тронулась. Колёса хрустнули по щебню. Забор медленно поплыл мимо окна.
Я впервые увидел, как наша Станция выглядит изнутри, превращаясь в точку. Дом, где мы жили с мамой, быстро спрятался за деревьями. Собаки даже не выбежали – они привыкли, что ПАЗик иногда выезжает и возвращается. Для них это было просто шумом.
Для меня – первым ходом.
Дорога в город заняла чуть больше часа. Время измерялось не минутами, а сменой картинок за окном.
Сначала шло поле – серое, промёрзшее, с припорошённой колеёй. Потом попадались редкие дома: покосившиеся заборы, ржавые ворота, спутниковые тарелки, которые казались летающими тарелками, застрявшими в земле. На обочине стояли киоски с выцветшими вывесками: «Продукты», «Пиво», «Видео». Надписи я успевал прочитывать, как позиции на доске.
Радио в автобусе работало. Брат Николай включил его автоматически, по привычке, пока вспоминал дорогу. Из динамика сиплой струёй вылилась поп-музыка: протяжные голоса, гитара, бит, шутки диктора. Брат Фёдор тут же потянулся к кнопке:
– Выключи. Не надо нам этого шума.
– Я на новости переключу, – примирительно сказал водитель. – Там без музыки.
Он переключил. Теперь говорили о курсах валют, ценах на бензин, каком-то заседании областной думы. Слова летели мимо, но сам факт голосов, не принадлежащих Станции, был странным. Как если бы кто-то ведёт трансляцию из другой реальности.
Сергей смотрел в окно. Руки у него лежали на коленях, пальцы иногда двигались, как будто он мысленно переставлял фигуры.
– Как ощущения? – спросил он тихо, когда Фёдор отвернулся.
– Как будто… – я поискал образ, – как будто доску сдвинули, и клетки поехали.
– Привыкай, – сказал он. – В мире доска всегда двигается. Это у вас её гвоздями прибили к полу.
– Нас просили… – начал я.
– Я знаю, – перебил он. – Смотри внутрь, не смотри по сторонам, не разговаривай, не думай, не дыши. Ты выполняй то, что от тебя требуют, но глаза всё равно держи открытыми. Иначе какой смысл ехать.
– А если… – я вспомнил про «тление».
– Тление тебя и так найдёт, – хмыкнул он. – Мы с тобой не из золота.
Брат Фёдор повернулся:
– О чём шепчетесь?
– Об очередной партии, – ответил Сергей. – Настраиваем сосредоточение.
Слово «сосредоточение» звучало так, как будто оно подходит под любой контроль.
Город начался неожиданно. Сначала – редкие пятиэтажки с облупившейся краской и бельём на балконах. Потом – рекламные щиты, витрины, остановки с людьми. Люди стояли в куртках, в шапках, с пакетами. Кто-то пил кофе из бумажного стакана, кто-то разговаривал по мобильному телефону – маленькому чёрному кирпичику у уха.
Я видел не сами предметы, а какие-то вспышки: красный плакат с бутылкой, пластиковую вывеску «Ломбард», вывеску «Салон красоты», на которой была нарисована женщина с сияющими волосами. Эти слова я где-то уже слышал в чужих разговорах, но никогда не видел.
– Смотри, не налипни глазами, – пробормотал Фёдор. – Всё это мишура.
Мишура была яркой, и от этого опасной.
Дом пионеров оказался послевоенным монстром из бежевого кирпича с колоннами. Колонны были облуплены, внизу – граффити и объявления: репетиторы, курсы иностранных языков, продажа щенков. Над входом висел баннер: «Открытый городской шахматный турнир. Приветствуем участников!»
Слово «приветствуем» я давно не слышал вслух. Нас обычно «вразумляли», «наставляли», «благословляли». «Приветствовать» звучало почти лёгкомысленно.
У входа толпились дети с родителями. Много курток, шарфов, шапок с помпонами. Кто-то жевал булочку, кто-то держал в руках пластиковую бутылку с ярко-синей жидкостью. Пахло выхлопом, табаком, морозом и чем-то сладким – у дверей продавали сахарную вату из маленькой тележки.
– Вату будешь? – спросил Сергей вполголоса, скорее для проверки.
– Нельзя, – ответил я автоматически.
– Правильно, – сказал Фёдор и даже не посмотрел на меня. – Сахар – это тоже зависимость.
Сергей пожал плечами.
Мы поднялись по ступенькам. Внутри пахло другим морозом – старым, советским. Запах старого линолеума, клея, мокрой тряпки и чужого детства.
В холле висели плакаты: «Здоровый образ жизни – наш выбор», «Скажем “нет” наркотикам», «Шахматы – гимнастика ума». Последний плакат особенно понравился бы Учителю: он любил любые фразы про «ум» и «гимнастику».
За столом у двери сидела женщина в свитере с оленями (другими, чем на мне) и толстых очках. Перед ней лежали список участников и стопка баджей.
– Фамилия? – спросила она.
Слово ударило по мне как неожиданный удар по времени. Я замер.
Сергей наклонился:
– Лазарев, – сказал он. – Андрей.
У меня внутри что-то хрустнуло. Этот кусок меня был спрятан глубоко; его не произносили вслух уже несколько лет. На Станции фамилии у нас считались «мертвечиной», их вычеркивали из журналов, как ненужные столбцы.
Женщина посмотрела в список:
– Андрей Лазарев… а, вот. Детский разряд?
– Второй, – подсказал Сергей.
– Отлично, – она протянула мне бадж и расписание. – Столик укажут на жеребьёвке.
На бадже было напечатано: «Лазарев Андрей, 10 лет». Под этим – название клуба, которое Сергей придумал по дороге: «Станция шахмат». Он сказал, что так «звучит необычно». Брат Фёдор промолчал, не сразу поняв двойной смысл.
– Мы как будто не врём, – сказал Сергей, когда мы отходили от стола. – Станция же. Просто другого рода.
Бадж висел на груди, как новая маска. Фамилия тянула вниз сильнее, чем пластик.
Зал для турнира был бывшим актовым. Сцена с тяжёлыми бордовыми шторами, на стене – портрет президента, слева – портрет кого-то из местных начальников. Внизу расставили столы рядами, накрыли зелёной тканью. На каждом столе – доска, часы, фигурки. Клетки блестели в электрическом свете, как маленькие окна.
Шум был особый: шуршание курток, скрип стульев, гул голосов, в котором иногда прорывался звонкий детский смех. Где-то щёлкали часы, кто-то проверял фигурки, кто-то ссорился из-за места.
Я стоял у стены и чувствовал, как внутри поднимается какой-то странный холод – не страх, а что-то вроде предвкушения. Как перед Бдением, только здесь никто не ставил меня лицом к стене. Наоборот, меня готовились посадить в центр.
– Ты сейчас слушаешь не зал, а доску, – сказал Сергей, склоняясь ко мне. – Все эти звуки – как шум в радиопередаче. Главное – сигнал.
– Какой? – спросил я.
– Что у тебя есть сорок ходов, – ответил он. – И никто не скажет, какой из них «духовно верный». Только позиция.
Брат Фёдор отошёл разговаривать с главным судьёй. Они перекинулись несколькими фразами о регламенте. Слова «контроль времени», «апелляция», «техническое поражение» звучали сухо и чётко, как правила грамматики.
Я смотрел на других детей. Кто-то был младше меня, кто-то старше. У многих были свои доски, свои часы, свои мешочки с фигурами. У кого-то – отцы, объясняющие что-то, нарисовав на листке квадраты. Матери поправляли шарфы, подавали шоколадки, говорили: «Не волнуйся, просто играй».
У меня не было ни шоколадки, ни отца. Только Сергей с его дрожащими руками и брат Фёдор с блокнотом.
– Тебе страшно? – спросил Сергей, не отводя взгляда от сцены.
– Я не знаю, – ответил я. – У нас обычно, если страшно, говорят, что это атака.
– Здесь это называется «волнение перед партией», – сказал он. – Половина зала сейчас под атакой.
Жеребьёвку объявляли громко. Список фамилий прозвучал, как чужая песня. Меня назвали на пятой паре.
– Лазарев – за белых, – крикнул судья.
Сергей чуть подтолкнул меня в спину:
– Иди. Помни про первую пешку.
Первый выход к доске оказался короче, чем казался со стороны. Я прошёл между рядами столов, сел на своё место. Напротив устроился мальчик с круглым лицом, в свитере с эмблемой какого-то клуба. На его бадже значилось: «Петренко Д., 11 лет, клуб “Диагональ”».
– Привет, – сказал он автоматически. – Ты откуда?
Я запнулся. Со Станции? Из общины? Из «дома, которого нет на карте»? Из Церкви Бессмертного Сознания? Ни один вариант не подходил для обычного разговора.
– Из… области, – сказал я.
– Мы тоже, – пожал он плечами. – Ты давно играешь?
– Не очень, – ответил я. – Лето.
Он удивлённо поднял бровь:
– Лето? Ну ничего, тут все разные. У меня отец с пяти лет гоняет.
Он кивнул в сторону трибуны, где сидели родители. Мужчина в кожаной куртке поднял большой палец, увидев наш взгляд.
– Твой где? – спросил Петренко.
– У меня… тренер, – ответил я, чувствуя, как язык становится деревянным. – Вон.
Я показал на Сергея. Тот в этот момент обсуждал с братом Фёдором что-то про контроль времени и махнул мне рукой, словно случайно.
– Ладно, – сказал мой соперник. – Если что – у судьи спросим.
Судья дал сигнал. Часы запустили. Фигуры застучали по доскам, как дождь по подоконнику.
Я сделал первый ход: пешка на e4. Это движение я делал сотни раз на кухне. На зелёной ткани, при светодиодных лампах, оно всё равно было другим. Фигура оставляла за собой не просто след на позиции, а ощущение, что за мной кто-то наблюдает.
Петренко ответил симметрично: e5. Всё честно.
Я пытался слышать только доску. Но где-то в углу уха всё равно висел голос Учителя: «Каждый ход – это согласие с волей». Здесь никакой «воли» не было; был выбор между ходом коня или слона.
Я выбрал коня. Не потому что «так надо», а потому что привык. Конь f3. Маленькая буква, цифра, чёрный пластик. Внутри отчего-то стало спокойно.
Позиция – единственное место, где меня не называли «сосудом».
Первую партию я выиграл быстро. Петренко зевнул связку, попался на простой тактический удар, который мы в сотый раз разбирали с Сергеем.
– Поздравляю, – сказал соперник, протягивая руку. – Я сам виноват. Засмотрелся на соседей.
– Не следи за эффектными ходами, – наставлял его отец уже через минуту. – Смотри на свои.
У нас бы сказали: «смотри на своё сердце». Здесь это звучало иначе.
Сергей подошёл ко мне, когда мы уже записали результат и сдали бланки.
– Ну? – спросил он.
– Он… не заметил связку, – сказал я.
– Ты заметил? – уточнил Сергей.
– Да.
– Этого достаточно, – кивнул он. – На твоей доске ты отвечаешь только за то, что видишь ты. Не за его слепоту, не за его отца, не за судью, не за систему.
Он говорил так, как будто речь идёт не только об этой партии.
Брат Фёдор заглянул мне через плечо в бюллетень:
– Хорошее начало. Главное – не возгордись.
Гордость я ощущал не как гордость, а как тихое удивление: оказывается, я могу выиграть не потому, что «так решил Бог», а потому, что другой человек не увидел ход.
Вторая партия была тяжелее. Там я застрял в равном эндшпиле, долго возился, нервничал, чувствовал, как гудит голова от чужих разговоров вокруг. В какой-то момент мне хотелось просто встать и уйти – в коридор, в туалет, куда угодно. На Станции, когда становилось слишком тесно, не было возможности выйти: любой выход был актом непослушания.
Здесь можно было поднять руку, попросить судью о временном выходе. Я не сделал этого. Просто доиграл до ничьей.
– Нормально, – сказал Сергей. – Ничья – тоже результат. Главное – не сломаться после первой победы.
– У нас говорят, – пробормотал я, – что «кто не растёт, тот деградирует».
– У вас много чего говорят, – отмахнулся он. – Здесь не община. Здесь турнир.
Во время перерыва нам выдали чай в пластиковых стаканчиках и по булочке. Булочка была самая обычная – белый хлеб, посыпанный сахаром. На Станции хлеб был тоже каждый день, но булочку с сахаром считали уже роскошью. Я ел медленно, раскладывая крошки на ладони, как фигуры.
Мимо проходили дети с шоколадками, колой, чипсами. Родители открывали кошельки, доставали деньги, покупали. Возле автомата с газировкой кто-то спорил, какая марка вкуснее.
– Хочешь «Колу»? – спросил Сергей, увидев, как я уставился на пузырьки в красном стакане.
– Нам нельзя, – ответил я.
– Вам нельзя жить, – сказал он тихо. – Но вы же пока живёте.
Он полез в карман, но брат Фёдор уже стоял рядом.
– Денег не трать, – сказал он. – Нам Господь благодатью даёт пищу, а вы всё в тление.
Сергей опустил руку.
– Ладно, – сказал он. – Будем жить на благодати и булке.
Я пил простой чай. Он был горячий, чуть горький, с запахом дешёвого пакетика. Но сам факт, что его наливала не наша повариха, а женщина в буфете, где висели плакаты про Олимпиаду-80, казался почти неприличным.
Всего было семь туров. К пятому я устал так, как у нас уставали после двух Бдений подряд. Голова стала тяжёлой, глаза слипались, фигуры начали плавать по клеткам. Я уже плохо различал, где мой конь, где чужой слон.
В одном из туров я проиграл. Зевнул простую вилку, потерял ферзя, потом сопротивлялся ещё ходов двадцать, но позиция была мёртвой.
– Зря ты так держался, – сказал Сергей, когда мы вышли в коридор. – Надо уметь вовремя сдаться.
– У нас… – начал я.
– Я знаю, – перебил он. – У вас сдача – грех. Вы там держитесь до последнего, даже когда давно мат.
Он посмотрел на меня внимательно.
– Здесь другая логика, Андрей. Проигранную партию можно сдать и отдохнуть. А в жизни у вас всё равно никто не спросит.
Фраза прозвучала странно утешительно.
Брат Фёдор подошёл, когда мы записывали результат.
– Ничего, – сказал он. – Поражение учит смирению.
Сергей сдержался, ничего не ответил. Я уже научился слышать его молчания.
К последнему туру у меня было четыре очка из шести. Для первого турнира это было хорошо. Для общины – достаточно, чтобы построить на этом целую легенду.
Последний соперник оказался девочкой. На бадже было написано: «Света Вайс, 9 лет».
– Я от «Диагонали», – бодро сказала она. – Ты откуда?
– Из… клуба, – всё тем же способом ушёл я от длинной правды.
– У нас тренер говорит, что у нас школа лучше всех, – сообщила она, расставляя фигуры. – Но я думаю, он просто хвастается. А у вас как?
«У нас» тренеры говорили, что «без них ты погибнешь».
– У нас… не школа, – сказал я. – У нас… община.
– Это что? – удивилась она.
Я задумался. Объяснить секту девятилетнему ребёнку за сорок ходов – задачка, сложнее любой комбинации.
– Люди живут вместе, – сказал я. – По своим правилам.
– А у нас дом, – сказала она. – И школа. И у бабушки дача.
Она сказала «дача» так, как будто это ещё одна фигура на её стороне.
Партию мы сыграли жёстко. Она видела доску хорошо, нападала смело, я отбивался на автомате, вытаскивая из памяти схемы, которые мы прогоняли с Сергеем. В какой-то момент мне удалось поймать её ферзя на связке. Потом – провести пешку в ферзи.
– Сдаюсь, – сказала она, протягивая руку. – Я сама виновата. Опять заферзилась.
Мне хотелось сказать, что она сильная, что это не только её вина, но и моя заслуга. Слова застряли.
– Хорошая партия, – сказал я.
– Тебе повезло, – усмехнулась она, но без злости. – В следующий раз я тебя съем.
Угроза прозвучала почти дружелюбно.
Награждение проводили на той же сцене, где когда-то читали стихи про Ленина. Стулья расставили полукругом, дети сидели, болтая ногами. Судья с листом бумаги читал фамилии победителей. Мне досталось второе место в своей возрастной группе.
– Серебро, – сказал Сергей, когда мне вешали на шею медаль. – Неплохо для мальчика без фамилии.
Фамилия на дипломе уже была. Большими буквами: «Лазарев А.Н.». Внизу – подпись тренера, который меня никогда не видел.
Брат Фёдор забрал диплом почти сразу, как только я спустился со сцены.
– Это общинная победа, – сказал он. – Мы повесим его в доме молитвы.
Я глянул на лист ещё раз. На секунду мне захотелось спрятать его под кофту, увезти, положить под матрас. Просто чтобы у меня было что-то своё, не отданное на стенд.
– Ладно, – сказал Сергей. – Пусть вешают. У тебя ещё будут дипломы, если не сломают.
Слово «сломают» прозвучало без пафоса.
Перед выходом мы зашли в туалет. Обычный школьный туалет: плитка, надписи на стенах, запах хлорки и мочи. Над умывальником висело зеркало. Тайная роскошь, которой не было на Станции.
Я поймал своё отражение. Мальчик в синей кофте, с баджем «Лазарев», с медалью. Лицо – как у всех: уставшее, бледное, нос немного красный от холода. Ничего «сосудистого» в нём не было. Просто ребёнок, который провёл день за доской.
– Смотри, не привыкни, – сказал за спиной голос Фёдора. – Мир тебя заманивает картинками.
Я опустил глаза.
Сергей, вытирая руки бумажным полотенцем, встретился со мной взглядом в зеркале. В его отражении было всё то, что у нас не любили: усталость, ирония, бесстрашие назвать вещи своими именами.
– Это не картинки заманивают, – сказал он тихо. – Это ты впервые видишь, что бывают другие поля.
Фёдор сделал вид, что не слышит.
Обратно мы ехали уже в темноте. Город светился жёлтыми окнами, рекламами, огнями машин. В автобусе было тепло, стекло запотело, я пальцем выводил на нём квадраты.
– Сколько ты набрал? – спросил Фёдор.
– Пять из семи, – ответил я.
– Второе место, – добавил Сергей. – У первого тоже пять, но лучше коэффициент.
– Коэффициент у Бога всегда лучше, – заметил Фёдор. – Главное, что ты показал пример.
Пример кому – он не уточнил.
– Как тебе там? – спросил Сергей, когда мы выехали за черту города. – Кроме доски.
Я задумался.
Картинок было слишком много: витрины с игрушками, запах жареной курицы, девочка в ярко-розовой куртке, мужчина с гитарой у метро, продавец газет, который кричал про какие-то выборы. Всё это крутилась, как быстрая перемотка.
– Шумно, – сказал я. – И… легко.
– Легко? – переспросил он.
– Там все… просто ходят, – попытался я объяснить. – Никто не говорит, что шагать – это служение. Они просто идут. В магазин, домой. С ворота – и уже куда-то.
Я замолчал.
– А у нас каждый шаг учитывается, – добавил.
– У нас тоже учитывается, – кивнул он. – Только там тебя считает кассир, а тут – Учитель.
Фёдор снова шмыгнул носом:
– Не путай мирские метафоры с духовной реальностью.
Сергей откинулся на сиденье, закрыл глаза. Его руки наконец перестали дрожать.
Я достал из мешочка тетрадь. Страницы были чистые, серые. Карандаш тёрся о бумагу. Я написал несколько слов: «витрина», «запах лука и курицы», «девочка в розовом», «дом пионеров», «мужчина с гитарой», «зеркало».
Потом добавил: «Лазарев».
Фамилию писал с трудом, будто осваивал новый дебют.
Автобус гудел, колёса стучали по кочкам. Небо за стеклом было чёрным, как клетка h8.
Когда мы подъезжали к Станции, ворота уже ждали. За ними горел один фонарь. В его жёлтом круге стояли люди – силуэты, как фигуры на линии.
Мама – тоже.
Возвращение на Станцию всегда было похоже на возвращение в аквариум: сначала видишь свет, потом стекло, потом ощущаешь, как воздух меняет вкус.
Автобус въехал во двор. Ворота закрылись за нами с тем же скрипом. Люди окружили машину, как встречают гуманитарную помощь.
– Как? – спрашивали. – Как прошло?
– Победил?
– Не соблазнился?
– Видел там много тления?
Ответы уже были готовы без меня.
Брат Фёдор вышел первым. В руках у него был диплом.
– Наш сын Андрей занял второе место, – громко сказал он, не дожидаясь, пока мы сойдём. – Среди городских детей, воспитанных в тлении.
Кто-то ахнул. Кто-то воскликнул: «Слава!».
Учитель стоял чуть позади, руки за спиной, лицо спокойное.
– Тебя не мы хвалим, – сказал он, когда я подошёл. – Хвалу мы отдаём Бессмертному. Ты был только доской, по которой Он провёл свой план.
«Доской» я сегодня уже был достаточно.
Мама протиснулась сквозь толпу. Её глаза были красными, но сухими.
– Ты живой? – спросила она тихо, без пафоса.
– Да, – ответил я. – И… там было…
Я хотел рассказать ей про витрины, про девочку в розовом, про запахи. Но вокруг уже было слишком много ушей.
– Потом, – сказала она. – На кухне.
Диплом тут же унесли в дом молитвы. Уже через час он висел на стенде, рядом с цитатами Учителя. Под ним сестра Мария прикрепила бумажку: «Пример того, как послушание рождает плод».
Меня никто не спросил, как именно послушание связано с тем, что Петренко зевнул связку, а Света недосчиталась ферзя.
Сергей ушёл в мужской корпус. Ему на сегодня поставили плюс в графе «трезвость», но минус «за иронию». Минусов у него всегда было больше.
Вечером в доме молитвы устроили короткое «свидетельство». Меня вывели вперёд, поставили у микрофона.
– Скажи, сын, – произнёс Учитель. – Что ты видел в мире?
Перед глазами вспыхнули картинки: витрина с куклами, мужчина с гитарой, девочка, которая говорила про дачу. Всё это не укладывалось в однозначные формулы.
– Там… много людей, – сказал я. – И они… просто живут.
В зале повисла пауза.
– Без Бога, – подсказал кто-то.
– Без Учения, – добавил другой.
– Им тяжело, – сказал я. Это была правда, но не вся. – Они… не знают, куда им идти.
– Слышите? – Учитель поднял руку. – Даже ребёнок видит пустоту мира.
Мой «видящий» голос снова использовали как микрофон.
Когда всё закончилось, мы с мамой сидели на кухне. Она чистила картошку, я вертел в пальцах карандаш.
– Ну? – спросила она. – Что там было, кроме пустоты.
Я открыл тетрадь. Прочитал вслух слова, которые написал в автобусе.
– Витрины, – сказала она. – Запах жареного. Люди. Зеркало.
Она кивнула.
– Хорошо, что ты это увидел, – сказала. – Плохо, что они услышали только то, что хотели.
Она взяла тетрадь, провела пальцем по слову «Лазарев».
– Привыкай, – сказала она. – Эта фамилия тебе ещё пригодится. Не только здесь.
На стенде в доме молитвы под моим дипломом всё ещё висела бумажка: «Пример послушания».
Я смотрел на неё и думал о том, что в городе никто не спрашивал у меня, кем я был до доски. Им было всё равно, какое у меня «служение». Их интересовало только, кто выиграл.
Это было странно и страшно.
И одновременно – облегчением.
Шахматы уже вытаскивали меня за ворота.
Мир показали на один день – как чужую партию, которую дали посмотреть из зала.
Потом доску опять унесли внутрь, под лампы, к цитатам.
Я вернулся в дом, которого нет на карте, с медалью на шее и фамилией, которую снова надо было прятать.
Это был первый выезд.