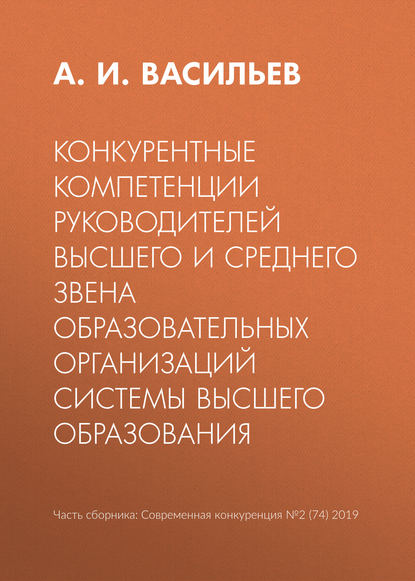Стеклянное Море

- -
- 100%
- +
Ави смотрел на брата, и впервые за много лет он не видел в нём надзирателя. Он видел испуганного мальчика, который боится потерять единственного, пусть и обременительного, спутника своей жизни. Но эта мысль не принесла облегчения. Она лишь подлила масла в огонь.
– Я ненавижу тебя! – прошипел Ави, и слова вырвались сами, прежде чем он успел их обдумать. – Я ненавижу каждую секунду, что я завишу от тебя! Я предпочту умереть в канаве в Стамбуле, чем ещё один день жить в этой милостыне, которую ты называешь заботой!
Цви отшатнулся, будто получил пощечину. Его лицо побелело. В его глазах что-то погасло.
– Милостыня? – он тихо рассмеялся. – Хорошо. Хорошо, Ави. Лети. Лети к своей арабской принцессе. Но знай – обратного билета в эту жизнь у тебя не будет.
Он развернулся и вышел. На этот раз дверь в его комнату закрылась с таким тихим, финальным щелчком, что Ави понял – он пересёк черту. Ту самую, за которой нет пути назад.
Он остался один. В тишине, нарушаемой лишь гудением компьютера. Он открыл чат с Лейлой. Последним сообщением всё ещё было его «Что случилось?». Он положил пальцы на клавиатуру, чтобы написать ей о своём крахе, о своём сражении с братом, о своём одиночестве.
Но он не смог. Какие слова могли выразить эту пустоту? Он просто закрыл все окна на компьютере, отключил монитор и остался сидеть в темноте, глядя на отражение уличных огней в чёрном стекле окна. Его восстание потерпело поражение. Не потому, что он был слаб. А потому, что реальность оказалась сильнее. Сильнее его воли, сильнее его любви. Она была тяжёлой, как тело брата, перетаскивающее его с кровати на коляску, и неумолимой, как болезнь матери Лейлы. И против этой реальности у него не было аргументов.
Глава 9: Химия на расстоянии
Их хрупкий мир, существовавший в вакууме цифрового пространства, начал заполняться новой, невероятной плотностью. Страх Лейлы перед включением планшета после того, как она осталась одна, сменился ритуалом, похожим на священнодействие. Теперь этот экран был не окном, а целой вселенной, в которую она входила, предварительно надев свои невидимые доспехи.
Этот процесс начинался за час до условленного времени звонка. С помощью захвата на длинной ручке, которую Ави посоветовал ей заказать (и за которую она отдала последние сбережения, солгав матери, что это – медицинская необходимость), она доставала с верхней полки шкафа небольшую деревянную шкатулку, инкрустированную перламутром. В ней хранились крохи её былой, почти забытой женственности: высохшая тушь для ресниц, почти пустой флакончик духов с ароматом жасмина, оставшийся от её двадцатипятилетия, кусочек карандаша для бровей. Она не могла накраситься – её руки, предательски дрожащие, не позволили бы провести ровные линии. Но она могла капнуть духами на запястье, провести сухой щёточкой туши по ресницам, чтобы они хоть чуть-чуть казались темнее на пикселях экрана. Это был её боевой раскрас. Подготовка к встрече с единственным человеком, для которого она хотела быть не больной Лейлой, а просто женщиной.
Комната тоже подвергалась тщательной подготовке. Она упросила Ум Ахмед передвинуть горшок с увядающей, но ещё цепляющейся за жизнь геранью на тумбочку у кровати, чтобы его алые соцветия попадали в кадр. Плед на кровати, некогда яркий, а теперь выцветший от многочисленных стирок, она с невероятным трудом расправляла своими непослушными пальцами, стараясь избавиться от складок, напоминавших о её постоянном лежачем положении. Она создавала декорацию. Декорацию для жизни, которой не было, но которая в эти часы казалась ей более реальной, чем пыльный воздух Триполи за окном.
Когда на экране возникало его лицо, вся боль, вся усталость, весь страх отступали, как морской прилив перед началом шторма. Первые несколько минут они просто молча смотрели друг на друга. Он видел новую, едва заметную морщинку у её глаз, следы непролитых слёз, которые она прятала даже от самой себя. Она видела, как седина всё настойчивее проступала у его висков, серебряными нитями вплетаясь в тёмные кудри, как заострились его скулы от постоянного, невысказанного внутреннего напряжения.
– Ты сегодня красиво выглядишь, – сказал он как-то раз, и её щёки покраснели, будто она шестнадцатилетняя девочка, впервые услышавшая комплимент.
– Врёшь, как сивый мерин, – прошептала она, отводя взгляд, но уголки её губ дрогнули. – Я сегодня похожа на выжатый лимон, оставленный на солнцепёке.
– Лимоны бывают разными, – парировал он, и в его глазах, обычно таких усталых и отстранённых, вспыхнули озорные, почти мальчишеские искорки. – Ты – самый ценный, элитный сорт. Тот, что вызревает в самых суровых условиях, накапливая всю сладость мира.
Их разговоры были не просто обменом словами. Это была хирургическая операция по вскрытию душ, долгая и бережная, где каждый скальпель был отточен на доверии. Он рассказывал ей о своих самых потаённых детских страхах – о том, как боялся темноты в длинном больничном коридоре, о том, как в подростковом возрасте ненавидел своё отражение в зеркале, это неподвижное марево, которое он не признавал своим. Он рассказал о первой и последней девушке, которая сбежала, не попрощавшись, после того как он пригласил её к себе домой и она увидела не его, а его мир – холодные поручни, коляску, брата-няньку, этот отлаженный механизм выживания.
Она, в свою очередь, раскрывала ему шкатулку своих воспоминаний. Она рассказала об отце, красивом и гордом мужчине, который ушёл, не выдержав бремени её болезни, когда ей было пять лет. Она до сих пор помнила запах его одеколона и громкий, срывающийся на крик голос в соседней комнате: «Из-за неё у нас никогда не будет нормальной жизни!». Она рассказала о своих несбывшихся мечтах – стать архитектором, проектировать дома с огромными, до пола, окнами, без единой ступеньки, с широкими дверными проёмами, где воздух мог бы циркулировать свободно, как её несбывшиеся мысли.
Они стали друг для друга живой библиотекой невысказанных мыслей и непрожитых жизней. Он читал ей отрывки из скучных академических трудов, которые правил, язвительно и точно комментируя логические нестыковки в рассуждениях маститых профессоров. Она включала камеру и медленно, держась за подоконник, вела её на ночное небо, показывая ему Орион, Большую Медведицу, тусклую точку Марса, рассказывая легенды, которые читала в старых, потрёпанных арабских манускриптах, найденных на антресолях.
Однажды вечером, когда за окном его квартиры разыгрывался настоящий шторм, а в её комнате стояла непривычная для лета прохлада, он попросил её: «Нарисуй что-нибудь. Прямо сейчас. Я хочу видеть, как твои пальцы творят. Хочу видеть процесс».
Она засмущалась, почувствовав внезапный прилив паники.
– Я не могу… при тебе. Это слишком… интимно. Как раздеваться.
– Вся наша жизнь сейчас – это сплошная, тотальная интимность, Лейла, – его голос прозвучал нежно, но настойчиво. – Мы уже давно разделись догола перед друг другом. Пожалуйста. Подари мне это.
Она не нашлась, что ответить. Молча достала планшет и стилус. Её правая рука, обычно такая неуклюжая и капризная, обхватила гаджет, будто вцепившись в спасательный круг посреди бушующего океана. Она включила программу для рисования, выбрала кисть – широкую, мягкую – и начала. Сначала это были робкие, прерывистые линии, будто прощупывающие пространство. Потом они начали сливаться в формы, наполняться цветом – сначала холодными, синими и фиолетовыми тонами, потом ворвался огненно-оранжевый, затем – глубокий изумрудный. Она рисовала, не глядя на экран, уставившись прямо в камеру, в его глаза. Она рисовала его портрет. Но не того Ави, которого видела – уставшего, иссечённого морщинами мужчину в инвалидной коляске. Она рисовала того, кого видела своим внутренним, абсолютным зрением: человека с сильными, жилистыми руками, с гордо поднятой головой, с глазами, полными не усталости, а огня, ума и той самой ярости, которую он так тщательно скрывал ото всех, включая самого себя. Она нарисовала его стоящим на берегу бушующего моря, у его ног с грохотом разбивались пенные валы, а за спиной, на скале, простирался футуристический город из стекла и света, который он когда-то, в юности, мечтал проектировать.
Когда она закончила и перевернула планшет, чтобы он увидел результат, он долго молчал. Потом его губы задрожали, и он провёл рукой по лицу, скрывая на мгновение предательски заблестевшие глаза.
– Это… я? – его голос сорвался на шепот, ставший хриплым.
– Это тот, кого я вижу, когда слышу твой голос, – тихо ответила она, внезапно почувствовав страшную усталость, как будто только что вложила в этот рисунок все свои оставшиеся силы.
В тот вечер они оба, не сговариваясь, поняли нечто фундаментальное. Они создали друг для друга новые тела. Виртуальные, сотканные из слов, взглядов и цифровых мазков, но от этого не менее реальные и осязаемые в пространстве их чувств. Он был для неё сильным, свободным, цельным. Она была для него неиссякаемым источником творческой силы, неистовой и цельной в своей хрупкости. Они существовали в этом совместно созданном измерении, где их физические оболочки, эти неудобные и предательские скафандры, не имели ни малейшего значения. Это была сложная химическая реакция, происходящая в стерильной колбе цифрового пространства. Реакция, которая давала им достаточно тепла и света, чтобы не замерзнуть в леденящем одиночестве их реальных жизней.
Глава 10: Политика тела
Их хрупкий мир, однако, существовал не в безвоздушном пространстве. Вакуум, как известно, имеет свойство заполняться. Реальность ворвалась в их отношения не с оглушительным грохотом бомб или скандалов, а с тихим, методичным щелчком отключения сервера.
Это случилось в пятницу вечером. Ави как раз закончил правку монументального труда по средневековой схоластике и с облегчением откинулся в коляске, чувствуя приятную, почти что спортивную усталость в мышцах плеч и спины после ночной «тренировки». Он уже мысленно представлял её улыбку, слышал в воображении её хрипловатый смех, когда на экране монитора вместо привычного интерфейса мессенджера возникла сухая, безличная ошибка: «Невозможно установить соединение. Проверьте настройки сети».
Он не придал этому значения. Перезагрузил программу. Потом – компьютер. Потом – роутер. На экране снова и снова возникала та же настойчивая, алая надпись. Тихое беспокойство, похожее на щекотку в основании черепа, заставило его открыть новостную ленту. Поиск выдал лаконичный и леденящий душу заголовок: «В связи с эскалацией боевых действий на восточных подступах к Триполи введены временные ограничения на доступ к международным интернет-каналам».
«Временные ограничения». Эти два слова ничего не значили и в то же время означали всё. Час? День? Неделю? Месяц? Вечность?
Первые несколько часов он провёл в лихорадочных, тщетных попытках подключиться. Он перепробовал все возможные сети, включая мобильный интернет, разрядив батарею смартфона до нуля. Безрезультатно. Паника, холодная и липкая, начала медленно подниматься по его телу, как приливная волна в узком заливе. Он представлял её одну, в её полу тёмной комнате, возможно, напуганную до оцепенения, возможно, так же лихорадочно пытающуюся дозвониться до него. А что, если бои идут уже не на окраинах? Что, если её дом, этот старый, ветхий дом, находится на линии огня? Что, если… Он резко оборвал себя, не позволив сознанию дорисовать самые чёрные картины.
К вечеру он не мог ни есть, ни сидеть на месте. Он попытался вернуться к работе, правил текст, но делал глупейшие, детские ошибки, которые сам же с яростью и ловил. В конце концов, он откатился от стола и включил телевизор – редчайшее для него дело – и уставился на новостной канал. Диктор с каменным, бесстрастным лицом монотонно рассказывал о передвижениях войск, о введённых санкциях, о громких, но пустых политических заявлениях. Ни единого слова о простых людях, запертых в своих домах. Ни единого слова о Лейле.
Цви вернулся поздно, пахнущий потом, пылью и дешёвым виски. Он молча прошёл в свою комнату, но, увидев Ави, застывшего перед мерцающим экраном телевизора, остановился на пороге гостиной.
– Что случилось? – спросил он, его голос был хриплым от усталости и выпитого. – Редкостное зрелище. Апокалипсис объявили?
– В Ливии, – выдавил Ави, не отрывая взгляда от экрана, где сейчас показывали карту со стрелами наступлений, – отключили интернет. Полностью.
Цви тяжело вздохнул, словно ожидал именно этого. Он подошёл к мини-бару, встроенному в стену, налил себе виски, потом, после недолгой паузы, налил второй стакан и протянул его Ави.
– Держи.
– Я не хочу.
– Я сказал, держи, – голос Цви не допускал возражений.
Ави взял стакан. Его рука дрожала, и золотистая жидкость расплескалась, оставив тёмные пятна на брюках.
– Она одна там, Цви. Совсем одна. Её мать в больнице. А там… – он бессильно махнул рукой в сторону телевизора. – Ты же понимаешь, что там может твориться?
– Понимаю, – Цви отпил большой глоток и поморщился. – Но твои истерики и метания ей не помогут. Ничем не помогут. Так что пьём. Молча.
И они сидели. Сидели в гулкой, непривычной для этой квартиры тишине, нарушаемой лишь бессвязными репортажами с другого края их общего моря. Это был первый раз, когда Цви не сказал ничего осуждающего, ничего язвительного. Он просто сидел и пил вместе с братом, разделяя его абсолютное, гнетущее бессилие. В этом жесте была странная, грубая, почти звериная форма поддержки, которую Ави с изумлением для себя осознал и принял.
На следующий день интернет не появился. Ави не сомкнул глаз всю ночь. Он отправил ей десятки сообщений в надежде, что хоть одно, самое первое, уйдёт в эфир, когда связь появится. Он писал о своём страхе, о своей ярости на эту абсурдную ситуацию, о том, как отчаянно он скучает по звуку её голоса. Он писал, что любит её. Впервые. Прямо, без обиняков, без философских аллегорий. «Я люблю тебя, Лейла. Держись. Пожалуйста, просто держись».
Прошло двое суток. Сорок восемь часов немого ада. Ави почти не ел, не работал. Он просто сидел у окна и смотрел на море, которое вдруг снова превратилось из символа свободы в безразличного, могущественного врага, в водяной барьер, в непреодолимую стену.
На третье утро, когда он в сотый раз, почти машинально, ткнул пальцем в иконку мессенджера, связь внезапно, чудесным образом появилась. Сообщения не отправлялись, а сыпались на него настоящим водопадом, обрушиваясь градом уведомлений. Десятки голосовых сообщений от Лейлы. Самый первый был записан в день отключения. Её голос был сдавленным, полным неподдельного, животного ужаса.
«Ави… У нас что-то случилось. Всё пропало. Я не могу… Я не могу тебе дозвониться. Если ты это слышишь, я… я здесь. Я здесь».
Последующие сообщения становились всё тише, всё отчаяннее, всё безнадёжнее. Он слышал на фоне гулкие, отдалённые взрывы. На пятом или шестом сообщении она уже не сдерживала слёз.
Он тут же, дрожащими руками, позвонил ей по видео. Она взяла трубку почти мгновенно, будто не отходила от экрана. Её лицо было серым, исхудавшим за эти несколько дней, глаза – огромными, обведёнными тёмными, почти фиолетовыми кругами, словно её избили.
– Ты жив, – выдохнула она, и это было не вопрос, а констатация немыслимого чуда, голосовой эквивалент падения на колени.
– Жив, – его собственный голос прозвучал хрипло и сипло. – Ты… цела? Не пострадала?
– Да. Бои были на окраине. До нас не долетело. Но было так страшно… Я думала… – она не договорила, просто закрыла глаза, и по её щекам медленно покатились слёзы, на этот раз – тихие, облегчённые.
Они молча смотрели друг на друга, дыша в унисон через сотни километров, будто заново учась этому простейшему акту существования. Впервые их цифровая близость ощущалась не как побег от реальности, а как единственная, тончайшая нить, связывающая их с реальностью, в которой другой человек ещё жив. Их любовь в тот день перестала быть просто чувством. Она стала актом сопротивления. Сопротивления войне, болезням, расстоянию, равнодушию мира. И цена этого сопротивления с каждым днём становилась всё выше и страшнее.
Глава 11: Арифметика надежды
После того случая с отключением интернета в их отношениях произошёл едва заметный, но фундаментальный сдвиг. Отчаянная, почти истерическая надежда сменилась холодной, методичной, почти что математической решимостью. Если мир – эта огромная, безразличная машина – пытается их разлучить, они должны бросить ему вызов. Не эмоциями, а расчётом. Не мечтами, а конкретным планом.
Идея встречи в нейтральной стране, которая раньше казалась сладкой, но невозможной фантазией, теперь обрела черты конкретного, пусть и невероятно сложного, инженерного проекта. После долгих обсуждений они выбрали Стамбул. Город на воде, мост между континентами, Европой и Азией, место, где когда-то, в далёком прошлом, относительно мирно уживались разные культуры и религии. Для них он стал символом нейтральной территории, условным экватором, где могли бы встретиться израильтянин и ливийка, не чувствуя за спиной груза вековой вражды.
Их разговоры превратились в ежевечерние совещания двух глав штаба, планирующих сложнейшую секретную операцию по преодолению невозможного.
– Смотри, – говорил Ави, его голос звучал сосредоточенно, как у хирурга перед сложной операцией, – я изучил отзывы. Turkish Airlines имеет лучший рейтинг по помощи пассажирам с ограниченной мобильностью. Мне потребуется сопровождающий от авиакомпании от самого выхода из такси и до посадки в самолёт в Тель-Авиве. То же самое – в аэропорту Сабиха Гёкчен. Они должны помочь с багажом, прохождением контроля, посадкой.
– А документация? – спрашивала Лейла, её пальцы лихорадочно листали на планшете вкладки браузера с визовыми требованиями. – Виза для меня… это отдельный квест. Но для краткосрочной турпоездки, если есть подтверждённая бронь отеля и обратный билет, шансы есть. Нужно собрать справки, выписки…
– Отель я уже присмотрел, – делился он, пересылая ей ссылку. – В районе Султанахмет. Не самый дешёвый, но недалеко от основных достопримечательностей, чтобы мы могли хоть что-то увидеть, не тратясь на долгие трансферы. Главное – в нём есть полностью адаптированные номера с широкими дверями, поручнями в ванной и кнопкой экстренного вызова. Я отправил им детальный запрос.
Они создали общий зашифрованный файл в облачном хранилище, куда скрупулёзно вносили все данные: стоимость перелётов в обе стороны, номеров на трое суток (больше они не могли себе позволить), трансферов из аэропорта и обратно. Они подсчитали, сколько им нужно откладывать каждый месяц, разбив сумму на две неравные, но посильные части. Итоговая цифра была астрономической для них обоих, повергнув их на несколько дней в молчаливый шок.
Так началась их тайная, изнурительная финансовая война за собственное будущее. Ави отказался от всего, без чего мог хоть как-то обойтись. Он перестал покупать новые книги, перейдя на пиратские PDF, хотя раньше презирал такое отношение к тексту. Он урезал свои и без того скромные траты на еду, перейдя на самые простые продукты. Он даже тайком продал через онлайн-аукцион несколько старых, ценных изданий по философии из библиотеки своих родителей, соврав Цви, что они ему просто не нужны и пылятся зря.
Лейле было сложнее. Денег в семье всегда не хватало. Её мизерная пенсия по инвалидности уходила на лекарства, а сбережения матери таяли на оплату больницы и сиделок. Но однажды, листая в отчаянии международные сайты, она наткнулась на платформу для цифровых художников, где продавали NFT и обычные цифровые работы. Рискуя, она завела абсолютно анонимный аккаунт, не указывая своего настоящего имени, диагноза или места жительства, и выставила на продажу несколько своих самых ярких, безумных и оттого самых честных абстракций. Она назвала их «Вихрь», «Кристалл дыхания», «Средиземноморская ночь». Цены поставила минимальные, почти символические, лишь бы купили, лишь бы эти картины, эти кусочки её души, начали работать на её мечту.
Через неделю «Средиземноморскую ночь» – бурлящий хаос синих, золотых и серебряных мазков – купил какой-то анонимный коллекционер из Канады. Потом ещё две. Выручка была совсем крошечной, смехотворной по меркам настоящих художников, но для Лейлы эти несколько десятков долларов, пришедшие на её тайный электронный кошелёк, пахли не пластиком кредитной карты, а свободой. Это были её личные, заработанные её талантом и болью, средства на билет к нему. На билет к себе самой.
Они не смели говорить о встрече вслух даже наедине с собой. Это была их сакральная, заветная тайна, их общий сговор против враждебного мира. В их общем файле постепенно, миллиметр за миллиметром, росла таблица с расходами, и с каждым заполненным пунктом, с каждой вычеркнутой статьёй надежда становилась всё более осязаемой, почти материальной. Они уже могли в деталях, с закрытыми глазами, представить себе этот момент: как она, бледная и дрожащая от волнения, выходит из зоны прилёта, как он подъезжает к ней на своей бесшумной коляске, как их руки, наконец-то, преодолевая последние сантиметры реального пространства, соприкасаются. Не в воображении, не в цифровом эфире, а наяву. Кожа к коже. Тепло к теплу.
Однажды вечером, вдохновлённая их общими расчётами, Лейла нарисовала их будущее. На рисунке они были в Стамбуле, на пустынном берегу Босфора, в предрассветный час. Он сидел в своей коляске, а она стояла рядом, опираясь одной рукой на его сильное плечо, другим – на парапет набережной. Они смотрели на тёмную, медленную воду, а за их спинами, в розовеющем небе, возвышались острые иглы минаретов и слепящие огни большого, не спавшего города. Она намеренно не стала прорисовывать их лица, оставив лишь силуэты, которые сливались в один тёмный, неразрывный контур на фоне заходящей луны.
Отослав ему рисунок, она получила в ответ лишь одну-единственную фразу, от которой у неё ёкнуло сердце: «Скоро».
Это «скоро» стало их мантрой, их ежедневной молитвой, их кислородом, который они вдыхали в своих герметичных мирах. Оно грело их холодными ночами, когда боль в мышцах не давала уснуть, и давало силы бороться с отчаянием и унижением дня. Они занимались арифметикой надежды, скрупулёзно складывая шекели и лирские монеты в копилку своего невозможного, единственного и такого желанного счастья.
Глава 12. Ави: Топография тишины
Тишина после ссоры с Цви была иного свойства. Она не была пустотой – она была густой, вязкой, насыщенной невысказанным. Цви перестал быть стеной; он стал призраком. Он приходил и уходил бесшумно, оставляя еду на столе, поправляя плед на коленях Ави, но их взгляды больше не встречались. Он исправлял поломки в их совместном быту с механической точностью, но душа их общего пространства была мертва. Ави чувствовал себя узником, чей тюремщик внезапно забыл о его существовании, оставив дверь камеры запертой, но перестав приносить пищу для ума – упрёки, замечания, даже тяжёлое дыхание усталости.
Его восстание было подавлено, но не его воля. Отчаяние, в котором он тонул первые несколько дней, постепенно кристаллизовалось в нечто твёрдое и холодное, как речной лёд. Он не мог изменить макрокосм – болезнь Лейлы, войну в Ливии, инерцию собственного тела. Но он мог попытаться подчинить себе микрокосм – пространство своей квартиры.
Он возобновил ночные тренировки с удвоенной яростью. Теперь это был не просто путь к гипотетической свободе, а акт самосохранения. Боль в мышцах плеч и спины стала его единственным подтверждением того, что он ещё жив, что он ещё может что-то изменить. Он составлял карты своего жилища не как инвалид, а как полководец, изучающий поле предстоящей битвы. Угол между гостиной и коридором, где ковёр заминался, создавая опасный бугор. Точное усилие, необходимое, чтобы открыть тугой ящик комода, не опрокинувшись. Он учился предвидеть предательство собственного тела, как шахматист предвидит ходы противника.
Однажды ночью, пытаясь дотянуться с коляски до высоко расположенной розетки, чтобы включить зарядное устройство, он потерял равновесие и рухнул на пол. Удар был глухим и унизительным. Он лежал на прохладном паркете, прижатый весом собственного непослушного тела, и смотрел в потолок. В горле стоял ком. Не от боли, а от стыда. Он представил, как Цви найдёт его здесь утром – жалким, беспомощным, побеждённым.
И тогда из глубины памяти всплыл её голос, тихий и с свистящим вдохом: «Мы с тобой сегодня покорили свои Эвересты».
Он сжал зубы. Уперелся локтями в пол. Мышцы на руках вздулись от напряжения, спина горела огнём. Медленно, сантиметр за сантиметром, он подтянул тело, ухватился за колесо коляски и, используя его как точку опоры, с нечеловеческим усилием втащил себя обратно в седло. Он сидел, тяжело дыша, весь в холодном поту, но победа, крошечная и никому не видимая, отдалась в нём сладкой, почти эйфорической дрожью. Он не позвал на помощь. Он справился сам.
На утро Цви, как обычно, молча поставил перед ним завтрак. Его взгляд скользнул по ссадине на локте Ави, но он ничего не спросил. Молчание было их новым договором.