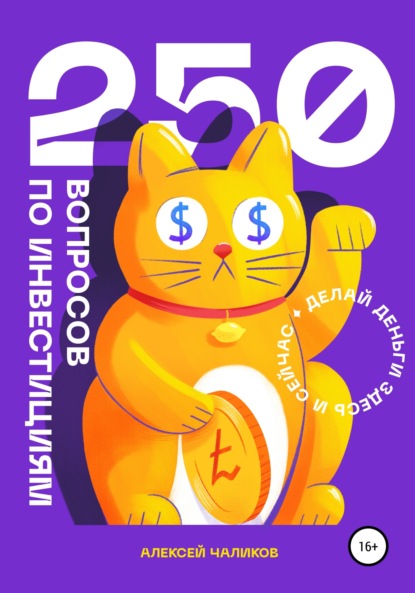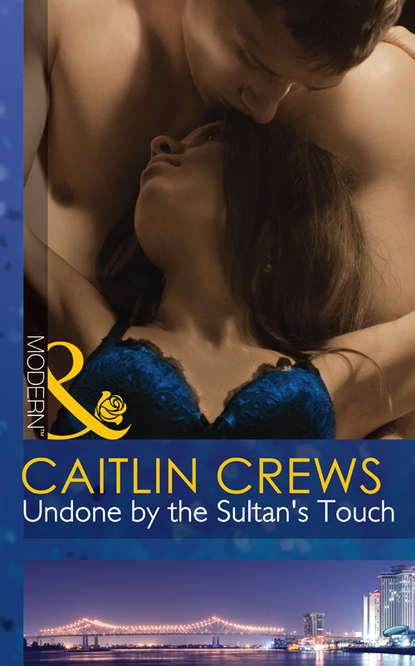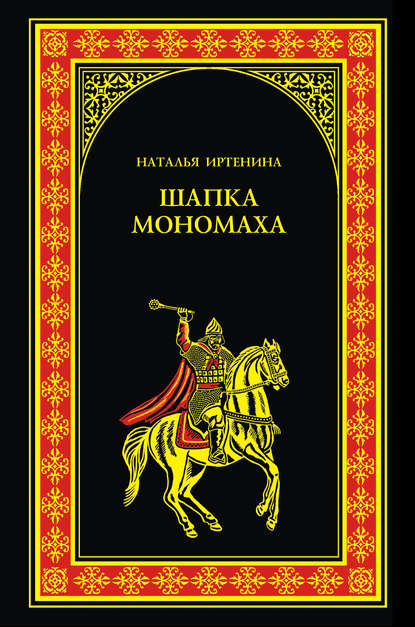Бурбоны. Игры престола

- -
- 100%
- +
Настало время поговорить о фаворитках. Находясь на Троне более семидесяти лет (с 1643-го по 1715 г.), Людовик XIV провёл неплохую жизнь. «L’État c’est moi» – это выражение «короля-солнца»; да и само выражение «Roi-Soleil» [73] – тоже его сюжет. Вот и женщины: этого баловня судьбы обворожительные дамы окружали чуть ли не с детства. С ранней юности – точно. Придворные дамы буквально мечтали лишить невинности молоденького монарха. Быть первой у самого Людовика XIV! О, как это заманчиво…
И вот что об этом пишет Ги Бретон: «Некоторые придворные дамы пытались обратить на себя его внимание тем, что прогуливались перед ним в открытых платьях, едва прикрывавших их женские прелести, другие будто нечаянно приоткрывали свою грудь. Были и такие, которые дошли до того, что за закрытыми дверями делали непристойные и совсем неуместные жесты…» [74]
Анна Австрийская как могла боролась с попытками совращения сына. Некоторых (наиболее бесстыдных) дам королева-мать просто-напросто удаляла от двора. Так, например, произошло с герцогиней де Шатийон, которая не давала юноше проходу. И, надо сказать, матушка оказалась достаточно бдительной: старший сын лишился невинности почти в пятнадцать лет.
Первой женщиной, которой удалось-таки соблазнить юного короля, оказалась камеристка королевы мадам де Бове. Катерина-Генриетта Беллье, баронесса Бове, являлась придворной дамой, выполнявшей самые «щекотливые» поручения Анны Австрийской. Современники описывали её как умную, склонную к интригам и надёжную компаньонку вдовствующей королевы. Правда, старались умалчивать, что мадам Бове была безобразна, выглядев этакой косоглазой толстушкой. Дабы не пугать окружающих своим косоглазием, она периодически надевала на глазницу повязку. В награду за преданность Бурбонам и гробовое молчание г-жа Бове получит богатую собственность и приличную пенсию. Именно «красотке Бове» королева-мать и поручит заняться половым воспитанием Людовика.
Об участии камеристки в совращении юного короля подтверждают несколько мемуаристов. Вот, например, что о ней писала принцесса Пфальцская [75] (1716 г.): «…Она была первой женщиной, научившей короля, как надо себя вести, оказавшись наедине с дамой. Ведя довольно распутный образ жизни, она знала толк в подобных делах» [76].
А это уже «Мемуары» Прими Висконти [77] (1676 г.): «Уверяют, что именно она лишила невинности короля, когда он был еще в самом юном возрасте. Теперь же при встрече с ней король не может удержаться от смеха» [78].
Камеристка де Бове королеву не подвела. Однажды она подкараулила короля, выходящим из ванной комнаты и, не дав тому опомниться, увлекла его к себе. Что делать дальше, эта женщина, в отличие от юноши, прекрасно знала, ведь ей было почти сорок. «Уроки» от мадам Бове продолжались несколько месяцев, после чего монарху открылся целый мир чувственных наслаждений. Войдя во вкус, Людовик быстро понял, что может обходиться и без старухи-наставницы, всё чаще и чаще наведываясь в комнаты юных фрейлин. Когда кто-то из них запирался, король (вдумайтесь: король!) забирался на крышу и по водосточной трубе спускался к распахнутому настежь окну. Если верить г-ну Бретону, однажды он «попал в свой гарем через дымоход камина» [79]. O tempora! O mores!..
* * *Брак Людовика XIV с Марией Терезией Испанской из династии Габсбургов (дочь короля Испании Филиппа IV и Изабеллы Французской (Бурбонской)) вряд ли назовёшь безоблачным. Это был брак государственных интересов Франции и Испании. Немаловажным фактором стало и крупное приданое за невестой в виде пятисот тысяч золотых эскудо. Правда, для этого принцесса должна была отказаться от притязаний на испанский престол. В случае неполной выплаты Франция могла претендовать на часть обширных испанских владений, в том числе – в Новом Свете. Но не это – не это! – главное. Ведь главное заключалось в другом: Франция и Испания уже два десятилетия вели непримиримую войну за европейское влияние. И если бы не вездесущий Мазарини [80] – воевать бы этим державам до скончания века. Именно стараниями кардинала данный брак положил конец извечной вражде двух королевских домов – французского и испанского.
Вообще, с венценосной супругой они были два сапога пара. Несмотря на то что этот союз оказался достаточно прочным, Людовик и Мария Терезия беззастенчиво изменяли друг другу; правда, оба относились к этому достаточно спокойно.
Когда королева родила чернокожую девочку от слуги-нубийца, Луи, ничуть не смутившись, лишь поинтересовался у первого медика Фагона:
– Это что ещё за сюрприз такой? В чём дело, лекарь?..
– Э-э… причина, Сир, по-видимому, в том, что слуга слишком пристально смотрел на королеву, – не растерялся находчивый доктор.
– Ха-ха, взгляд его, надо думать, был весьма проникновенным, – рассмеялся король.
Впрочем, монарху было не до жены: его больше волновали фаворитки, коих было не счесть. Графини, герцогини, маркизы…
«Людовик скучает с королевой, – замечает Эрик Дешодт, – она очень мила, но в ней нет ни обаяния, ни веселости. Он начинает выказывать интерес к Генриетте Английской, жене своего брата, которая испытывает отвращение к мужу, оказывающему предпочтение лицам одного с ним пола, разукрашенному лентами и драгоценностями и благоухающему терпкими духами… Отношения короля с невесткой заходят довольно далеко. Высокого роста, худая, сутулая, с отвисшей нижней губой, но с прелестным опаловым цветом лица, она конечно же понимает свою непривлекательность, а потому старается быть любезной. Ей 16 лет. Отношения Людовика и Генриетты не остаются незамеченными. Месье жалуется матери. Анна Австрийская бранит Генриетту. Генриетта предлагает Людовику, чтобы отвести от себя подозрения, сделать вид, будто он ухаживает за одной из ее фрейлин. Они выбирают для этого Луизу де ла Бом ле Блан, девицу Лавальер, семнадцатилетнюю уроженку Турени, восхитительную блондинку…» [81]
Как уверяет нас Жорж Ленотр, красота представляет собой абсолютную ценность и бесспорное преимущество. И с ним, безусловно, согласны все женщины мира. Но… не мужчины. Потому что опытный мужчина знает: в женщине главное не красота. В женщине самое ценное – шарм!
Двадцатилетняя Луиза-Франсуаза де Лавальер (правильнее де ла Вальер), герцогиня Лавальер и Вожур, – одна из первых официальных фавориток Людовика XIV (с 1661 по 1667 год). Поначалу являлась фрейлиной Генриетты Орлеанской (дочери казнённого в Англии короля Карла I), проживавшей при французском дворе. Девушка покорила сердце короля не красотой и не грацией, но тем самым неповторимым шармом, который король чрезвычайно ценил. Ведь не будь у неё этого самого шарма, монарх и не взглянул бы на такую: Луиза была хромоножкой.
Тем не менее мадам де Севинье называет её «фиалочкой, скрывавшейся в траве», которая «стыдилась быть любовницей, быть матерью, быть герцогиней» [82].
В 1661 году во время прогулки в Венсеннском лесу Людовик признался Луизе в любви и предложил стать его официальной фавориткой. Почему бы нет? – читалось в улыбке монарха. Но для самой Луизы предложение короля, которое другая восприняла бы за счастье, оказалось большим испытанием. Во-первых, считала она, прелюбодеяние – большой грех; а во-вторых, как на всё это отреагирует Мадам? Терзаясь, словно птичка в клетке, фрейлина поначалу пыталась уклоняться от встреч с королём, но Людовик, засыпав возлюбленную письмами, добивался свиданий. И когда монарху удалось-таки покорить очередную «крепость», Луиза оказалась меж двух огней: она продолжала оставаться фрейлиной бывшей королевской любовницы, которая теперь не давала ей спуску! Да ещё муки совести, которые терзали несчастную день и ночь.
И тогда она решается покинуть двор и уйти в монастырь босоногих кармелиток. Но не тут-то было! Король вынудил её вернуться.
К. Биркин: «Самой привлекательной и похвальной чертой в характере Ла Вальер было её бескорыстие; никогда ничего она не домогалась и не выпрашивала у короля; подарки его принимала с непритворным неудовольствием; посещая праздники, даваемые в ее честь, душевно скорбела за их роскошь, тяжким гнетом падавшую на бедный народ. Истая идеалистка, Ла Вальер была бы вполне счастлива, если бы по примеру пастушек… могла жить в хижине со своим ненаглядным, пасти овечек и плести ему венки из роз с куста, насажденного перед дверьми убогого жилища. Таковы были ее желания, конечно, неисполнимые; но король смотрел на любовь иными глазами: роскошь и великолепие были его насущными потребностями. Вместо желанной хижинки он воздвигал дворцы и увеселительные замки; вместо кустика розанов разводил огромные сады, рощи и парки, населенные беломраморными статуями, вместо овечек, беспечно прыгающих на травке, созывал тысячи гостей на балы и праздники» [83].
Поначалу любовники старались скрывать свои отношения, встречаясь либо ночью на аллее Фонтенбло, либо – у графа де Сент-Эньяна, предоставлявшего свои покои влюблённому монарху. «На страже» во время свиданий, как правило, стояла Ора де Монтале, подруга Луизы. Ну а любовные отношения Людовика с Генриеттой Орлеанской к тому времени полностью сошли на нет. После того как однажды Луиза сбежала в монастырь, король, вернув беглянку обратно, был вынужден поговорить о ней с бывшей любовницей:
– Я хочу, Мадам, чтобы вы относились к Луизе со всей возможной заботой и любовью. Да, и не забывайте, что от ваших отношений к ней зависит моё отношение к вам… Не обижайте госпожу де Лавальер, не советую…
После того как Луиза забеременела, король по её просьбе купил фаворитке маленький одноэтажный особняк близ Пале-Рояля.
– Этот особнячок – он так тесен, – возмущался Людовик. – Не приобрести ли, мадам, для вас какой-нибудь дворец?
– Ваше Величество, только не это! – испугалась Луиза. – В таком случае каждый узнает о нашей тайне…
Вздыхая, король с ней соглашался.
В декабре 1663 года Луиза де Лавальер родила королю сына, которого нарекли Шарлем. По приказу Кольбера ребёнка в тот же день отняли у рыдающей матери и отнесли в дом торговца Бошама и его жены, имена которых в качестве родителей были вписаны в церковную книгу. Правда, слухов о внебрачном ребёнке короля избежать так и не удалось, ибо весь Париж только об этом и судачил.
Через какое-то время в том же особняке появился на свет ещё один сын, Филипп, отданный на воспитание некоему Франсуа Дерси и его супруге. В этот раз роды происходили в присутствии самого Людовика, который как мог утешал Луизу. То ли присутствие короля, то ли по другой какой причине роды протекали тяжело. В какой-то момент госпожа де Шуази, принимавшая роды, потеряв самообладание, воскликнула:
– Боже, она умерла!..
Король, привалившись к стене, заплакал навзрыд.
– Умоляю, спасите её! Умоляю…
Луиза выжила. Позже она родит королю ещё двух детей [84].
Поселив-таки фаворитку в Версальском дворце, Луи сообщил законной супруге, что отныне ей придется жить бок о бок с этой женщиной. И отныне появляться везде они (король и фаворитка) будут вместе – на дипломатических приемах, в соборе и даже на охоте. Тем более что Луиза, согласно указу короля, будет возведена в титул герцогини.
Тем временем королева-мать, Анна Австрийская, умирала. Придворные лекари диагностировали у неё рак груди.
«Лечил ее знаменитый тогда врач Жандрон, лечил неудачно, – сообщают исследователи личной жизни Людовика XIV Т. Умнова и Е. Прокофьева. – Болезнь расползалась, разрушая некогда прекрасное тело. Анне сделали операцию – очень неудачно, на прооперированном участке осталась незаживающая рана, беспрестанно истекавшая гноем и источавшая зловоние. Анна Австрийская, так ценившая красоту своего тела, обожавшая изысканные ароматы, страдала под конец жизни не только физически, но и морально: она видела, что приближенные брезгуют ею. День и ночь сжигались в ее опочивальне драгоценные курения из ее коллекции – но ничто не могло заглушить запах гниющей заживо плоти. Но королева принимала страдания со смирением, подобающим истинной христианке: она считала, что таково наказание Божие за то, что она так холила свое тело…» [85]
Анна Австрийская скончалась 20 января 1666 года.
Но жизнь продолжалась: в октябре следующего года Луиза де Лавальер родила королю ещё одного сына, названного в честь отца – Людовиком [86]. Но в этот раз король отнёсся к рождению ребёнка достаточно прохладно – в те дни у него в самом разгаре был роман с мадам де Монтеспан…
Рано или поздно всё заканчивается.
«В мае 1667 года мадемуазель де Лавальер получает титул герцогини де Вожур, – пишет Жан – К. Птифис. – Это прощальный подарок Людовика; но Луиза, по-прежнему любящая короля бескорыстной любовью, не признает очевидности разрыва. Стремясь изо всех сил удержать свое положение, она страдает, вынужденная сносить грубые отказы своего любовника, который порой возвращается к ней – когда беременеет госпожа де Монтеспан. Когда король путешествует по провинции, он уже не колеблется появляться «на глазах у всех в кампании королевы и двух любовниц – все три женщины едут с ним в одной карете, отчего королева, разумеется, чувствует себя униженной. Зевак берет оторопь, когда они видят, что в королевской карете едут сразу «три королевы» – вскоре их будут называть именно так» [87].
Когда мадам де Лавальер поняла, что король к ней окончательно охладел, она испросила дозволения принять постриг.
«Последним оскорблением, которое переполнило чашу ее терпения, – пишет Ги Бретон, – стал приказ короля присутствовать 18 декабря 1673 года в церкви Сен-Сюльпис в качестве крестной матери на церемонии крещения дочери мадам де Монтеспан» [88].
Несносная выходка короля оказалась беспощадной пощёчиной! Получив согласие на уход в монастырь, герцогиня предпочла свету общество кармелиток на парижском бульваре Сен-Жак, став для всех сестрой Louise-Clémence [89].
Как пишет об этой женщине Вольтер, «обращение её к Богу прославило её так же, как и её нежность». Далее он продолжает: «Она была монахинею в Париже и пребыла ею неизменно; одевалась в власяницу, ходила босая, строго постилась проводила ночи в пении молитв, нимало не сетуя о былой роскоши и той неге, в которой она проводила свою молодость. Тридцать пять лет прожила она таким образом (1675–1710). Если бы король наказал подобным заточением виноватую, его назвали бы тираном, а между тем так наказывала себя сама Ла Вальер за то, что любила его» [90].
Луиза де Лавальер проживёт в монастыре тридцать шесть лет, поддерживая душу молитвами, а тело постами. Там же, в монастыре, она напишет книгу «Размышления о милосердии Божьем», пользовавшуюся необыкновенной популярностью среди добрых католиков. Монахини почитали Луизу за святую, однако король так к ней ни разу и не приехал. Как тут не вспомнить: Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi [91].
* * *Действительно, «Юпитеру» было не до старой любовницы. У короля появилась новая очаровательная фаворитка: Франсуаза-Атенаис де Рошешуар, маркиза де Монтеспан. И любовь монарха к этой женщине будет длиться необычайно долго – целых шестнадцать лет (с 1667 по 1683 год).
Современник так описывал прекрасную Атенаис [92]: «Блондинка с большими голубыми глазами, нос с горбинкой (но правильной формы), красиво очерченный небольшой рот с алыми губами и великолепные зубы [93] – словом, она была неотразима. Росточком маркиза была не выше короля и великолепно сложена» [94].
Тем не менее, в отличие от мадам де Лавальер, она выглядела настоящей толстушкой, хотя это не мешало Людовику исполнять все капризы новой фаворитки. Захотела для себя, любимой, два десятка комнат – получи (Мария Терезия размещалась в апартаментах существенно меньших); пожелала, чтобы на балах шлейф несла придворная герцогиня – пожалуйста (шлейф королевы обычно придерживал придворный паж); вознамерилась в своём саду развести коз и закупить медведей – никто не запрещает, разводи и закупай; проиграла в карты тысячу-другую ливров – казна восполнит потерю с лихвой. И понять короля можно: ведь толстушка родила ему семерых детей!
Принцесса Пфальцская вспоминала: «Мадам де Монтеспан, открыто высмеивая мадемуазель де Лавальер, заставляла короля следовать её примеру. Поэтому он был с ней груб, насмешлив, а порой вёл себя просто оскорбительно. А так как в апартаменты мадам де Монтеспан он мог попасть, только пройдя через комнату мадемуазель де Лавальер, он брал с собой по совету маркизы маленького спаниеля по кличке Малис, которого передавал герцогине в руки со словами: «Держите, мадам, он вполне может составить вам компанию. С вас хватит и этого!» И, не задерживаясь, проходила в комнату маркизы» [95].
И это при том, что у фаворитки… был законный муж – Луи Анри де Пардайан де Гондрен, маркиз де Монтеспан.
Герцог Сен-Симон [96] подмечает: «…Виновником её блестящей судьбы был скорее её муж, чем она сама. Она предупредила его, что подозревает о любви короля к ней, потом не скрыла от него, что уже не сомневается в этом, уверяла его, что праздник, устраиваемый королём, предназначается для неё, торопила, настаивала, заклинала его, чтобы он увёз её в свою землю в Гиенне и оставил там, пока король её не забудет и не увлечётся кем-нибудь ещё, но ничто не могло убедить Монтеспана. Однако вскоре ему пришлось раскаяться…» [97]
Интересна история женитьбы Франсуазы. Несмотря на то что её будущий муж-маркиз был знатен, он не мог похвастаться богатством, поэтому для семьи Мортемаров (род невесты) не представлял большой выгоды. Но произошло почти невероятное.
Дело в том, что у Франсуазы был совсем другой жених, причём из очень хорошей семьи: Луи-Александр де Тремоль, маркиз де Нуармуатье. К несчастью, однажды он принял участие в роковой дуэли, трое участников которой были ранены и один убит. Выжившим (в том числе и маркизу де Нуармуатье), дабы избежать эшафота, пришлось бежать, поэтому ни о какой свадьбе речь уже не шла. Убитым дуэлянтом оказался брат маркиза де Монтеспана. Познакомившись с покинутой невестой, молодой человек влюбился в неё. Так возник другой роман, закончившийся появлением новой семьи.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Речь о Площади Отель-де-Виль (Place de l’Hôtel-de-Ville) – площади перед городской мэрией IV муниципального округа Парижа, носившей до 1803 года название Гревской (Place de Grève). Старое название площади происходило от французского слова «grève», означающее «плоский берег, покрытый галькой или песком».
2
Гуго Капет (около 940–996) – король франков (987–996), основатель королевской династии Капетингов, ставшей третьей по счёту династией после Меровингов и Каролингов. Аббата Гуго прозвали Капетом из-за того, что он носил мантию светского священника, которая называлась «капа». Последним представителем старшей ветви Капетингов на французском троне стал Карл IV Красивый. Затем к власти пришла династия Валуа (на французском престоле с 1328 (Филипп VI) по 1589 год (Генрих III)); её сменила династия Бурбонов (с 1589 (Генрих IV) по 1792 г. и с 1814 по 1830 г. (Карл X)), являвшаяся младшей ветвью семейства Капетингов.
3
Гимар, Гектор (1867–1942) – французский архитектор и дизайнер (стиль ар нуво). Именно он создал знаменитые входные павильоны парижского метрополитена – оригинальные кованые навесы над входами, этакие «воротца», как их прозвали сами парижане. До наших дней сохранилось 86 гимаровских «воротец».
4
Базиликами именуются наиболее значимые римско-католические храмы вне зависимости от их архитектурного решения.
5
Известно, что в марте 1814 года французы сдали Париж войскам русского императора Александра I без боя.
6
Сансон, Шарль-Анри (1739–1806), или «Великий Сансон», – самый известный палач из династии Сансонов, казнивший в Париже в годы Великой французской революции. Старший сын палача Шарля Жан-Батисты Сансона и его первой жены Мадлен Тронсон. Начинал помощником своего дяди – реймсского палача. После смерти отца в 1778 году официально заступил на должность палача Парижа. В октябре 1796 года вышел в отставку, передав должность своему старшему сыну Анри (1767–1840). В общей сложности провёл 2918 казней. Казнил французского короля Людовика XVI, его супругу Марию Антуанетту, Дантона, Робеспьера и многих других известных личностей. Умер в 67 лет, похоронен на парижском кладбище Монмартр (могила сохранилась).
7
Останки короля и королевы в 1815 году были эксгумированы, опознаны и перезахоронены благодаря местному жителю – адвокату-роялисту по имени Пьер-Луи Оливье Деклозо, проживавшему поблизости. Он аккуратно записал точное местоположение двух могил, а затем, выкупив в 1802 году этот участок земли, позже выставил его на продажу. Судя по всему, Людовик XVI и его супруга после казни были похоронены не в общей «братской могиле», а в неких безымянных могилах на данном участке, куда, к слову, свозили и прочих обезглавленных. Записи Деклозо оказались точными. При раскопках было обнаружено, что гроб с останками короля был зарыт на глубину десяти футов, то есть намного глубже стандартной могилы, и покрыт более толстым слоем негашеной извести. А Марию Антуанетту опознали по обнаруженной в могиле подвязке.
8
Кардинал Жюль Мазарини (Джулио Раймондо Маццарино; 1602–1661) умер 9 марта 1661 года, в третьем часу ночи, в возрасте 58 лет. Он страдал подагрой и камнями в почках. Мазарини заменил на любовном фронте Анны Австрийской герцога Бэкингема, об отношениях которого с королевой прекрасно написано в романе А. Дюма «Три мушкетёра».
9
Король умер – да здравствует король! (фр.).
10
Людовик II де Бурбон-Конде (Великий Конде; 1621–1686) – французский полководец, генералиссимус. При жизни отца, Генриха II де Конде, носил титул герцога Энгиенского. Известный фрондист. Кроме титула принца де Конде, был также герцогом де Бурбоном, герцогом де Монморанси и графом де Сансерр. Пэр Франции и первый принц крови.
11
Бретон, Ги. История любви в истории Франции (Histoires d’amour de l’histoire de France). В 10 томах. М.: Этерна. Т. IV. От великого Конде до Короля-Солнце. 2019. С. 17.
12
Де Л’Опиталь, Николя (1581–1644), маркиз (с 1642 г. – герцог) де Витри. Тот самый гвардейский капитан, убивший в 1617 году Кончино Кончини. За безупречное выполнение приказа был обласкан королём. Позже отличился при осаде Ла-Рошели. Будучи губернатором в Провансе, был обвинён в злоупотреблении властью, за что угодил в Бастилию. После смерти кардинала Ришельё вышел на свободу. Стал герцогом и пэром, а в 1643 году получил звание маршала Франции.
13
Тюренн (Turenne), Анри де Ла Тур д’Овернь (1611–1675) – главный маршал Франции в период правления Людовика XIV. Сын герцога Буйонского (одного из вождей гугенотов). Начинал военную службу в нидерландской армии под руководством своего дяди Морица Оранского. В 1630 году перешел на службу к французскому королю; в 1668-м стал католиком. В период так называемой Голландской войны, командуя одной из французских армий, был убит при рекогносцировке неприятельских позиций в районе Засбаха. В 1800 году прах маршала по распоряжению Первого консула Бонапарта был перенесён в Дом инвалидов.
14
Именно тогда эти сооружения из бочек, наполненных внутри землёй и связанных между собой цепями, впервые получили название «баррикад» (от фр. «baril» – бочка из-под вина).
15
Кожокин Е. М. Государство и народ. От Фронды до Великой французской революции. М.: Наука, 1989. С. 78. // Louis XIV. Memoires. P., 1978. P. 34–35.
16
Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 67. (Далее: Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях.)
17
Там же.
18
Кожокин Е. М. Указ. соч. С. 59.
19
Жан-Батист Мольер специально для этого случая написал комедию-балет в трёх актах «Докучные».