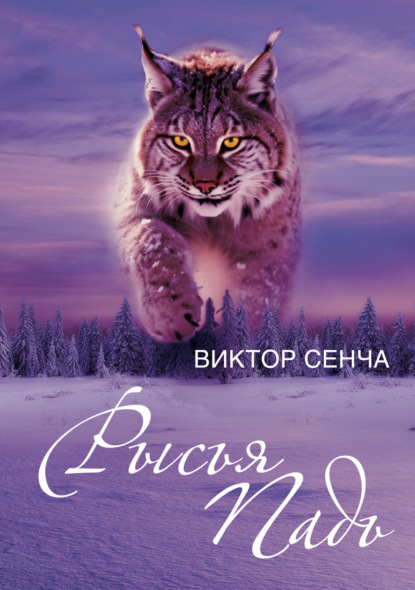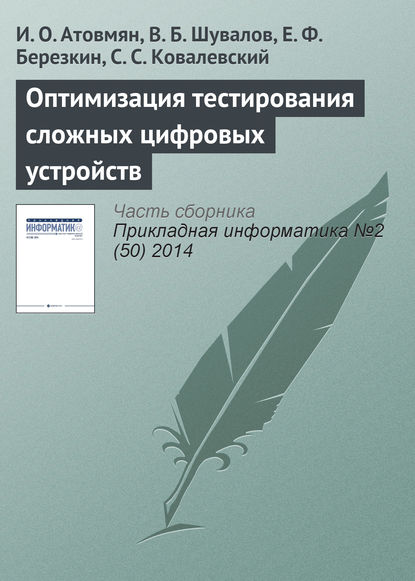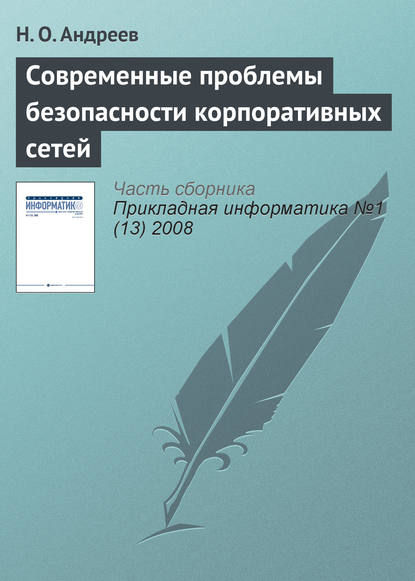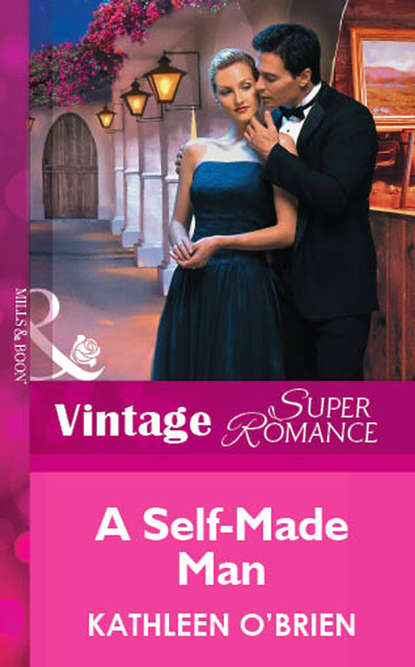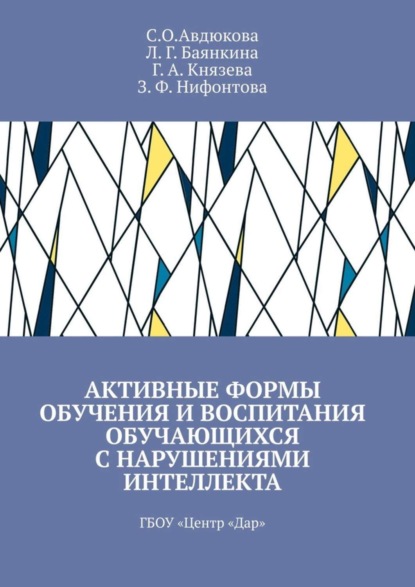- -
- 100%
- +
Обошлось. Лёгкой оказалась рука у военкома. Можно только догадываться, сколько слёз было пролито над тем сыновьим письмом, полученным дома родителями. Хотя Егор был предельно краток: жив, выздоравливаю после ранения, обещают выписать. И просил сильно не волноваться, всё позади, скоро приедет домой.
Отец с матерью быстро оформили отпуска и уже через неделю были в Москве, в Главном военном госпитале; чуть меньше суток езды – и уже в столице. Людская сутолока, теснота, метро, трамваи, троллейбусы, автомобильные «пробки»… «Как люди живут?! Впору помешаться! – дивились Озерковы. – Нет, у нас всяко лучше – тихо, всё ладком, упорядоченно, в общем – чин чином…»
В госпитальной проходной на них уже были выписаны пропуска. Вот и хирургический корпус, нужный этаж, палата…
– Сыно-о-ок!!!
Слёзы бисеринками заскользили по материнским щекам. Отец крепился, но и он чувствовал, что долго не продержится. А потому, взяв, что называется, быка за рога, подошёл ближе к закутанному в бинты сыну и нарочито твёрдо произнёс:
– Здравствуй, Егорка… Ну, ты молодца, сынок…
– Папка, – первое, что прошептал при виде отца Егор. – Да ты у меня, оказывается, совсем белый…
* * *Егор вернулся домой в конце лета – в те самые тёплые денёчки, когда лето, перемахнув Ильин день, постепенно, по чуть-чуть, отдаёт пальму первенства сонной, златокудрой осени.
Всю дорогу он мучился одной и той же мыслью о Наташе, хотя, трясясь в поезде, думать о плохом не хотелось. Вспоминал армейские будни, своих товарищей, погибшего комбата. Как-то там его ребята? Была б его воля, прямо сейчас, на очередной станции, пересел бы в вагон, идущий в обратном направлении, и помчался к ним…
Ещё год назад всё было не так: тихо и спокойно. Главное – стабильно. И вдруг – на́ тебе, война! А с другой стороны, размышлял он, кавказская война какая-то круглобокая: она есть – и вроде как её нет. Сколько людей ехали с ним в этом вагоне, и хоть бы кто слово о Чечне – всё больше о ценах, инфляции, дороговизне и собственной работе. Как будто нет никакой войны, сотен мальчишеских трупов и угрозы скатывания в широкомасштабную бойню. Какой-то закамуфлированной получается война. А вот для Егора она останется глубокой зарубкой – этаким шрамом на всю оставшуюся жизнь. На теле и в душе. А также в сердцах его отца с матерью.
Чем ближе сибирский поезд, натуженно гудя, подъезжал к Вятску, тем сильнее стучало в израненной груди: наружу выползали думы о Наташе, которая, как он помнил, когда-то обещала ждать. Родители в своих письмах о ней ничего не рассказывали, ссылаясь на то, что у них и раньше с девушкой не было хороших отношений. Работает сейчас в городской администрации, писали они, учится где-то заочно. И хоть бы раз к ним зашла, сетовала мать.
Но то родители. Зато дружок школьный, Сергуня, оказался более откровенен. В своих письмах другу он всегда рассказывал ему о всех домашних новостях. Написал, к примеру, что Жэка Городилов из параллельного класса, который, как и Егор, пошёл служить в ВДВ, погиб в чеченском Гудермесе; Танька Сергеева вышла замуж и, к удивлению мужа-выпивохи, родила ему двойню; Шурик, самый мелкий пацан из класса, дабы ускользнуть от армии, уехал в Америку да так там и остался. Скорее всего, писал Сергуня, Шурик подвизается среди нелегалов, дурачок.
Написал и о Наташе. Осторожненько так, но вполне доходчиво. Легкомысленной, мол, оказалась Наташка и, позарившись на красивую и «упакованную» жизнь, закрутила роман с каким-то «новым русским», разбив у того семью и, надо думать, Егоркино сердце. Да ну их, Егор, этих девок, утешал Сергуня. Ты, главное, писал он, возвращайся живым-здоровым, а уж всяких надек и танек на наш век хватит. В одном ошибался Сергуня: в «надьках» и «таньках», которых якобы на их век хватит, Егор не нуждался. Ему достаточно было бы одной-единственной – Наташи.
Потому-то всё чаще и чаще Егор чувствовал нечто вроде страха, почти панического ужаса от той правды, которую ему предстояло узнать. И, надо думать, правда эта, которой паренёк страшился сейчас больше всего на свете, будет не из лёгких. Главное, убеждал себя он, следует приготовиться к самому худшему, неотвратимому, чтобы, приняв удар по-мужски, не раскиснуть и не поддаться излишним сантиментам. Но для начала нужно было увидеть Наташу, заглянуть ей в глаза. Может статься, и говорить-то не придётся – глаза сами всё расскажут…
* * *За те долгие месяцы, проведённые Егором вдали от родного дома, в Вятске многое изменилось. Изменился не столько сам город, сколько люди. До чеченской войны, из пекла которой старший сержант Озерков вышел едва живой, здесь, казалось, никому не было дела. Разве что солдатским матерям, отправлявшим сыновей на форменную бойню. Мысли остальных были заняты совсем другим: «баксы», «деревянные», проценты, строительство дач, покупка иномарок, пригоняемых откуда-то «из-за бугра». Страна активно торговала – покупала, продавала и меняла. Отцы-демократы, ловко обмишуривая собственный народ, ратовали за пресловутую приватизацию, хотя уже всё давно было «прихватизировано».
Егор только диву давался разительным переменам в обществе. Дивиться же было чему. Так, после «прихватизации» (народное словцо!) трёх городских детсадиков (в один из которых, кстати, когда-то водили и его) в их стенах выросли коммерческие банки – один самостоятельный и два, что покрупнее, филиалы областных монстров. Гуляя по улицам родного города, он их тоже не узнавал. Вот здесь, на улице Луговой, когда-то были детские ясли, теперь – частный магазинчик; на углу Ленина и Урицкого, где находилась лыжная база для подростков, появилась кооперативная лавка; на месте хоккейной коробки – два торговых ларька; баскетбольная площадка разбита в хлам…
С улиц исчез детский смех; пацаны, с остервенением жуя заграничную жвачку, совсем забросили футбол; куда-то исчезли молодые мамаши с детскими колясками. Некогда, видать, стало рожать, играть, веселиться, да и просто жить. Деньги, деньги, деньги… Все кинулись хорошо жить.
Родной Вятск превратился в одну торговую палатку. Всюду сновала спекулянтская сволочь, называвшая себя важно «коммерсантами»; всякого рода лотошники и менялы с потными руками и скользкими глазами занимались открытым грабежом. Железнодорожный вокзал и речную пристань оккупировали так называемые «челноки» – невесть откуда появившиеся деляги, завалившие всё и вся дешёвым турецко-китайским контрафактным ширпотребом.
Деньги, деньги, деньги… Казалось, все сошли с ума и от одного только звука «бакс» чуть ли не теряли человеческое обличье. «Обогащайтесь!» – кричал, будто одурев, телевизор, рассказывавший о том, как чиновники разбазаривают захлёбывающуюся кровью страну направо и налево.
Пока государственная верхушка обогащалась, «прихватизируя» самые лакомые куски от когда-то жирного пирога под названием «Советский Союз», за кусочки поменьше шла отчаянная драка на всей территории бывшей социалистической Империи. Страх и насилие стали нормой жизни «обретшего свободу» народа. Бойня развернулась не только на Кавказе: страну захлестнул бандитизм.
Егор с болью смотрел на любимый Вятск. Единственный в городе завод, и тот приказал долго жить: признаки жизни подавали лишь несколько когда-то мощных цехов. Дикий капитализм изменил приветливых когда-то земляков, превратив их в замкнутых и отчаявшихся людей, этаких себе на уме индивидуумов. Сильнодействующий яд купи-продайства, казалось, сковывал волю и мысли, подчиняя навязанному из-за океана правилу капиталистического бытия.
Сильно изменились и многие из Егоркиных знакомых; а кое-кого из одноклассников он вообще едва узнавал. Нет, они были всё те же – красивые, цветущие, энергичные. Изменились лица этих ещё вчера таких открытых и добрых ребят, которым, бывало, только свистни, и они за тебя свернули бы горы (как-никак – одноклассники!). Теперь же эти лица вдруг потеряли душевную теплоту и искренность, и сквозь маски высокомерного равнодушия, слегка прикрытого дежурными улыбками, выдавался неприкрытый цинизм вперемежку с огромным, поистине необузданным желанием разбогатеть. Самое страшное, что в глазах когда-то хороших людей появилось даже нечто пострашнее простого желания разбогатеть – в них навсегда поселилась ненасытная алчность.
«Обогащайтесь!» – вновь и вновь неслось из телевизора. И люди бросились обогащаться. В этой битве за «светлое и богатое будущее» их не смущали ни страдания окружающих, на слёзы, ни кровь. В стране громыхнула Великая Криминальная война…
* * *Нужно было продолжать жить. Ему необходим был, как он сам называл, «реабилитационный период» – время для того, чтобы прийти в себя духовно и физически. А ещё… всё расставить по полочкам в личной жизни. Последнее пугало больше всего. О чём говорить?! Ведь, если верить товарищу, его девушка уже давно нашла того, с которым пытается устроить свою личную жизнь – жизнь без него. И это особенно удручало.
«Как она могла так быстро всё позабыть? – мучился вчерашний солдат. – Ведь я же помню всё до мельчайших подробностей – и поцелуи, и её глаза, и пышные волосы… И даже соловьёв… А что запомнила она? Неужели отныне я для Наташки пустое место? Впору сойти с ума…»
Но для начала необходимо было обрести прежнюю форму и былую физическую силу, которую за время «болтания по госпиталям» совсем растерял. Так не пойдёт, брат, корил себя Егор.
Несмотря на то что местный завод практически прикрыли, заводской спортзал продолжал функционировать исправно, держась на плаву за счёт сдаваемых в аренду помещений. Присмотрев подходящий зал, он познакомился там с ребятами (хотя особенно знакомиться ни с кем не пришлось – в маленьком городке шапочно знаешь почти каждого), и в разговоре с одним из руководителей выяснилось, что в спортзал срочно требуется тренер по рукопашному бою.
– Меня возьмёте? – с ходу спросил его Егор. – Имеется боевой опыт. Правда, если только месяца через полтора, необходимо обрести форму.
– В стойке против ножа долго продержишься? – усомнился тренер.
– Можно попробовать, для начала – с деревяшкой… Хотя не против, если и со сталью…
Минут через десять радостный тренер вынес вердикт:
– О’кей, парень, берём! Но сразу предупреждаю: контингент у нас, так сказать, специфический. А потому и отношение потребуется особое. Впрочем, сам всё увидишь. Зато главный «плюс» – хорошая зарплата. Согласись, для дембеля не самое последнее дело…
Так в один день был решён вопрос и с работой, и с «реабилитацией». А вот с личной жизнью всё оставалось в подвешенном состоянии.
* * *После встречи с Валерием Егор Озерков стал для Наташи не чем иным, как «перевёрнутой страницей», этаким прошедшим этапом жизни, который, видимо, ей необходимо было пройти. И она его прошла. Правда, не совсем красиво, но прошла. Когда-то кричала «люблю!», строила планы на будущее с этим самым Озерковым и даже какое-то время писала ему в армию нежные письма. Но теперь всё это в прошлом – с тех самых пор, когда в её жизни появился Валерий.
Конечно, Валерка сильно отличался от безусого Егорки. Даже целовался решительно и умело, подчиняя женщину своей стальной воле. Нравилась девушке и его решительность. Сказал разведусь – и вскоре развёлся. Обещал жениться, значит, была уверена Наташа, женится. Достаточно того, что она теперь живёт в его шикарном загородном особняке, ездит на собственной иномарке, да и вообще, жизнью вполне довольна. По крайней мере – сейчас, когда рядом её Валерий. А Егор… Ну, дружили, слушали пташек до утра, целовались. И что с того? Смешно, право…
Хотя где-то в глубине женской души колыхалось нечто тягостное, порой железной хваткой сжимавшее горло. От кого-то Наташа слыхала, что именно такими бывают муки совести.
Рассказывая о своих терзаниях подруге, однажды она не сдержалась:
– Ничего не пойму, о каких муках совести можно говорить, если у меня с Егором, по сути, ничего не было, не говоря уж о каких-то обязательствах? Никаких, Кать, понимаешь?
– Не совсем, – не согласилась с ней Катя. – Ты же его в армию провожала, а теперь говоришь, ничего не знаю – моя хата с краю…
– Но ведь так и есть!
– Так – да не так. Ты что, не могла ему пару строк черкнуть, когда узнала, что парень в госпитале раненый лежит?
– Вот это как раз и не даёт мне покоя, – сникла собеседница. – Именно это, Кать, именно это… Ведь в то время в моей жизни уже появился Валерий…
– Тем более нужно было написать, поддержать парня в трудную минуту. Чего тебе стоило-то? – продолжала та бередить рану. – Ему, может, всего-то две строчки и нужно было, чтоб бороться дальше, а ты…
– Тварь я – это хочешь сказать? Продажная тварь, да?
– В данном случае, уж извини, попала в точку, – смело заявила подруга. – И ты сама это знаешь…
– Я на тебя даже не сержусь, – тихо ответила Наташа. – Просто ты назвала вещи своими именами. И по отношению к Егору так оно и есть. Да, я тварь! Только объясни мне тогда, такой низкой и продажной твари, как я могла писать одному, если уже любила другого? Объясни мне, пожалуйста, замужняя женщина, вся такая честная и высоконравственная…
– Знаешь, ничего я тебе объяснять не стану… Одно скажу: я своему парню, пусть даже и бывшему, обязательно бы протянула руку помощи. А ты… Ты…
– Да знаю, знаю я, кто есть! – прекратила разговор Наташа. – Ты мне уже об этом сказала. И это… увидишь Егора, скажи, чтоб меня не искал. Мне нечего ему сказать.
– Увижу – передам…
– Прощай…
– Гуд бай…
II…Этой зимой в Рысьей Пади стало безлюдно. После того как старик Авдеич, лучший охотовед здешних мест, покинул урочище, его хибарку замело аж под конёк, не говоря уж о нескольких полуразрушенных домишках – последнем напоминании о когда-то зажиточных Озерках.
Было время (как раз перед Великой Отечественной), когда молодёжь валила сюда гуртом – уж слишком хорошим местом считались Озерки. И то сказать, Вятка недалече, кругом великолепный сосняк, до больших дорог ехать и ехать… Глушь да благодать. Река здесь делает резкий поворот, образуя крутой кряж, заросший столетними соснами. Но даже не это всегда влекло сюда дальних странников. То ли по причине природной аномалии, то ли из-за крутизны вятского изгиба, но не было в этих краях на десятки вёрст выше и ниже вдоль по Реке более тихого места. Среди разбросанных у кряжской стены светлых песчаных кос не услышишь, бывало, ни ветряных задуваний, ни всплеска встревоженных волн, ни даже обычного на Вятке гомона чаек – тишина правит балом у Кряжа близ Рысьей Пади. Этакая Русь Изначальная по-вятски на фоне неземного покоя.
Потому-то сюда и тянулись молодожёны. Зачем строить хутор где-нибудь в поле или перелеске (а на правой стороне Вятки всюду одно и то же – поля да перелески), если, переплыв Реку, можно среди лесов отстроиться. А леса на левобережье – всюду, до самой Рысьей Пади и дальше. Вот и разрослись хутора вокруг Озерков, как опята у пня. Перед войной здесь сильные хозяйства были; все тридцать дворов – зажиточные и добротные.
В старообрядческой деревне Озерки люди жили хорошо – дружно и чинно. Как рассказывали старики, пройдёшь, бывало, от одного конца деревни до другого – ни одного пьяного, ни бранного слова. У каждого встречного глаза светлые, чистые, одухотворённые. Будто младенческие. Только от детских их отличали скрытые в прищуре глубокий ум да житейская смекалка.
Но если вдруг какой из хозяев зашалит-загуляет, а то и вовсе ударится в беспробудный загул, выкрикивая для крепости речи бранные словечки, для такого имелся свой укорот. Для начала местный актив отправлял к «загуляю» мальчонку-посыльного с требованием явиться к озерковскому старосте, якобы для беседы. Как правило, такому нерадивцу давалось денька два «для опохмелу», но чтоб к старосте прибыл «как штык». Обычно «штык» являлся вовремя, будучи «терёзв как стёклышко», с понуро-виноватым выражением на опухшем лица.
Вызов к старосте был для озерковцев всё равно что повестка в суд. Ещё не входя в старостин дом, провинившийся знал: помимо главы дома, там будут самые именитые местные мужики – этакие присяжные поверенные, которым и суждено будет вывести «смутьяна» на чистую воду. А уж те были строги. Крепкие в вере, честные в помыслах и чистые на руку, они редкий раз вызывали дважды. Беседовали неторопливо, степенно, зная цену себе и старосте; да и провинившегося мужичонку старались не унижать – больше журили-стыдили да «вразумляли», вспоминая деда с бабкой и родителей «негодника», осмелившегося осквернять их светлую память. Если же те были живы, приглашали на суд и их. А потом виновника выставляли вон – подумай, мол, на досуге, одумайся, пока не поздно; и впредь не шали, не по-людски это, нехорошо.
Возвращался мужичок от старосты весь красный, будто рак ошпаренный, снедаемый стыдобой лютой за себя и за весь свой род, на который по дурости безобразной «навёл тень на плетень». Потому-то быстро брался за ум, тут же отстраивал баньку иль сараюху новую, а в сенокос день-деньской горбатился на далёкой вятской покосине, где так же отчаянно строгал детишек. А вот к самогонке – ни-ни!
Хотя, по правде, были и такие, коим стариковский наказ с некоторых пор становился даже не наказом, а истинным унижением в собственных глазах заражённого гордыней смутьяна. Такой мог позволить себе и вовсе никуда не являться, продолжая пить-гулять и куролесить. Из-за таких пару раз по пьяному делу доходило и до смертоубийства. С этакими «умниками» старики и вовсе не беседовали. Придёт, бывало, сосед, поздоровается вежливо, а потом намекнёт так с нажимом – уходить, мол, нужно отседова, вот прямо завтра и снимайся, голубь сизый, не житьё тебе больше здесь. Уже через неделю лихого человека в деревне как не бывало. Куда, чего и как – никого не интересовало: не жилось по-людски, живи – как хошь…
Великая Отечественная прошлась по Рысьей Пади и Озеркам двойной метлой – всё припомнили: и «сладкую жизнь» при коллективизации, и кулачество. Местных староверов вымели на фронт подчистую. С войны вернулись единицы, да и те – без рук-ног. Работящих вдов да девок тут же сосватали в соседние деревни (к некоторым сватались аж из района, из Вятска).
С годами Озерки постепенно захирели, как та старица в когда-то стремительном русле. Молодёжь разъехалась по городам и весям, старики поумирали. Последние годы всё держалось на единственном старожиле – Акиме Авдеиче, которому, несмотря на годы (сколько было старику, никто не знал, хотя, поговаривали, помнил ещё колчаковцев), приходилось быть и за лесника, и за егеря, и даже за рыбнадзор. Этот «последний из могиканов» (слова самого Авдеича) до конца держал «озерковскую марку»: хозяйственных мужиков старался привечать в деревню то охотой, то знатной рыбалкой. Понимал, всегда выгоднее, когда «рукастый» в здешних местах осядет. Зато с выпивохами у Авдеича разговор был короткий – «чтоб ноги в деревне не было»; не хватало ещё, кричал старик, чтобы оставшиеся дома спалил. И те уходили, не рискуя нарушать глубокие корни местных традиций.
Не только в деревне, но и во всей округе Авдеич поддерживал должный порядок – ни браконьеров тебе, ни алчных лесных вырубщиков, после которых у тех же соседей остались лишь заболоченные просеки, превратившиеся в непроходимые буреломы. Неподкупный старик зорко следил за всем. Порой рисковал жизнью. Браконьерская пуля безжалостна: сколько просвистело их мимо непокорной седой головы…
Нынешней зимой Рысья Падь осталась без Авдеича. Пошёл через Вятку на противоположный от Кряжа правый берег, где высится холм, прозванный «плешкой», за которым в деревушке Еловка проживает дочь Настюшка с внучатами, да на самой стремнине угодил в полынью.
Вятка на повороте всегда была неспокойной. Всю зиму, будто вздыхая, выворачивает она ледяной покров, нагромождая полутораметровые торосы. Ещё от стариков знал Авдеич, что глубоко на дне бьют в этом месте богатые ключи, которые и заставляют Реку недовольно ворочаться – да так, что треск идёт. А потому на изгибе Вятку старались не переходить – опасно, мало ли. Но до этого две недели стояли трескучие морозы, вот Авдеич и решил скоротать: как-никак – километра три срезал бы.
Не вышло. На самой стремнине под валенком старика гулко треснуло, лёд вокруг покоробился, и забулькало… Но не таков был Авдеич, чтобы в родной Вятке сгинуть. (Где-нибудь в Чёрном море, которого и в глаза-то не видел, быть может, но в своей реке – никогда!) Едва льдиной ударило в горло, вывернул из тёмной бездны локоть и задержался на зыбкой глыбе. С другой руки скинул под водой набухшую гирькой пуховую варежку и лихорадочно принялся рвать-расстёгивать овчинный тулуп, через минуту уже тянувший на полцентнера. Тулуп – полбеды: вниз утягивали превратившиеся в гири кукморские валенки-подшитки. Пока скидывал тулуп, пару-тройку раз успел хлебнуть водицы – студёная, однако.
Так уж природой дадено, что в случае, когда человек ли, зверь неожидано проваливается в пучину, он рефлекторно поворачивается назад. И это правильно, выверено жизнью. Потому что там, позади, откуда пришёл, и должно быть спасение, ведь что по другую сторону полыньи – никому неведомо. А если двигаться навстречу своим следам, рано или поздно выберешься на твердь. Но об этом тонущий не думает, некогда ему о чём-то думать, кроме как о желании выбраться. Попавший в беду действует, и все его движения продиктованы данными природой инстинктам и рефлексам.
Старик Авдеич всё делал правильно. Зацепившись за предательскую льдину, он избавлялся от самого тяжёлого. Ещё миг – и изодранный тулуп скрылся где-то в бездне; а вот с валенками – беда, будто приклеились, окаянные, став смертельно-тяжёлыми. Та-ак, попробовать, какая слабее держится… ага, правая. По правой пятке левым носком… раз-другой. Эге… опять хлебнул. Нет, валенок никак, ни туда, ни сюда. Что ж ты, милай? Ещё разок… вот так, дорогуша, совсем чуть-чуть… уж больно медленно…
Между тем правая рука, которой Авдеич сдирал тулуп, совсем закоченела и начала синеть. Но он этого не замечал: главное – валенок! А тот, казалось, окончательно вмёрз в голень. Шут с ним, попробовать, разве, подтянуться… Куда там! Сантиметров на двадцать – не больше…
А вот этого, пожалуй, делать не следовало. Льдина под рукой, хряснув, резко обломилась, и Авдеич с головой ушёл в темноту…
* * *…Кошка грациозно обходила свою вотчину – густой бурелом в урочище Рысья Падь. Сахарный снег искрами играл в прищуренных жёлтых глазах самца рыси и ласково тёрся о мягкий живот. Где-то неподалёку, в километре-двух охотилась Она, его подруга, с которой когда-то обживали эти места.
Рыси обычно живут обособленно. Кончились февральские брачные игрища – и поминай как звали: самцы в одну сторону, самки – в другую. Личная свобода дороже всего. Хотя, конечно, бывают исключения, а порой даже встречаются сильные пары.
Его мать застрелили охотники, когда малыш едва научился добывать своего первого беляка. Дальше Он охотился, надеясь лишь на собственные мышцы, клыки и когти. Друзей же у Него не было вовсе – свободолюбивая натура самца не выносила постороннего присутствия рядом чьего-то дыхания. Да и с подружками старался долго не общаться – не выносил сюсюканий.
Но не так давно всё изменилось. Безлюдную деревню Он приметил ещё поздней осенью, когда затяжные холодные дожди вынудили неутомимого бродягу спрятаться в притулившейся у опушки старой, полуразвалившейся баньке. К удивлению рыси, здесь было хорошо – сухо и не ветрено. А ещё ноздри приятно щекотал запах мышей, которые до появления здесь кошки чувствовали себя, как купцы на ярмарке. Хотя мыши были здесь не одиноки. Кто только не шастал в здешних развалинах! То лиса забредёт, хитро петляя цепочкой следов; то волчья стая нагрянет (тогда берегись!), заглянув в каждую щель и нору. О зайцах и живности помельче и говорить не приходится. Бывало, вваливался и косолапый, которого больше интересовали старые ульи да запущенные овсяные поля.
Однако для отчаянной рыси, казалось, не существовало авторитетов. Мелкоту кошка разогнала в два счёта, а для остальных «хозяев тайги» хватало того, что куда бы ни сунулись, везде натыкались на отвратительные рысьи метки. Вроде мелочь, но из разряда таких, с которыми не хотелось бы иметь дело – высок риск не только остаться без глаза, но и заполучить глубокие раны. Проще уйти, выразив крайнее презрение и равнодушие. Новый жилец быстро отвадил с этих мест и своих кошачьих конкурентов, расправляясь с ними, как с лютыми врагами. Вот так этот самец стал властелином озерковской вотчины, которую с некоторых пор любая животина старалась обходить стороной.
Зато ранней весной туда любили захаживать молодые кошки, манимые древним инстинктом размножения, но хозяин, наигравшись, тех всегда выпроваживал. А если вдруг какая начинала мнить из себя этакой павой с привилегиями, заявляя о своих правах на угодья самца, тут же получала такую взбучку, после которой навсегда забывала о своих захватнических аппетитах.
Никто из нынешних обитателей Рысьей Пади не мог знать, что ещё в давние времена, лет двести назад, в здешних местах бродило столько рысей, что позволило жителям края старое название урочища – Северный Кордон – переименовать в Рысью Падь. Однако в первую Отечественную, в период наполеоновского нашествия, спрос на рысьи шкуры резко возрос – в те годы из них оторачивали офицерскую зимнюю форму, а генералы предпочитали тёплые подклады, – вот и потянулись в губернскую Вятку обозы с рысьими шкурами. Вышло это для края не то чтобы боком, но всё же ощутимо: половина рысьего племени оказалась на генеральских подкладах и оторочках. Рысь – не заяц, и даже не волк; для восполнения довоенной численности ушёл потом чуть ли не век. Да и кошки пошли какие-то беспородные – без прежней стати и грации; а с серебристым оттенком, каких когда-то было немерено, стало вообще не сыскать. Словом, поизвели породу. Под Вятском же о кошках напоминало лишь урочище под названием Рысья Падь. Самих же рысей жители края встречали не чаще одной-две в год, да и то случайно – либо в овин забредёт, либо в зимнюю стужу облюбует какую-нибудь заброшенную развалину. Особенно в голодный год, когда всё живое тянется к человеку.