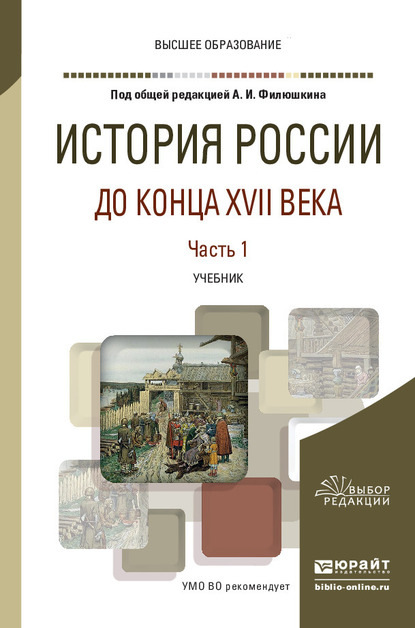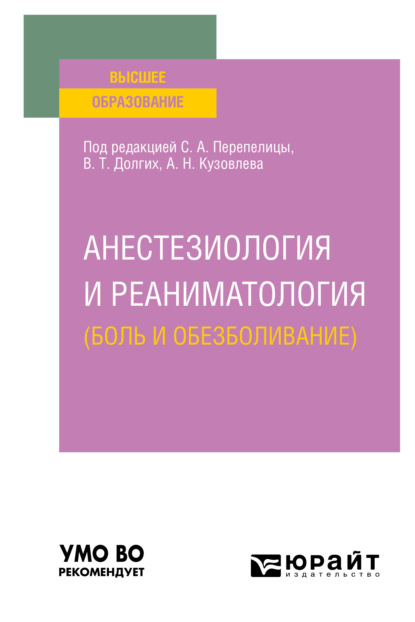- -
- 100%
- +
Своё название местечко стало оправдывать лишь в последние годы, когда староверческую деревню Озерки покинули все местные. И в немалой степени такое дело было связано с появлением в покинутой деревне рысьего молодого самца, своим авторитетом заставившего тянуться к местечку весь кошачий род.
И вот с надменным хозяином что-то случилось. Всегда гордый своим независимым одиночеством, однажды Он сдался. Хотя на первый взгляд всё было как всегда. Однажды ночью в Озерки заскочила молодая самка и, попетляв-покуролесив, набрела на старожила. Тот для порядка непрошенную гостью погонял по загонам, а потом дал понять, что не прочь и познакомиться. Теперь уже куролесили вместе, гоняя за околицей зайцев. И так недели три, покуда медовый месяц не пошёл на спад. Однажды наступил момент сказать, что пора и честь знать. И Он это сделал. Подружка вроде как собралась, почти ушла, успокоив чуткое реноме нервного друга. А под утро – неожиданность: перед глазами вновь кошачья мордашка, мурлыкавшая извечную песнь любви.
И вот тут-то с ним произошло нечто странное. Вскинувшись, как обычно, в охотничью угрожающую стойку, самец уверенно и грозно подошёл к нахалке, замахнулся было сильной лапой и… оторопел. Ласково замурлыкав, кошка лизнула его в раздутые ноздри и принялась игриво кататься прямо у лап. Негодница! Ему ничего не оставалось, как положить ей на шею лапу и, лизнув премилую кисточку, чуть ли не с позором отойти прочь. Его впервые победили без когтей и клыков: хозяин округи пал жертвой любовных чар. В общем, стыдоба и только.
Только с какого-то момента без вида её игривых петляющих следов самцу становилось не по себе. В такие минуты Он бывал угрюм, ещё более нервозен, и часто, забегая в Озерки, с волнением смотрел вдаль, на деревенскую околицу – туда, где у оврага проказница любила бродить в густом валежнике.
В сравнении с остальными кошками, которых Он познал немало и которые теперь казались ему глупыми как тетёрки, эта пришлась самцу явно по сердцу, завоевав расположение старого забияки ласковым обхождением, весёлым нравом и грациозной осанкой. А уж кисточки! Перед такой никто бы не устоял, порой оправдывал себя в душе самец, продолжая молча неистовствовать от своего легкомыслия. Иногда, правда, срывался, давая волю праведному гневу. Когда во время охоты на раззяву-глухаря подружка, не вовремя выбежав из укрытия, спугнула всю глухариную стаю, тяжёлая оплеуха привела-таки в чувство разгорячённую охотничьим азартом кошку. Возмутившись, та было вскинулась, впервые обнажив на обидчика мощные клыки, но удар сбоку второй лапой, наконец образумил нахалку. И всё же Он прикипел к ней как последний котёнок. Любимые бранятся – только тешатся…
* * *Рысь уже обошла всю округу, когда, дойдя до Кряжа, принялась обходить участок меж заиндевелых молодых сосен вдоль левого берега Вятки. И у очередного изворота встала как вкопанная. Далеко-далеко, на середине речного изгиба, острый зрачок выхватил некое мельтешение. И как бы ни всматривалась кошка в непонятное видение, она никак не могла уяснить – что это?
Не отрывая хищного взгляда от Реки, рысь инстинктивно двинулась в направлении предполагаемой добычи. Спуск, изгиб, продирание сквозь заросли, вновь спуск и вновь заросли… Внезапно пахнуло опасностью: открытая вода. Кошки боятся воды, они её игнорируют и ненавидят; много воды – это смерть. И лишь любопытство или сильный голод могут заставить пойти на заведомый риск. Обошла промоину, оставив тёмное пятно позади. Впереди показались торосы. Глаз животного инстинктивно нашёл самый высокий – прыг, и вершина одолена. Морда помимо воли и направления туловища повёрнута только туда – к центру реки, где копошилось что-то живое. Ни-ко-го…
Зверь занервничал. Стоило рисковать попусту? В доли секунды молниеносный импульс передался мышцам тела. Кошку словно подкинуло; она прыгнула вниз и, пробежав несколько метров, вновь взгромоздилась на высокий торос. Пусто. Оглянулась кругом – никого.
В последний раз Его так обманывала наглая куница, вознамерившаяся было безнаказанно пошарить в одном из деревенских заброшенных лабазов. Хлопот тогда с этой животиной хватило; одно отрадно, что никто из сородичей не видел – засмеяли бы. Куница умудрилась нырнуть в снег и, невидимая сверху, прокралась за угол сарая, где вновь скакнула под стреху. А хищник, ждавший добычу у свежевырытой норки, безнадёжно надеялся на удачу. А потом в замешательстве обнаружил хитровку на крыше. Но это не прошло для куницы безнаказанно. Опытный охотник, Он перехитрил свою жертву, принявшись кружить вокруг сарая и не давая той вырваться из западни. Тогда загнанная на крышу зверюшка затаилась. Затаила дыхание и рысь, спрятавшись за угол; и как только куница бросилась в снег, хищник мгновенно перехватил добычу в воздухе. Клац! Дуэль окончена. Даже не дуэль, а нечто похожее на финал извечной игры в кошки-мышки.
Итак, среди торосов оказалась лишь пустынная, опасная полынья и какие-то доски, которые сейчас следовало обнюхать. И вдруг…
И вдруг всё изменилось. Внезапно раздался громкий всплеск, и из воды, тяжело пыхтя, кто-то вынырнул. Подавшись ближе, кошка, грозно заурчав, стала наблюдать, спрятавшись за очередной торос. «Двуногий!» – пронеслось в голове животного при виде человеческой головы. Сразу захотелось убежать куда подальше – с Двуногим лучше не связываться. От досады в голодном желудке аж забулькало: плакал сытный ужин. Хотя… ещё неизвестно, как всё обернётся.
Человек в рысьей Книге выживания давно числится в разряде категоричного табу. Как Косолапый, Серый или, скажем, Сохатый. Впрочем, как и луна. Во-первых, она (луна) ничем не пахнет; а во-вторых, её нельзя ни откусить, ни испугать. А потому, несмотря на довольно аппетитный вид, для еды никак не годится. Не годится и Двуногий. Этот имеет собственный запах, и при желании может быть съеден, но только от безысходности; может быть просто убит – но лишь при угрозе жизни, опять же от безысходности. Коварен Двуногий, опасен и кровожаден – именно это когда-то внушила ему мать. А уж та их знала! Дважды опытная рысь попадала в безжалостный капкан и дважды уходила. Третья встреча с Двуногим закончилась брызгами огня из Огненной Палки, от которых мать истекла кровью. Об этом ему никто не рассказывал, зато хорошо поведало место трагедии у Сосновой Балки, где старая рысь когда-то обожала охотиться.
С тех пор Он ненавидел Двуногих. Ненавидел и сторонился. Но знал, в минуту опасности его никто не удержит, чтобы расправиться с могучим противником. В ту минуту, когда рысь повстречала беспомощного Двуногого, мозг хищника ещё не принял какого-то определённого решения. Первое, что хотелось, подчиниться инстинкту и, подскочив к проруби, перегрызть жертве горло, утолив голод горячей струёй. Но кошка не тронулась с места: всем своим существом она противилась тому первому порыву. Отпугивала и вода, ну и… Двуногий. Даже в таком жалком состоянии Двуногий – угроза!
Как будто кто-то невидимый удерживал хищника от решающего прыжка…
* * *Авдеича от верной гибели спасла случайность. Старик не любил случайности, слишком дорого приходилось за них платить. А потому старался жить степенно и по правилам, подчиняясь людским и нравственным законам, коррективы в которые могли внести разве что суровые законы Леса.
Старожила спас… его собственный шарф. Пока он, борясь с тяжеленным тулупом, барахтался в проруби, выбившийся длинный конец пухового шарфа угодил на край излома, где его тут же прихватил крепкий тридцатиградусный мороз. Когда старик ушёл под воду, ему показалось, что всё кончено. По сути, так оно и случилось бы, если б не валенки и шарф. Тяжёлые кукморские гири, повисшие на ногах, потянув резко вниз, не дали течению унести человека далеко под лёд. Авдеича потянуло вниз, ко дну.
Нахлебавшийся воды и оглушённый холодом, он уже почти не сопротивлялся предательской тяжести снизу. И тут почувствовал некое сопротивление. Покинувшее было сознание вновь вернулось к нему. Старик схватился за полутораметровый шарф, связанный когда-то его покойной женой, приостановился и, поднатужившись, на последнем издыхании бросил измученное тело вверх. От резкого движения шарф отцепился, уйдя под воду, но своё дело эта штуковина уже сделала. Преодолевая смертельную силу тяжести, повинуясь извечному инстинкту самосохранения, руки Авдеича лихорадочно искали край проруби. Где-то над головой призывно белело пятно. Если б снесло метра на три, лихорадочно вертелось в голове, всё – хана! И всё-таки его несло. На счастье, значительно меньше: тяжёлые валенки, они спасли старику жизнь!
Кромка льда неожиданно резанула болью, расцарапав левую кисть. Но это продолжалось доли секунды, дальше боли Авдеич не чувствовал. Голова, словно пенопластовый поплавок, выскочила из воды; горло сжали лихорадочные спазмы кашля. Сильно тошнило. Старик выплёвывал и выплёвывал воду, стараясь глубоко вздохнуть. Морозный воздух обжёг горло, застряв где-то в лёгких. Его снова затряс приступ удушливого кашля. Опять пошла вода…
Неожиданно Авдеич почувствовал, что стало легче – и дышать, и… ногам. То ли от резкого кашля, то ли от непомерной тяжести, правый валенок, будто спохватившись, плавно сполз с ноги и исчез в тёмной глубине. Старик инстинктивно задёргал левой ногой, пытаясь избавиться от другой гири. От старания он даже высунул язык, но, скользнув глазами по сторонам, чуть его не прикусил: за одной из ледяных глыб увидел хищную рысью морду. Или привиделось? Нужно выбираться, иначе тут и останешься…
Авдеич вдруг осерчал. И на судьбу-злодейку, вознамерившуюся столь зверским способом расправиться со старым охотником; и на свою халатную самонадеянность, с которой отправился не на лыжах, а пешком через вятскую стремнину. Стоп! Старика словно ударило током: лыжи! Перед тем как пробраться через торосы, он снял охотничьи лыжи и, просунув верёвки сквозь носы, поволок их за собой. Когда он провалился, лыжи должны были остаться на льду. Но где они? Только сейчас он поймал себя на мысли, что его лицо было направлено туда, откуда пришёл. Он почти не обращал внимания, что творилось по сторонам. А ведь где-то должны быть лыжи. Лыжи, лыжи… Теперь только в них Авдеич видел своё спасение…
Старик, щепкой заколыхавшись в полынье, повернулся вправо, помедлил; теперь – влево. В воде он уже находился минут пять-шесть, для него – как шестьдесят, битый час, а то и больше. Авдеич уже почти ничего не чувствовал ниже солнечного сплетения; впрочем, руки – тоже как чужие, поцарапанная левая – в крови. Ну, где эти лыжи-то, не утонули же?
Они валялись буквально в двух шагах, эти его проверенные временем и Лесом старые охотничьи помощники. Однако из проруби добраться до них не было никакой возможности. Вот ведь они, эти спасительные соломинки, только руку протяни! А вот это вряд ли, не дотянуться. Но не умирать же в смертельной ловушке! Ослабевшими руками старик попытался слегка подтянуться… Лёд угрожающе затрещал: о том, чтобы выбраться, не могло быть и речи. Неужели конец? Врёшь – не возьмёшь… Не может такого быть, ведь не в первый раз в полынье, всегда обходилось…
Ног Авдеич не чувствовал, лишь ощущал, что левая тяжелее правой. Если валенок-гирю скинуть, тогда, пожалуй, можно будет постараться выползти. Пробиться дальше влево, ближе к лыжам? Но тут совсем не лёд, а бумага – вообще не за что ухватиться, унесёт! Это только в книжках пишут, что так можно вырваться из цепких ледяных лап – держи карман шире, враки! Вятка так просто не отпустит. Отламывать края льдины бесполезно, от них, отколовшихся, ещё хуже – мешают, пытаясь подмять под себя; за какую ни возьмись – тонет, а с ней – и тот, кто цепляется. Пока барахтаешься, унесёт под лёд.
Как дотянуться до лыж? Думай, старик, думай, поторапливал он себя. Промелькнула ещё минута… Как вечность. Думалось с трудом, мысли становились вязкими, сонными. Авдеич замерзал. Но и под воду не хотелось. Хорошо хоть, хищника поблизости не видать. (Рысь давно умчалась в лес: животному хватило одного взгляда Двуногого, чтобы запаниковать!) Он уже стал цепенеть (или показалось?), когда почувствовал некое движение в левой ноге: валенок. Тоже неплохо, глядишь, спадёт…
И тут старик, обращаясь к себе же, прохрипел:
– Валенок… Скинуть любой ценой…
Сбросив тяжеленную гирю, можно было не только удержаться на плаву, но и добраться до лыж, которые могли стать спасительными поперечинами в полынье. Подтянуться – и…
Ногу, не спеша, согнуть в колене… Вот так. Не гнётся, родимая, застыла. Левую руку вниз, по животу вдоль тела… Тело как будто отсутствует. Бедро, колено… Валенок нехотя скользнул до щиколотки. Хорошо, полдела сделано. Легонько пошевелить ногу… Пошла, пошла…
Увлёкшись, Авдеич в который раз хлебнул, вновь дёрнулся; на этот раз вода придала ему бодрости. Теперь показалось, что обе ноги освободились. Выплюнув воду, он принялся нашаривать ниже колена… Ещё чуть-чуть… Есть, родимый, висит на голяшке. Но продолжает сидеть, самошитка кукморский. Давай, ещё…
Опять хлебнул. Поперхнулся, закашлял, задёргался. Но прямая, как лом, рука осталась недвижимой. Вдруг испугался: руку в локте словно заклинило, совсем не гнётся. Успокоиться, Аким, не паниковать. Всё путём… Получилось! Валенки на дне. Сейчас ещё один манёвр. Последний, как он решил про себя. Удастся – конец мучениям; ничего не получится – прощай, Акимушка…
Держись, Аким, держись… Наступал самый ответственный момент. От волнения Авдеич вдруг натуженно закашлял и едва вновь не ушёл с головой под воду. Ледовая кромка угрожающе заколыхалась. Прикинул расстояние, собрался с силами, мысленно перекрестился и… опершись правой рукой, резким движением выскочил по грудь из полыньи, одновременно выбросив вперёд руку, пытавшуюся ухватить конец лыжи. Сюда лыжу-то, к себе. Вот они, молитвы православные, к которым набожный старик всегда относился трепетно и серьёзно…
Ухватив одну лыжу, Авдеич тут же подтянул ею другую и, развернув поперёк полыньи, укрепил, как смог, у края. Секунду-другую вновь собирался с силами, после чего, опершись локтями на деревяшки, лёгкими толчками стал тихонько выбираться наверх. Лёд противно гудел и потрескивал, грозя предать в очередной раз, но это старика ничуть не смущало. Через несколько минут он уже был далеко от полыньи. Выбрался!
Что дальше? Оказавшись на льду, старик встретился с не менее страшным врагом – лютым морозом; кроме того, с верхов задувал ледяной северный ветер. Несмотря на ослепительное солнце, одежда Авдеича стала на глазах превращаться в ледяную корку. Бр-р… Кажись, лютая смертушка!..
Выбора не было. Оставив лыжи на льду, старик на едва гнущихся ногах (в одних чугунных шерстяных носках!) рысцой заспешил к противоположному берегу Вятки. В полутора километрах от реки пролегала автомобильная трасса. Если повезёт, скоро будет в тепле, у дочери. Но это – если повезёт…
* * *Последние дни в душе Егора творился кавардак. Мало того, что все его друзья-приятели, с которыми призывался в армию, отслужив положенное, давным-давно вернулись домой («при акселях» и с богатыми дембельскими альбомами), так теперь каждый уже был чем-то занят: кто-то работал и даже успел жениться; кто-то уехал на заработки; некоторые «ушли в бизнес», другие «делали карьеру» на государственной службе. Казалось, только он один оказался в каком-то подвешенном состоянии. В отличие от прочих ребят, исполосованный вдоль и поперёк и еле выживший, Егор чувствовал себя от этого весьма удручённым. Кому такой нужен-то, убивался он. Да никому! Вот и Наташа ушла к другому – ещё не старому и богатому. А калеки, извините, всем без надобности.
Егор не считал себя инвалидом, поэтому всякие справка, какие ему вручили в госпитале, он даже не думал читать: жив – и ладно. Дайте срок, господа-товарищи, и он прочно встанет на ноги: устроится на хорошую работу, найдёт себя в жизни и заведёт достойную семью. А вот с будущей женой, пожалуй, будет сложнее – не представлял он своего будущего без Наташи…
Прошёл месяц, а он так и не встретил её, не переговорил, как надеялся накануне, не заглянул в любимые глаза. И уж собрался было, но опять Сергуня смутил: «Если невеста уходит к другому, ещё неизвестно, кому повезло»… Ему, Сергуне, легко рассуждать, он с девчонками долгих отношений не поддерживает. Незачем, говорит, себя оболванивать. Хитрюга, однако.
А на днях Егор к тётке Анне зашёл, маминой сестре. Попили с ней чаю, посудачили.
– Болит? – спросила тётушка, показывая глазами на его израненную грудь.
– Болит, – мотнул тот головой. – Только не сердце, а душа…
И поведал ей всё как есть – про службу в армии, про ранение и про то, что девчонка не дождалась. Вот, мол, и болит душа-то. А как успокоить – не знает.
– Понимаю, самой пришлось через такое пройти, – удивила Егора тётя Аня. – Никому не рассказывала, но тебе, так и быть, поведаю. Давно это случилось, тебе-то тогда годика два всего было, но помню всё до подробностей…
Как выяснилось, его тётушка, хотя и была женщиной видной и статной, в своё время «засиделась в девках» не случайно. Была, оказывается, тому своя причина – даже не причина, понял Егор, а обида, которую она сохранила на всю жизнь.
С Юркой Пыркиным они познакомились в доме отдыха, в красивом местечке под названием Берсут. Аннушка хорошо танцевала; легко это у неё получалось – откаблучивать на деревянных подмостках. Ну и Юрка не отставал. Там, на местной танцплощадке, они и познакомились. Помимо твиста, объединяло их ещё одно – оба росли без отцов, погибших на фронте. И хотя знакомы были всего ничего, как-то сразу прикипели друг к другу, словно чашечка с блюдечком. В общем, крепко подружились; а когда разъехались, стали переписываться. Вскоре вместо Аннушкиной фотографии, висевшей у зеркала, появилась другая – Юркина, в полный рост, в модных штиблетах.
Сёстры, ясное дело, дёргали Аннушку: когда да когда замуж-то за своего Пыркина выйдешь? Но та лишь отмахивалась: в армии отслужит, вот тогда. Вскоре Юрку действительно забрали в армию, куда-то под Красноярск. Через какое-то время рядом с его фотографией в штиблетах появилась новая – обритый наголо Пыркин. А глаза у парня, отметили подружки, искренние такие, простые и открытые. Ох, сколько Аннушка тогда слёз пролила, глядя на ту фотку, где на фоне сидевшей на макушке зимней шапки торчали Юркины оттопыренные уши. Красавец! Сколько она ночей не спала, мучимая думами о том, как тому «служится, с кем ему дружится». А уж писем отправила в этот самый Красноярск, о котором раньше и не слыхивала, и не счесть! Об этом знали только она да Юра.
А потом… потом наступила развязка. Дембель, насколько известно, неизбежен, как крах империализма. Наступило время приезжать домой и Юрию. Влюблённые списались, договорившись о том, что Аннушка приедет к нему, откуда они уже вдвоём поедут к его матери, а после – в Вятск. Так и порешили.
Провожая Анну в дальнюю дорогу, сёстры наказывали, чтобы домой без Пыркина не возвращалась. Маманя, подумывая о свадьбе старшей дочери, уже втихаря скрупулёзно собирала приданое – платья, одеяла, скатерти и подушки. Одним словом, «дурманом сладким веяло»…
Ждали Аннушку ровно десять дней. Она приехала на одиннадцатый. Одна, без Пыркина. Осунувшаяся, серьёзная и какая-то постаревшая. На сестёр Аня даже не взглянула, с матерью тоже особо не разговаривала. Дня три ничего не ела, появляясь поутру с заплаканными глазами. Лишь через неделю девушка стала приходить в себя, разговаривать и более-менее адекватно реагировать на окружающих. Постепенно «оттаяла» и кое-что рассказала.
До Красноярска Анна доехала хорошо. Воинскую часть, где служил Пыркин, нашла без труда, почти сразу. Солдат поразил девушку хорошей выправкой, широкими плечами и вихрастым чубом – словом, перемены были налицо, причём к лучшему. И всё бы ничего, если б не Юркины глаза. Они стали какими-то тяжёлыми, цепкими и… бегающими. Сначала она не придала этому никакого значения, хотя что-то такое остренькое в сердце стрельнуло: изменился всё-таки Юрка, изменился.
Дело к вечеру шло. Через день-другой парня должны были демобилизовать (так, по крайней мере, обещал его командир), и все их планы, которые они в письмах своих обговаривали, оставались в силе: сначала едут к матери Юры в Омск, потом – к ней.
Едва вызвездило, парень проводил Анну до гостиницы в военном городке, а сам отправился в казарму.
Девушка уже собиралась ложиться спать, когда в дверь номера постучали. Открыла, думала, вернулся любимый. Но на пороге стояла молодая женщина. Ярко накрашенная, с вульгарным, надменным лицом и глазами, полными ненависти. Анне стало не по себе.
– Вам кого? – спросила она непрошенную гостью.
– Юрий Борисович – мой парень, – с ходу начала намалёванная. – У нас с ним большая любовь, уже почти год. По сути, он мой муж. Я жду от него ребёнка. (Анна, машинально посмотрев на живот той, поняла, что так оно и было.) И я тебе его ни за что не отдам! Глаза выцарапаю, если завтра же отсюда не уберёшься…
Дверь резко захлопнулась, оставив Анну наедине с бессонной ночью.
Утром прибежал счастливый Юрка. Весь сияющий, возбуждённый.
– Ну, всё! – крикнул он с порога. – Думаю, уже сегодня к вечеру вопрос с моим дембелем окончательно прояснится! А завтра мы с тобой – ту-ту!..
Анна не спеша подошла к парню и, глядя тому в глаза, дала пощёчину:
– За меня!
Юрка побледнел; его зрачки широко расширились.
– За маму!
Парень опустил голову, лицо солдата стало багровым, напоминая спелый помидор.
– За нашу растоптанную любовь!
Пыркин буквально упал на стул, не в силах вымолвить слова. Девушка развернулась и, подхватив свой лёгкий чемоданчик, быстро вышла из номера.
– Аня! Аннушка моя! Подожди, любимая…
Но Анна его уже не слышала: в её жизни Юрки Пыркина больше не существовало.
– Где-то через месяц к нам приехала его мать, – рассказывала Егору тётя Аня. – Хорошая, добрая женщина. Мне, если честно, её до сих пор жаль. Она долго разговаривала – и со мной, и с моей мамой. Случись это сегодня, я постаралась бы восстановить порванные отношения уже ради этой несчастной женщины. Но тогда… молодая была, много на себя взяла. Молодо-зелено, как говорится. Тётя Дуся – ну, мать Пыркина, – проговорила с мамой до утра; потом, уже на следующий день, они обе (она и мама) просили меня одуматься и простить парня. Я, конечно, ни в какую: видеть, говорю, его не желаю! Лучше, кричу, в старых девках останусь, чем за него замуж! После таких слов его мать тут же и уехала…
– С тех пор что-нибудь о нём слышали? – поинтересовался Егор.
– Никогда, – покачала головой тётушка. – Да и не хотелось, знаешь ли, старое ворошить. Замуж, правда, поздно вышла – уж когда за тридцать было. Всё боялась вновь опростоволоситься. Искала свой «идеал». Теперь-то понимаю, что такого вообще не бывает.
– Пожалуй, вы правы…
– Ну, а насчёт твоей Наташи, я так скажу: хочешь не хочешь, тебе придётся её забыть. И, если ещё любишь, не лезь в её жизнь. Только дров наломаешь, себе и девушке судьбу испортишь. Она сделала свой выбор, а уж как там всё сложится, покажет время. Тебе сейчас следует взять себя в руки, поостыть, так сказать, и всё, вот увидишь, уладится.
– Думаете?
– Уверяю, – спокойно ответила тётя Аня. – Дай срок, Егор, непременно уладится…
Всё же не зря он забежал к тётушке. Той каким-то шестым чувством удалось найти секретный ключик к сердцу племянника – тот самый, который так долго искал в себе сам Егор.
Всё правильно, размышлял парень, если он Наташу ещё любит, значит, должен уйти в сторону и не мешать её женскому счастью. К прошлому возврата нет, а что будет дальше, никому неведомо. Придётся, видать, строить новую жизнь, вздохнул Егор. Жизнь без Наташи…
* * *Однажды он встретил своего хорошего знакомого, с которым учился в одной школе. Антоха Бобров, как и Озерков, когда-то закончил лесотехнический техникум, правда, года на три раньше Егора. После техникума и срочной Антоха какое-то время служил по контракту в частях МВД и даже умудрился заслужить престижный краповый берет. Потом уволился, поступил заочно на юрфак и пошёл служить в милицию, куда-то в оперчасть. Взяли, рассказывал Антоха, исключительно потому, что хорошо владеет приёмам рукопашного боя; да и… фактура, смеялся он, как у «маленького мамонта». Мне такие мамонты, сказал, увидав его, милицейский начальник, позарез нужны!
– Привет, – первым поздоровался Мамонт.
– Салют, – кивнул Егор. – Как говорится, и вам не кашлять.
– Что-то ты хмурый… – двинул «мамонтёнок» товарища по плечу. – Не поверю, что вчера весь вечер пил. Ты ведь, знаю, не пьёшь.
– Всё-то ты знаешь, Антоха… А уж когда форму надел, к тебе вообще не подойди…
– Ну, насчёт формы мы с тобой ещё поговорим, а вот то, что ты стал якшаться со всякой шушерой, мне доподлинно известно. Куда там тебя Сергуня-то вовлёк, а? Ты же боевой гвардии старший сержант воздушно-десантных войск, а позволил себя вовлечь в компанию каких-то рэкетиров. Удивишься, но тебя уже взяли на заметку и наши, и, заметь, бандиты.