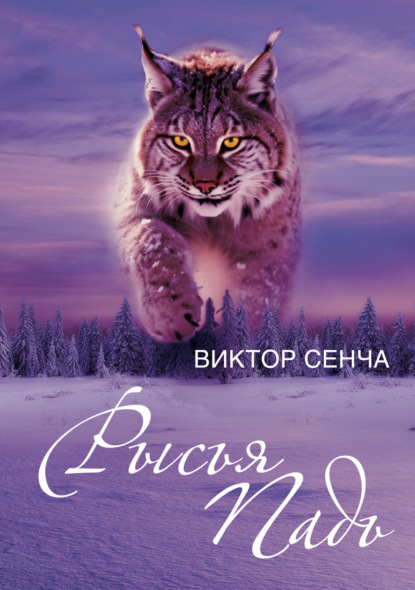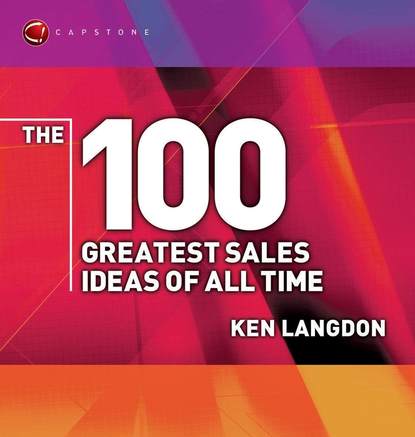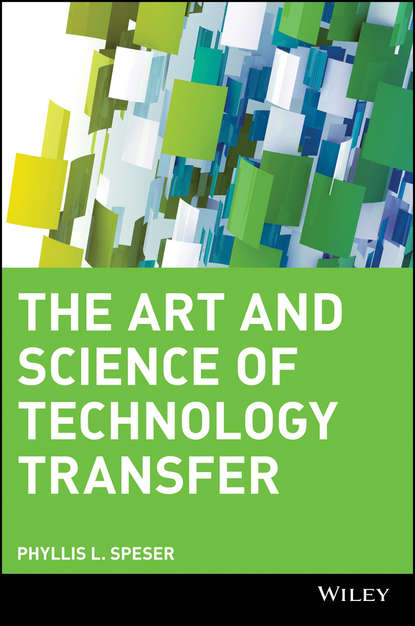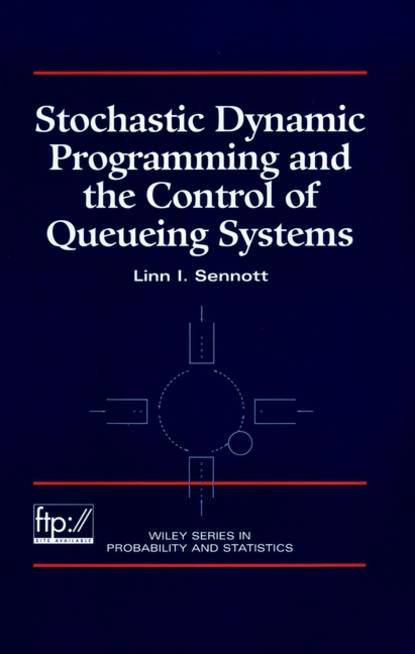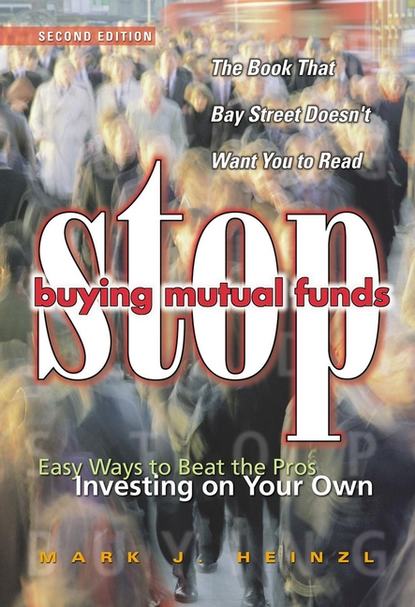- -
- 100%
- +
– Ты же, Егорка, как я слышал, из нашенских, озерковских, – неторопливо начал старик. – А потому в тебе, как и во всех нас, крепко сидит этот дух хозяина земли русской – трепетного, заботливого и бескорыстного. При мне в Пади-то ни браконьеров не было – ох, скольких мне пришлось перегонять! – ни беспредела всякого. Где Лес тебе помощником будет, где звери, а иногда и люди. Главное, парень, чтоб стержень в тебе не сломался.
– Какой такой стержень? – поинтересовался Егор.
– Да тот самый, что совестью зовётся: если продашь, назад не выкупишь. Не будь падким до главного лихоманья – денег! Чтоб каждый по ту и эту сторону Реки знал: Озеркова не подкупить! И тогда всё у тебя получится: зверь доверится, Лес будет защитой, да и сам себя больше уважать станешь. Кумекаешь, о чём я, Егор?
– Ага, Аким Авдеич, кумекаю, – кивнул парень. – Правильные слова говорите, только людишки-то нынче больно распоясались, нелегко, видать, будет…
– Нелегко, – согласился Авдеич. – А тебе на войне-то легко, што ли, было? Я те так скажу: там была своя война, здесь – своя! И везде, слышь, приходится Родину защищать! Потому как природа наша, та же Рысья Падь, – это и есть матушка-Родина, самая её нежная и беззащитная часть. Кумекаешь?
– Не поспоришь, полностью согласен…
– Дом мой в Озерках крепкий, ещё с отцом ставили перед войной, из сосны да лиственницы – на века. Печка разве чуток дымит, так это мелочь. Моё какое там барахлишко снесёшь в чулан… ну и живи. Лайку ещё тем летом медведь задрал, а нового щенка так и не успел прикупить…
– Тяжело без собаки-то было?
– Само собой. Собака в лесу – первое дело… Да, чуть не забыл, у реки, там, на развилке, издавна рыси балуют, нравятся им эти места. Ещё дед сказывал, как после Гражданской одного нашего, из Озерков, красноармейца рысь загрызла. Зимой дело было, в морозы. Обычно не бросается кошка-то на людей, а вот, гляди ты, решилась. Шёл парень пешком, а рысь и подстерегла. Видно, ошибся да по следу и двинулся. Оглушила, уронила и глотку парнишке-то перегрызла. Нашли нескоро, вороньё подсказало; по ордену Красного Знамени только и опознали. До сих пор помню имя – Алексей Озерков. У самого Тухачевского служил, герой! А поди ж ты… Природа, парень, она осторожности и уважения к себе требует, не забывай. Я вон тоже намедни вяточной водицы-то нахлебался досыти, слыхал, поди?
– Слыхал. Удивляюсь, как это вы Вятку-то перехитрили?
– Жить захошь – и не такое сможешь, – засмеялся старик.
Потом вдруг поперхнулся, закашлялся гулким, нездоровым кашлем. Больные лёгкие напоминали о себе кашлем и периодической резкой болью где-то под нижними рёбрами.
Просидели дотемна. Авдеич угостил настоящими вятскими пельменями (три трети: говядина, свинина и лосятина), а потом напоил душистым чаем с терпким запахом ромашки, зверобоя и местной шипицы. А на дорогу дал ещё пару мешочков вяленой малины и связку сушёных боровиков.
– Удачи тебе, Егор Озерков! – помахал на прощание рукой Авдеич.
– А вам – здоровья, Аким Авдеич, – улыбнулся в ответ новый егерь.
На том и расстались…
III…В приёмном отделении Вятской ЦРБ царила такая сутолока, что, если бы не спокойствие дежурного врача, могло показаться, будто очутился при строительстве Вавилонской башни. Здесь так всегда, когда на город ложится пятничный вечер. Пятница – день особый, предвыходной. А потому народ расслабляется, что называется, по полной, будто официально объявили о конце света на следующей неделе.
Возможно, именно поэтому пятничное дежурство Елена Борисовна воспринимала со свойственным ей спокойствием, достойным драйзеровского стоика. Хладнокровная деловитость, сосредоточенность и даже какая-то боевая снисходительность уже давно стали некой визитной карточкой врача. Передний край есть передний край; когда-то меньше, когда-то больше, что ни есть – всё твоё.
И всё же дежурство выдалось ещё то: почечная колика, которую с трудом удалось купировать; два аппендицита: один – классический, другой – с осложнением в виде начавшегося перитонита; холецистит – хотя и хронический, но с таким обострением, что легче было разобраться с тремя острыми; перелом лодыжки (хорошо, что сегодня не «день травматолога» и на улице нет гололёда!). Ну и «пятничная бытовуха»: колотые, резаные или рубленые раны разной локализации вследствие семейных или уголовных (чаще – семейно-уголовных) происшествий. В этот раз оказалось одно колотое в ягодицу и резаная рана предплечья. В первом случае пьяная драка; во втором – та самая бытовуха (подвыпивший муженёк прошёлся по разъярённой жене).
Пятница, господа-товарищи, пятница! А значит, расслабление требуется. Тяжкое нынче житьё-бытьё, неокапитализм за окошком. Оттарабанил господин рабочий у станка очередную неделю, а с зарплатой – шиш! Лишь на бумаге, нет денег – и всё! И где теперь их возьмёшь? Ни пивка с друзьями выпить, ни в сауну приличную сходить, ни… ни… Ни туда, понимаешь, ни сюда.
И вот приходит господин-товарищ домой. Настроение и без того ниже плинтуса, а тут оказывается, что танталовы муки ещё впереди. На пороге встречает благоверная: вся в бигудях, грудь колесом, брови выщипаны, рожа чем-то измазана (ну да, это ж очередная «омолаживающая» маска-фантомаска). Видать, куда-то уже намылилась.
– Деньги принёс?! – первое, что от неё слышишь.
При слове «нет» благоверная заканчивается, на глазах превращаясь в фурию. Получасовой истеричный крик, сопровождаемый зубовным скрежетом, постепенно смолкает, извещая о том, что вслед за непродолжительным затишьем обязательно грянет буря. И о её начале извещает первая разбившаяся тарелка. Началось! Вслед за тарелкой гремит любимый заварной чайничек-«эгоист», пара чашечек с цветочком (дарил ей на восьмое марта, дурак!), старенький отцовский аккордеон (а он-то при чём?)…
Пока терпимо, пока не больно, а если и больно, то как-то ещё не обидно. А вот дальше – больнее, чувствительнее, нестерпимее. В ход идут «шекспировские» терзания на тему «быть или не быть?», рыдания о «загубленной молодости» и стенания о том, с кем же всё-таки останутся дети в случае скорого развода? Когда «комаринская» подходит к концу, наступает черёд «цыганочки с выходом»: разъярённый и задетый за живое усталый и голодный хозяин дома (а кормить его, дармоеда, нынче, оказывается, никто не собирается!) встаёт наконец с дивана и…
Если честно, он поднялся лишь для того, чтобы угомонить вошедшую в раж жёнушку; однако та уже летает по комнате в каком-то дьявольском неугомонном экстазе в разгар Вальпургиевой ночи. Тут-то всегда спокойный мужичонка, наш господин-товарищ, ей и… того. Вроде как отмахиваясь от назойливой мухи. Хрясь кулачищем, а иногда и чем потвёрже (лишь бы под руку не попался острый предмет!) – и всё, сползла, любимая. Иногда помогают нашатырь или валериановые капли. Но порой доходит и до приёмного покоя. Вот такая она, пятница…
Бывает и похуже. Не каждому удаётся устроиться на местный заводик – только счастливчикам. Поэтому многие уезжают на заработки; не навсегда, конечно, на время, но всё же – разлука. Вернулся, а дома, глядишь, и без него жизнь налаживается, с более «респектабельным». Тут уж глаза сами ищут, где что потяжелее да поострее. Теперь уж точно всё заканчивается больничным приёмником. В лучшем случае для «респектабельного», ибо в худшем… Впрочем, об этом даже не стоит говорить.
За два с небольшим года работы врачом-хирургом в центральной районной больнице каких только пациентов не встречала Елена Борисовна. Бывали такие случаи, о которых ни в одном самом умном учебнике не прочтёшь. Явился как-то пациент, а у него огромный гвоздь в сердце сидит. Пока железяку не вытащили, жил, разговаривал и даже пробовал шутить. Но медики знали, стоит только его (гвоздь) тронуть, и пациента уже не спасти. Отправили в областную, в Киров, и где-то на полпути молоденький сердобольный доктор, сжалившись, всё-таки вынул. Везти дальше не имело смысла…
Был пациент с пулей в головном мозге, тоже сам явился. Все удивлялись: как же так, входное отверстие есть, а где же выходное? Рентгенография показала, что выходного и не будет: пуля-дура застряла между мозговых полушарий. Повезло, братец, такой один на миллионов десять.
Помимо всех этих колотых и резаных, частенько к вечеру в приёмник набиваются старики и старушки из разряда пациентов, действующих под лозунгом: «Чтоб лекарю служба мёдом не казалась». Их цель – напомнить о себе. Часть этих бедолаг, набегавшись днём по торговым лавкам и рынкам, к вечеру неожиданно «обнаруживают» повышенное давление; другие, забыв за целые сутки прикоснуться хотя бы к одной «спасительной» таблетке, к вечеру вызывают «скорую». Бывают и такие, кто, доведя до больницы соседку и насмотревшись здесь всякого и наслушавшись чего не положено, вдруг начинают чувствовать себя так, что впору госпитализировать. Тем более что этим всё равно – пятница ли, воскресение. Возраст ведь не выбирает дни недели…
И всё же Елена Борисовна свою работу обожала. Стать хирургом она мечтала с первого года учёбы в медицинском, хотя девчонки отговаривали: женщина хирург – явная ошибка, уж на худой конец – гинекологом. «А как же семья?» – справедливо возмущались они. Ленка молчала, но выбор свой сделала уже на третьем курсе.
Правы были подружки: на семейной жизни её профессия сказалась очень даже болезненно. Был и любимый парень (тоже местный, из Вятска), и большая между ними любовь, и даже шикарная свадьба. А вот семейного счастья не получилось. Хватит, сказал однажды Сашка, либо семья, либо хирургия! Она выбрала последнее, чего тот, по-видимому, никак не ожидал. Но отступать уже было некуда, а терпеть и подавно. Детей у них так и не появилось (с её-то работой, шутил муж), пришлось расстаться. Два года замужества, и вновь одиночество. Правда, у неё была любимая работа, пациенты, операции, дежурства… Но что это в сравнении с семейным счастьем, которого Лена, увы, так и не успела обрести? Семья осталась позади, сохранившись в памяти какой-то спринтерской дорожкой: на старте в белоснежной фате, у финиша – в операционном халате…
Потом к ней многие «подкатывались»; однажды зашёл и «бывший». Только на этот раз «поговорить по душам», как он выразился, у Сашки не получилось: слишком много утекло воды, чтобы два ручья вновь слились одной речкой. И оба поняли, что опоздали. Тем более что у него уже кто-то был… А вот она – по-прежнему сидела одна. Всё недосуг как-то было, не до личной жизни; да и не дело это, считала Елена Борисовна, размениваться по мелочам. Единственная отдушина – работа и операционный стол.
Потому-то Елена Борисовна не боялась «сумасшедших» пятниц. Даже наоборот, без труда подменяла коллег, если вдруг в такой день у кого-то что-то срывалось дома или на личном фронте.
– Елена Петровна, подмени, голубушка, – просил, бывало, кто-нибудь из коллег. – Так уж получилось, сегодня гости из Сарапула нагрянули…
– Гости – дело хорошее, – негромко заметит она. – Только вы, уважаемый коллега, и в прошлую пятницу каких-то там гостей встречали…
– В ту – не гостей, – замнётся разоблачённый врач. – Тогда свекровь из Ижевска угораздило нагрянуть. А теперь вот эти, из Сарапула…
– Ладно уж, где наша не пропадала, – вздохнёт Елена Борисовна. – Поставьте в известность заведующего…
– Спасибочки, «штрафник» вы наш! Чмоки-чмоки… Пока!
– Пока…
И вновь Елена Борисовна, засучив рукава, оказывалась на «переднем крае». Так уж на роду, видать, ей было написано, тащить врачебную лямку на острие социальной бритвы – в хирургическом отделении центральной районной больницы провинциальной глубинки. Лишь она знала, случись что серьёзное (дорожная сочетанная травма, черепно-мозговая и прочее), на помощь никто не придёт. Разве что советы какие-нибудь последуют от заведующего или из областной клиники, но спасать человека придётся ей – здесь, на этом самом переднем крае. И в глаза родственникам умершего потом смотреть тоже ей! А все «советники» аккуратненько отойдут в сторону, будто их и не бывало.
Именно поэтому, стоя днями и ночами за операционным столом, Елена Борисовна научилась смотреть в глаза людям честно и прямо. Одного лишь боялась – предательского сомнения, мешавшего порой сосредоточиться. Нет, смелости этой женщине хватало с избытком, а вот мысль о том, что в схватке за человеческую жизнь это самое сомнение может стать коварным врагом, угнетала. Из-за этого приходилось часами просиживать над книгами, торчать в секционном зале и подолгу не выходить из операционной. Передний край не терпит дилетантов. А слабые и трусливые никому не нужны. Вот и приходилось быть смелой – и перед больными, и в глазах собственных…
В середине ночи, закончив очередную операцию, она спустилась в приёмник. В такое время там уже обычно пусто. Последним пациентом оказался тот, которого только что прооперировали – с ущемлённой паховой грыжей. Крайне коварная штука, встречается не так уж редко, но требует к себе особого внимания.
Утомлённая, поднялась в отделение. Но едва вошла в ординаторскую, чтобы закончить дневник в истории болезни новенького, как снизу позвонили:
– Елена Борисовна, срочно зайдите в приёмный покой!
– Что случилось? – спросила у дежурной медсестры.
– Привезли какого-то парня из леса, – испуганно кричала в трубку молоденькая медсестричка. – Весь в рваных ранах! Кровищи…
* * *Начальнику губернской милиции тов. Сорокину.
РАПОРТ
Настоящим докладываю, что 25 августа с. г. в квадрате между деревнями Осиновка и Поддубки, близ урочища Рысья Падь, местными жителями обнаружены останки неизвестного мужчины. Труп сильно повреждён – обезображен дикими зверями. Документов и личных вещей на месте трагедии не оказалось. Предположительно – военный. Позже, чуть в стороне, на обрывке гимнастёрки обнаружен орден Красного Знамени. Причину смерти ввиду плохой сохранности останков определить не представляется возможным. Проводится дознание.
Боевой орден (для сверки по номерному знаку) отправлен в Вятку нарочным.
Начальник уездной милиции г. Вятска Пуговкин.
26. VIII.1922 г.
ТЕЛЕГРАММА
19. IX. 1922 г. 13 час. 15 мин. г. Вятка
Начальнику усовмилиции Пуговкину
«Обнаруженный орден Красного Знамени согласно его номерному знаку принадлежит пропавшему без вести младшему командиру РККА Озеркову Алексею Пантелеевичу 1901 года рождения уроженцу деревни Озерки Вятского уезда Вятской губернии».
Начальник губмилиции Сорокин.…Если задуматься, все Озерковы пошли из Рысьей Пади. И не важно, кто и где родился и вырос: Озерков – значит, отец или дед из этих мест, из деревни Озерки. Других с такой фамилией в здешних краях больше не было. Вот и Егоркин отец родился в Озерках, да и все родственники, почитай, оттуда же.
Егор в Озерках бывал несколько раз – ещё в те времена, когда был жив дед. То по грибы приезжал с ночёвкой, то куропаток с отцом пострелять. Позже, когда деревня уже совсем опустела, появлялся там редко, по пороше с другом погонять зайчишек. Ездил бы чаще, но далековато, да и бездорожье страшное: места за Падью кругом непроходимые, грязюка. Зато куропаток! Сами из-под ног выпархивают. Они-то и приманивали сюда осторожных охотников – рысь да лисицу.
Последний раз он был здесь аккурат перед армией. Приезжал не столько пострелять, сколько отдохнуть душой, собраться с мыслями, почувствовать, так сказать, генетическую связь времён. Отец потом смеялся: приехал с охоты с двумя куропатками.
– Ты что там, стихи писал? – издевался он.
– Не поверишь, ходил вокруг сосен, а рифмы сами рождались в голове, – рассказывал Егор. – Никогда такого не бывало…
– Странно, – удивился тогда отец. – Влюбился, наверное…
– Ну да, влюбился…
И вот он снова здесь. Для начала Егору предстояло всё увидеть на месте, как бы познакомиться вновь, проведя этакую рекогносцировку. Надёжные охотничьи лыжи, скрипя на морозном снегу, уверенно несли вдоль косогора. Перелесок, долгий спуск, вновь перелесок, опушка, заброшенная просека… А вот и тень густого сосняка, быстро укрывшая под размашистыми лапами. Егор шёл легко, не спеша, стараясь держать «свой ритм»: чтоб было тепло, но без испарины. Где испарина – там предательский холод, который навалится на первом же привале. А мёрзнуть никак нельзя, последнее дело для человека в зимнем лесу.
Несмотря на местные красоты, мысли парня были далеки от окружавшей его реальности. Последние события никак не выходили из головы. Как рассказал Антоха-Мамонт, в районной администрации были не в восторге от предложенной им кандидатуры егеря в урочище Рысья Падь. Местных чиновников даже не смутило специальное образование Озеркова. Имеется, мол, и другой кандидат – некий Алексей Козлов, тоже отслуживший в армии, молодой предприниматель. Как будто не знают, негодовал Мамонт, что этот самый Козлов есть не кто иной, как известный в городе рэкетир по кличке Пуля, ходящий под Кибой.
– Вот такие, брат, дела, – вздохнул, обращаясь к Егору, Мамонт. – Но не на тех напали. Уж я-то хорошо знаю, чем этих хмырей взять. А компромата на многих из них у нас предостаточно. Поэтому – утвердили как миленькие. Киба перебьётся. Не хватало ещё, чтоб бандитам Лес отдать! И так уже всё живое перебили…
За невесёлыми мыслями Егор неожиданно для себя отвлёкся и совсем не заметил, как лыжи уже минут пятнадцать скользили… по рысьему следу.
Рысь не нападает на человека. Лесная кошка предпочитает этакое мирное сосуществование с Двуногим; идеально – если это коварное создание не попадает в её поле зрения вовсе. Для рыси в Двуногом противно и противоестественно всё: его неуклюжесть на двух шатких и толстых ногах; отвратительный запах, какой не встретишь среди обитателей лесного мира; и самое страшное – безмерное коварство. Двуногий – самый хитрый и опасный хищник в местных кущах. Несмотря на свою неповоротливость (с виду – почти беззащитен!), Двуногий может установить страшную ловушку, заманить в клетку или просто забить палкой. И не обязательно, что только мелкого животного.
И совсем опасно, когда в руках Двуногого оказывается Огненная Палка. От грохота этой Палки лесной обитатель лишается слуха и воли. И только быстрые ноги порой спасают хрупкую жизнь. Палка убивает. Она изрыгает огонь и дым. Но и это не всё. Чудовищный враг убивает любого, будь тот на бегу, на лету или на плаву – нет от него спасения! И вся надежда на сильные ноги, мощные клыки или крепкие крылья. Оттого-то увидеть Двуногого с Огненной Палкой не останавливает даже природное звериное любопытство, ибо из поколения в поколение передаётся: Двуногий с Палкой – это смерть! Другое дело, когда вдруг встретится Детёныш Двуногого или тот же Двуногий без Палки. Только тогда (и то на мгновение!) можно, застыв в густых зарослях и затаив дыхание, чуть-чуть рассмотреть этого опасного врага. Правы были предки, рассказывая, что те ужасны. О да, просто уроды! Безносые, с плоскими голыми мордами; всё остальное тело покрыто непонятно чем – ни шкурой и ни кожей. Иногда из их уродливых ртов выделяется такой удушливый дым, от которого хочется быстрей убежать. Нет, сто раз были правы предки, предупреждавшие держаться от Двуногих как можно дальше.
И всё же, если Двуногий в Лесу, это ещё не значит, что он здесь полноправный хозяин. Хозяева здесь – Обитатели, а Двуногий – разве что гость, нежелательный прохожий. Опасный гость. Однако местные его терпят только до поры до времени: когда Двуногий начинает угрожать жизни зверей и их детёнышей, те зачастую вступают в открытое противоборство. Только угроза жизни может толкнуть Обитателя на тропу войны. Вот тогда-то Двуногому несдобровать!
Рысь не нападет первой на человека, даже если находится в засаде и хорошо видит своего противника. Кошка обычно лишь наблюдает, внимательно рассматривая Двуногого. И от поведения последнего зависит дальнейший расклад. Если Двуногий проходит мимо (иногда – буквально в двух шагах от замаскировавшейся в ветвях рыси), зверь не шелохнётся. А вот если…
Схватка с Двуногим всегда непредсказуема. Как с волком или росомахой. Велик риск самой стать добычей. К чему такие сложности, когда зайцев кругом – как грибов по осени? Потому-то, встретив Двуногого, лесная кошка лишь затаится, постаравшись не обнаружить себя. Но если Двуногий пойдёт по рысьим следам… След этого животного, несмотря на его кажущуюся ровность, замысловат и загадочен. Но какими бы хитрыми не были длинные зигзаги, они обязательно приведут к тому, кто их оставил. Лесная Азбука выживания гласит: свежий след всегда ведёт к зверю. И знает об этом каждый Обитатель. А значит, преследователь – враг, который должен быть уничтожен! Иначе он убьёт оставившего след. Всё та же Азбука выживания.
…Зверь внимательно наблюдал за Двуногим. А тот, хоть и неуклюже, всё ближе и ближе приближался к цепочке неглубоких кошачьих следов. Вот он эти следы пересёк, прошёл дальше, взял в сторону и вновь упёрся в цепочку. Потом ненадолго замер и… пошёл прямо по следу. Встревожившись, кошка привстала на сосновом суку, ставшем в этот день неким наблюдательным пунктом за заячьим хороводом. Гуляй, Косой, у тебя сегодня праздник, повезло! От возбуждения задрожали кисточки на кончиках ушей. Каждый мускул и каждая клеточка самца нервно затрезвонила, извещая: тревога! Невероятно, Двуногий двигается по Его следу! Зрачки рысьих глаз хищно сузились.
Проследив путь врага, Он осторожно спрыгнул с дерева, быстро перебежал к другому, забрался повыше, высматривая Двуногого, и, обнаружив, вновь очутился в снегу. Теперь предстояло самое важное – узнать случайно или целенаправленно пошёл по Его следу Двуногий. Опередив врага метров на триста, кошка, вновь выйдя на свои следы, чуть потопталась и медленно пошла на круг, вскоре очутившись не так далеко от места первой встречи с врагом. Вскочила на ветку густой ели, притаилась, зорко всматриваясь вдаль. Двуногий плёлся по свежему следу. А это уже серьёзно.
Мозг животного ожил в виде мощного протуберанца инстинктов и рефлексов. Явная погоня, Двуногий с Огненной Палкой. Мясо съеденной поутру куропатки помогало голове ясно мыслить, а мускулистому телу трепетать от вожделения. Враг устроил погоню, но даже не догадывается о засаде; Двуногий так ни разу и не взглянул вверх. Какой смешной, этот Двуногий – неуклюжий, медленный, беспечный… Но крайне опасен!
И всё же самец никак не мог принять решения. В этих местах Его знали как сильного противника – своенравного и безжалостного. Правда, эти качества в полной мере проявлялись лишь в том случае, когда Он бывал голоден, а также при несоблюдении потенциальным врагом Правил Леса. На счету Рыси было несколько блестящих побед над одинокими хищниками и одним молодым Косолапым, по дурости залезшем в валежник, куда совсем не следовало соваться: там скрывались кошачьи Детёныши. Впрочем, были и неудачи. Так, при кровавом столкновении с Сохатым, тот перебил копытом кончик хвоста и едва не пригвоздил к дереву – хотя и сам едва не остался без глаза. Одним словом, Обитатели не любили связываться с этим хищником.
Подвергаться опасности от Двуногого Ему ещё не приходилось. И это несмотря на то что последняя встреча с этим племенем состоялась не так давно, на Реке. Двуногий тогда едва не погиб, следовательно, не представлял из себя никакой опасности.
Рысь вновь скользнула вниз. Итак, проделав круг, Он уже почти не сомневался: враг шёл следом. Можно, не торопясь, приготовиться к атаке. А когда подойдёт… И всё-таки что-то удерживало хищника от решающего шага. Всё тело ещё больше забила нервная дрожь: Он волновался.
Ещё не видя, но уже заслышав удары деревянных досок по снегу, Он пошёл на второй круг – своеобразную «восьмёрку», желая окончательно проверить намерения Двуногого. Если и сейчас тот двинет за Ним, сомнения улягутся: Враг! И если это действительно окажется так, Он не будет церемониться с Двуногим! Самец поступит с ним так же, как с тем глупым Косолапым…
* * *Егора как будто что-то остановило. Подняв наконец-то голову, он понял, что чуток приплутал; пришлось вернуться туда, где прошёл с полчаса назад. Ага, вот и следы от его лыж. Тьфу ты, сколько времени потеряно! Присел на пень, достал термос и бутерброды, подкрепился. «Очень хорошо, что сальце-то прихватил, – подумал он. – В мороз сало, говорил комбат, самое лучшее согревающее…»
Допил чай и, дожёвывая съестное, аккуратно уложил термос в рюкзак. Накинул на плечи лямки, поправил карабин – и айда, паря, дальше. Впереди ещё вёрст пять, не меньше. Выехал на свой след, забиравший вправо, ухмыльнулся и… круто взял влево – как раз вдоль свежих рысьих следов.
А минут через пятнадцать в Егоркиной груди зазвенел колокольчик. Был такой, ещё с войны. На самом деле ничего осязаемого у него не имелось, за исключением, разве что, обострившейся до самой верхней планки интуиции. Вместе с неким теснением в израненной груди Егор вдруг до тошноты ощутил чувство смертельной опасности. Он приостановился, огляделся по сторонам внимательным взглядом, но, так ничего и не заметив, тронулся дальше. В груди трезвонило и жало. «Надо бы к врачу, – подумал на ходу. – Видать, рана даёт о себе знать…»