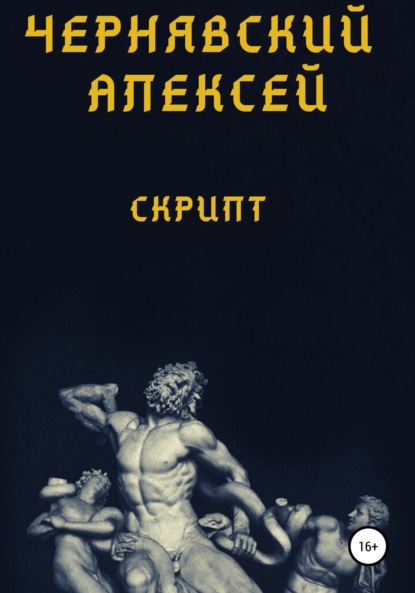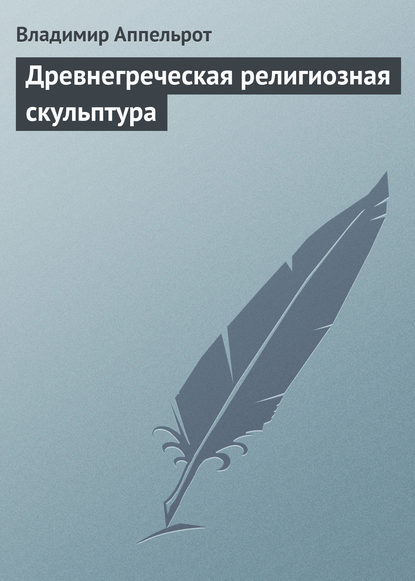- -
- 100%
- +
В Рысьей Пади Сохатому нравилось. Здесь было спокойно, тихо, неопасно. А по весне, как раз тогда, когда родился сын, случилось совсем непонятное – он подружился с Двуногим. Получилось так, что как-то недалеко от одинокого жилища лось набрёл на большие охапки душистого сена. Пришёл туда другой раз – опять сено, душистое-душистое! Привёл туда подругу, бывшую на снося́х. Та, изголодавшись на одной осиновой коре, не могла нарадоваться, с радостью поедая сухую, пропахшую летом траву. А через несколько дней быстро и удачно принесла Малыша.
Сохатый был тёртым калачом, а потому быстро смекнул: Двуногий оставил сено для Него. И когда однажды увидел у кормушки пожилого Двуногого, не испугался. И даже совершил невероятное: не решаясь подойти ближе, он трубно прокричал старику слова благодарности.
– Покричи, покричи… – пробурчал в ответ Авдеич, едва заметно усмехнувшись. – Весна ведь, изголодались, поди…
Так постепенно завязалась негласная дружба Сохатого с Двуногим, который, в отличие от своих собратьев, помогал Обитателям выживать. И зверь в этом не сомневался. Именно поэтому уже не первый раз лосиная семья встречала у кормушки других Обитателей – Секача, Косуль и даже Рыжую. Всех понемногу подкармливал этот Двуногий. Вон, Секач, не стесняясь, явился сюда со всем своим выводком – суетливой Свиньёй и с десятком прожорливых полосатиков. Тяжело таких весной прокормить.
Да, надо бы, конечно, ещё раз привести к кормушке Малыша, пусть поест вдоволь. Молодой ведь, тело силой наливается, постоянно есть хочется. А какой красавец – плоть от плоти Сохатый: изящный изгиб сильного носа; а что за чудные ноздри, дышит – словно песню поёт! Глаза – две Луны, а не очи! Но это уже не его – матери. Та ещё красавица. Ни одна из бывших с ней не сравнится: молчаливая, покладистая, ласковая. Потому и любит.
Одно заботило Сохатого: в последнее время здесь, в Рысьей Пади, стали чаще встречаться сородичи – и одинокие, и семейные. А это опасно. Во-первых, каждый из встречных самцов с вожделением косится на его половинку, что очень даже отвратительно. А во-вторых, новички могут привести за собой Двуногих с Огненными Палками. Верный признак, уже проходили. Именно так он лишился предыдущей семьи. Двуногий всегда опасен, с Огненной Палкой – смертельно опасен! Будь бдителен, Сохатый, внушал он себе, всё чаще и чаще заботливо оглядываясь на тех, кто шёл за ним следом…
Секач терпеть не мог, когда рядом сновал кто-то из Обитателей. А ещё его воротило от одного вида Двуногого. Увидав неподалёку от себя Сохатого, хряк от досады злобно засопел, а потом не выдержал и громко хрюкнул. На всякий случай, не поленился сделать ложный выпад в сторону вислорогого. Но тот, даже не оглянувшись, лишь цокнул острым, как копьё, копытом прямо перед мощным пятаком.
Что ж, придётся вернуться к корыту. Хрюкнул ещё раз, созывая всю свою дружную компанию в кучу, чтоб, того гляди, не растерялись.
От корыта до ужаса пахло Двуногим, зато внутри него оказалась такая вкуснятина! Конечно, не свежие жёлуди под дубом, но всё же… Голодный выдался год, лучше и не вспоминать.
Хрю-у-у… Секач громко вспылил, когда один из полосатиков выхватил из-под самого носа кусочек чего-то до умопомрачения вкусненького…
* * *Зверья в Рысьей Пади и в окрестных лесах, как отметил новый егерь, действительно хватало. Даже в Хвойном Увале, где, в отличие от Сосновой Балки и Утиной Заводи, ни кабанов, ни лосей отродясь не бывало, сейчас егерь обнаружил свежие следы тех и других. Правда, Хвойный Увал растянулся почти от Кряжа до Балки, а это никак не меньше десяти кэмэ, прикинул он. Тут тебе, помимо сохатых, и лисица, и волк, и даже медведь. Да и рысь теперь не только в Сосновой Балке, но и на Увале, где беляков – как воробьёв на базаре; опять же куропатка; есть парочка глухариных токовищ…
Авдеич, конечно, хорошее наследство оставил. Хозяйство ухоженное, везде кормушки расставлены, кое-где тропы проделаны. Всё по уму. Привольно зверям в лесу, спокойно. Здесь почти как в заповеднике. Когда много ко́рма, зверь хорошо размножается и меньше мигрирует.
И в то же время Егор тревожился. Сказывалась военная выучка, умение быстро оценивать обстановку. Если в лесу много животных, появляются кое-какие вопросы. Что привело зверей в Рысью Падь? Едва ли кормушки старика Авдеича. Кормушки могут разве что поддержать животных в трудное время, а потом они уходят. А если не торопятся уходить? Значит – некуда. Причиной скученности зверя наверняка стала массовая вырубка лесов в соседних регионах и, конечно, неприкрытое браконьерство. Оставшись без леса, а значит, и без дома, зверь оказывается перед человеком с ружьём один на один, совсем беззащитным. И он бежит от убийц туда, где леса и кущи.
Мудрому Авдеичу удавалось в течение нескольких лет обводить вокруг пальца начальников всех уровней, заявляя, что леса́ в его владении, в частности – и урочище Рысья Падь, – находятся в так называемой «отдышке». Лишь лесные работники знают: леса, как и поля, не только используются, но и «отдыхают». Если, скажем, в Болотном урочище три сезона подряд проводилась охота, то потом охотничья забава переносится на Сушинскую Гряду или в тот же в Хвойный Увал; а вот Болотное урочище переходит в разряд «отдыхающего» леса, то есть два-три года находится в «отдышке».
Пресловутая «перестройка», к несчастью животных (и людей!), «перестроила» и Лесные Правила: оказались загубленными сложившиеся десятилетиями законы в сложной социальной цепочке «зверь-человек». Было время, когда не только копытных, но и зайцев-то всех повыбивали «вольные стрелки». И противостоять этой вакханалии было практически невозможно. Леса вырубали, зверей убивали. Вот она, «перестроечка»…
Насколько знал Авдеич, двух его знакомых лесников, наиболее яростно отстаивавших зелёное богатство, подло ранили в спину. Да и в него стреляли не раз и не два. Сопляки, куда им Авдеича свалить? Припугнул для острастки картечью над соплячьими головами – вмиг разбежались. Но это не решало общую проблему: браконьерский беспредел набирал обороты. А защитники Леса, брошенные государством на передний край невидимого фронта, вынуждены были принимать бой.
Егор не боялся переднего края. Он боялся другого – не успеть защитить доверенный рубеж. Едва очутившись в Рысьей Пади, егерь сразу понял: враг на подходе. Это чувствовалось по всему. И по одиночным трусливым выстрелам то у Реки, то за дальними болотинами, то за Вересковниковой Падью. Так уж вышло, что его участок вместил в себя многие километры Леса. Не только свои километры вошли сюда, но и безбрежные веси «ничейного» приграничья, где, казалось, уже не осталось ничего живого. Именно оттуда, как рассказывал Авдеич, обычно и появляются браконьерские когорты, своими набегами наводящие ужас на несчастных лесных обитателей. Оттуда и жди беды…
Однако, сам того не ведая, егерь был намного ближе к той линии огня, о которой пока лишь только догадывался. Но даже если б и знал, это ничуть бы его не смутило. Егор Озерков не сомневался в одном: на фронте есть только враг и Родина. А ты – посередине. Тут главное, чтобы чувствовать Родину спиной. Всё остальное зависит от тебя…
Часть вторая
Выстрелить легко. Намного труднее жить с муками совести за содеянное, если, конечно, эта самая совесть имеется…
В. АстафьевI…Где-то за полночь у моста, близ Изиверской Горки, аккурат у изгиба, резко бухнуло, заполошило-зашоркало, испугав до смерти запоздалых гуляк, а в заречной деревне – всю собачью свору. Повеяло теплом; затем и вовсе разухарилось, разгулялось-заве́трило, раздирая у берега тополиные безлистные кроны. И уже на утре́, после скорого ливня, сквозь бегущие хмурые космы стало быстро алеть, приближая весенний рассвет. Потом в нежной сини как-то враз брызнуло солнце, возвестив о приходе нового дня. Всё кругом ожило, заиграло под аккомпанемент гулкого ледяного шороха. Река, проснувшись и начав свой обычный весенний громоход, сейчас влекла к себе каждого, когда ещё встанет-то?
В этот раз ледоход ожидали давно и с опаской. Вплоть до декабря Река никак не могла успокоиться. Уже встала было, укрылась и будто вся съёжилась; но неожиданно потеплело, с низов задуло, подмокло. Вятка грозно заворочалась, сдвинулась, озадачив местных нешуточными торосами, опасными промоинами, коварными разводами. Дважды снималась и уходила, унося шугу́ и на́ледь, но потом всё повторялось сызнова. По-настоящему улеглась лишь к Рождеству; тогда же появились и первые «лисьи» тропинки-переходы.
Однако зимний сон оказался коротким. Уже в марте лёд на Реке посинел и взбух; но ни разводы, ни прибрежная наводь так и не сдвинули упрямицу с места. Лишь апрель-озорник решил исход дела. Зазвенел ручьями-колокольчиками, засвистел-защёлкал скворчиным хором, заиграл солнечными зайчиками. При таком затейнике хочешь не хочешь, а пора просыпаться.
Ленива ранней весной Вятка, заспана, нетороплива. Апрель и так к ней, и этак – ни в какую! И лишь орошённая освежающим ливнем, жеманница постепенно приходит в себя. Застонет, заохает, затрещит по-бабьи, а потом вдруг – раз! И пошла в пляс – с шумом и с грохотом, чуть ли не присядкою. Русская река – как русская женщина: если радости мало – хоть дай поплясать! Вот и пляшет, колышется, то стесняясь, то мощью наваливаясь. Не часто ей такая радость – только в апреле, когда звонко, ярко, вольготно и весело…
За прошедшее время Егору удалось в Рысьей Пади многое. Наследство Авдеича оказалось куда как приличным. Дом большой, просторный, обустроенный; всё чистенько, досочка к досочке, чинно и пристойно. Пристройки и хозяйство тоже были в порядке. Правда, пришлось полностью разложить и вновь соорудить печь. Старая «русская дымовуха» (как называл её сам Авдеич) действительно оказалась «дымовухой» – дымила, как Егоркин ротный, Василич, не выпускавший изо рта цигарку даже во время боя.
Пригодились навыки, привитые Егору отцом. Однажды они уже перекладывали такую же печь у деда, здесь же, в Озерках, когда он ещё был подростком. Теперь же приходилось перекладывать даже не одну, а сразу две – и в бане тоже. С банькой, кстати, пришлось повозиться. Вообще, «повозиться» – сказано не совсем точно: ветхую постройку, сгнившую по старости вчистую от конька до фундамента, пришлось разносить по брёвнышку, чтобы потом, завезя хороший сосняк, отстроить новую – жаркую, белую, пахнущую просмолённой древесиной.
Хорошо, помог местный лесничий Семёныч, земляк, отсюда родом. Здесь он не жил; места дикие, кому хочется в глуши-то? Так, периодически наезжал из Гусиных Озёр, где у него и семья, и два дома (в одном – дочь с зятем живут), да и какое-никакое хозяйство со скотиной.
– Был бы помоложе, ездил бы на Север, – ворчал Семёныч. – Сам посуди, там в месяц столько бы зарабатывал, сколь здеся за год накапывает. Жена по хозяйству, дочь в декрете со вторым, а от зятя какой прок, если постоянно торчит на вахте? Остаётся одно – лес исподтишка татарам продавать. И продавал бы, как покойничек Михал Пахомыч. Да только он, Пахомыч-то, недолго продавал, так в лесу и нашли. Но даже не в том дело. Через себя перешагнуть не могу, жалко лес-то наш, красивый уж очень… Из таких сосен, как в Рысьей Пади, раньше-то, отец сказывал, мачты для фрегатов делали. Эх, Расея-матушка, всяк её, голубушку, норовит обидеть-обобрать. А сколь зверья убивают – страсть. Хорошо хоть, ты сейчас, а до этого Авдеич порядок в лесу держал, иначе давно бы уж кругом пусто было…
– Да ладно, запричитал, – одёрнул его сверху Егор, заделывавший на трубе последние зазоры на швах. – Подай-ка лучше ещё раствору…
– А чё, я не зря говорю, – обиделся Семёныч. – Теперя каждый знат, что в Рысье Пади новый егерь, справный и честная голова. И ведь всё равно с ружжами лезут. Ладно бы с лицензией и когда положено, а то ведь браконьер на браконьере. Я б их, слышь, Михалыч, тут бы на месте и расстреливал…
Пока Семёныч продолжал свою обычную бодягу из цикла «Сталина на них нету!», Егор думал о другом. Как оказалось, в Рысьей Пади и прилегавших к ней лесах было не так уж и спокойно. И не только потому, что всюду шла варварская и бесконтрольная вырубка лесных угодий. Нашествие браконьеров, особенно со стороны «соседей», начинало серьёзно озадачивать: негодяи стреляли в любого лесного зверя и птицу. Преступники не считались ни с чем – ни с сезонами охоты, ни с собственной совестью. Хотя с последней такие вряд ли были знакомы. Неуважение к зверю стало основным правилом поведения человека в лесу.
Взять того же медведя. Устав за лето и нагуляв жир, зверь в зимнюю стужу спокойно спит в берлоге, никому не мешает. Сезон охоты в это время на него закрыт. Тем более что там же, в берлоге, обычно появляются медвежата. Но стало модным (Егор от досады аж скрипнул зубами!), выследив берлогу собаками, обложить её, а потом, разбудив косолапого и вынудив выскочить, из десяток ружей сделать из животного решето. Ну разве не варварство? Герои! Иногда, правда, подобные «герои» получали вполне достойный отпор.
– Слышь, Семёныч, я тебе не рассказывал, как в марте браконьеры медведя разбудили? – решил порадовать лесника Егор.
– Не-а, – покачал головой тот. – А чё оне в марте-то, рано ведь?
– То-то и оно, что рано. Ну, слушай. В марте, как ты знаешь, из-за яркого солнца, которое целый день ваяет в лесу прочный наст, охотникам проще добраться в самые непроходимые чащобы. Однажды два горе-сыскаря наткнулись на медвежью берлогу. Сунулись, точно, там косолапый мирно почивает. Давай, говорит один, сделаем так: я с винтарём заберусь на дерево, а ты слегой [2] мишку-то расшевели. Зверь выскочит, и тут мы его с двух стволов-то и завалим…
– От эть, чё творят, – покачал головой возмущённый Семёныч.
– Слушай дальше. Другой, у которого в голове оказалось не больше, чем у его товарища, согласился. Рассредоточились, значит. Тот, который со слегой, просунул палку в щель и давай ею шурудить – туда-сюда, туда-сюда… Достукался. Косолапый попался будь здоров, зверь-зверем, с чёрным отливом. Вылетел оттуда разъярённый, что твоя тёща! И ну на того, который с дубиной. Тот, слышь, забыл, как его звать, и, схватясь за сердце, а может, ещё за какое место, драпанул в кусты. Мишка, знамо дело, за ним. Но тут очнулся другой, что на дереве: бух! бух! Видать, зацепил косолапого-то, отчего тот, окончательно озверев, бросился на дерево. Мужик, поняв, что лезут по его душу, едва в штаны не наворотил, никак не может перезарядить свою старенькую двустволку. Руки трясутся, как у старой Меланьи из Еловки. Один патрон в снег уронил, за ним и второй. Видит, до третьего уже дело не дойдёт – зверюга его вот-вот залапает…
– Дык… ружжом надо бы ему… прикладом-то… – разнервничался вдруг Семёныч.
– Ну, он так и сделал, – продолжал рассказывать Егор. – Стал махать двустволкой и орать что есть мочи. Вопил, видно, так громко, что смутил даже смелого мишку, который, перепугавшись такого неудержимого сопрано, поспешил сползти. Спрыгнул – и дёру в те же кусты, в которых бесследно сгинул первый недотёпа. В общем, мужик, просидев на дереве часа три, решил податься до дому. Спустился и по-тихому, чуть ли не на цыпочках, побрёл подальше от берлоги. Дошёл до высокого ельника и, обойдя кусты, нос к носу столкнулся… с медведем! Бедолага-косолапый, нагло выгнанный из собственной берлоги, просто одурел от столь активного преследования. С ужасом глядя друг на друга, заорали дружно враз! Надо думать, в тех местах так не кричали со времён вымерших динозавров. Короче, мужик дал дёру к «своему» дереву, медведь – куда подальше. Где винтовка, горе-охотник не смог бы сказать и под пыткой. Пришлось просидеть на сосне до утра. Где шлялся всю ночь косолапый, сказать трудно, но в берлогу свою не вернулся. А сбрендивший от такой охоты мужик на следующий день прибрёл в Рысью Падь. Чуть живой и хорошо помороженный. Помоги, грит, друг, готов штраф на месте заплатить, но выручи, доведи до деревни…
По мере повествования Семёныч то посмеивался, то громко хохотал, мелко трясясь и не в силах держаться на ногах. Потом поднялся и медленно побрёл к стоявшей в тенёчке большой корзине; сел рядом, привалился, достал махры… Вдруг прямо за спиной лесничего послышался какой-то шорох, а потом и грозное шипение, перемежающееся с непонятными мяукающими звуками. Семёныч подскочил так быстро, как будто ему было не полсотни годков, а лишь семнадцать.
– Змея! – дико закричал он, отскакивая от корзины. – Чуть, гадина, не ужалила… Рогатина есть или грабли какие? – обратился мужик к Егору.
– Да угомонись ты, Семёныч, – улыбнулся егерь, сползая с крыши. – Никакая это не змея. Это Пшика. Пшика, Пшика, красавица моя… – позвал он, направляясь к корзине.
Не веря своим глазам, Семёныч увидел, как оттуда высунулись два острых уха, увенчанных мохнатыми кисточками. Вслед за ушами появились жёлтые хищные глаза, враждебно нацеленные на лесничего.
– Успокойся, дурёха, – запустив в густой подшерсток руку, ласково заговорил с рысёнком Егор. – Дай я тебя поглажу…
Рысёнок съёжился, но всё же дал себя погладить и, зажмурившись, громко замурлыкал.
– Эту красавицу, Семёныч, я в лесу нашёл. Пшикой назвал, любимица моя…
– А почему так чудно назвал-то, не по-нашенски?
– Так уж вышло, Семёныч. Так вышло…
* * *Одиночество не долго терзало овдовевшую кошку. После гибели друга незаметно для себя Она вдруг стала сдержанней в чувствах и эмоциях; пропала игривость и желание оттачивать мастерство на сосновых крепких ветвях. К прежней осторожности добавилась излишняя осмотрительность и плавность в движениях. Через какое-то время Она поняла, что не одна: где-то там, пониже рёбер, вдруг заявило о себе что-то живое и чрезвычайно дорогое.
Опыт приходит с возрастом, а кошка была слишком молода, чтобы не испугаться столь разительной перемене внутри себя. Поначалу Она долго и настороженно прислушивалась к тому, что творилось с её телом, пытаясь понять происходящее. Но интуиция и инстинкт подсказали: ничего страшного нет, просто… так и должно быть. И рысь успокоилась, привыкая к своему новому состоянию.
Несмотря на растущий живот и набухавшие с каждым днём сосцы, Она оставалась достаточно ловкой, чтобы зайчатина на обеденном столе не переводилась. Правда, теперь приходилось поглощать всё – мышей, кротов и даже лисиц, не говоря уж о всякой пернатой мелюзге. Голод заставлял совершать многокилометровые переходы, а это тоже утомляло. Иногда шла на очередную хитрость и, обнаружив свежие следы беляка, пробиралась к месту заячьих игр, где, устроив засаду и затаившись, терпеливо ждала единственного мгновения для удачного прыжка.
Но были дела и поважнее, нежели часами лежать в засаде. Она долго искала чего-то ещё, пока не понимая – чего именно. В отличие от большинства зверей, загодя готовящих для будущего потомства гнездо, логово или берлогу, рысь занимается этим, когда, что называется, деваться некуда. За несколько часов до того, как окотиться, будущая мать инстинктивно определяет, что ей сгодится – дупло или непроходимый валежник. Дупло, конечно, лучше и надёжнее, но его труднее найти; в валежнике – проще, зато опаснее. Можно устроиться в чужой норе, но там детёнышей быстро обнаружит росомаха. И если материнский инстинкт очень силён, рысь обязательно приметит, что ей может сгодиться в будущем.
Два дупла на первый взгляд вполне сносные, Она отбраковала сразу же. В одном, просторном и сухом, где сосну побила молния, останавливаться было крайне опасно: изъеденный огнём ствол, не ровен час, вот-вот мог рухнуть. Другое тоже оказалось неплохим, но из-за широкого входа и близкого расположения медвежьей берлоги, от убежища пришлось отказаться. Да и росомахи там шныряют, как поняла позже. Третье было занято, и свежие метки внизу мощного соснового ствола напоминали об этом. Пришлось присматриваться к валежинам. Худший вариант, но что поделаешь?..
Котята появились, когда уже было совсем тепло. Всё-таки пришлось котиться в валежнике, причём в таком, на который Она наткнулась случайно, за несколько часов до ответственного момента. Да и выбрала лишь потому, что к нему почти невозможно было пробраться. Но только не Ей! Рысь добралась до самого нутра хаотичного нагромождения, быстро освоилась, нашла уютный, непродуваемый и сухой уголок и стала его обустраивать. Вскоре появилось лежбище, в котором кошке и предстояло произвести на свет потомство.
Заслышав писк, Она и тут не растерялась. Быстро вылизала шевелящиеся комочки, аккуратно перетащила в сухое место, а потом осторожно прилегла рядом. Эти беззащитные существа принесли матери некоторое успокоение; приложив их к набухшим сосцам, обессиленная, Она тут же заснула…
Природа так подгадала, что крупные кошки растят своих детёнышей в семье: пока один добывает свежее мясо, другой неотлучно находится рядом с котятами. Иначе – никак; иначе, лишившись детёнышей, придётся всё начинать сначала. А врагов у рыси хоть отбавляй – тот же волк, росомаха. Но самый опасный из всех врагов – Двуногий. Этот силён, умён и беспощаден. Словно рождён, чтобы уничтожать рысий род; потому-то кошки стараются держаться от него как можно дальше. Ведь если росомаху или серого можно обмануть, запутать и даже запугать, то с Двуногим нет смысла тягаться: его Огненная Палка не даст и шанса на спасение.
Рыси-одиночке с котятами всегда нелегко. От её ловкости и природного умения ежедневно добывать свежее мясо зависит не только собственная, но и жизнь детёнышей. Именно поэтому, где бы Она ни находилась, чем бы ни занималась – сидела в засаде, гналась за зайцем или закусывала куропаткой, – одна неотступная мысль не давала матери покоя: как там Детёныши? И, крепко ухватив чьё-то трепыхающееся тельце, тут же устремлялась к валежнику.
А там её уже ждали. Через месяц рысята были совсем не теми немощными комочками, какими их впервые увидела мать. Светло-рыжие, игривые и с жёлтыми огромными (как у отца!) глазами, они встречали Её радостным писком, хватая ещё почти беззубыми челюстями пахучее свежее мясо и начиная жадно рычать друг на друга. А потом, повозившись с вкусной, но тяжёлой для разжёвывания пищей, с радостью накидывались на сладкие материнские сосцы. А вот это – самое желанное! Вкусно, сытно и быстро. И, насосавшись, они с раздутыми, как шары, животами, засыпали под горячим, родным брюхом…
В отличие от рысят, их мать в последнее время сильно сдала, исхудала. Молока уже не хватало, а за добычей порой приходилось бегать за многие километры. Но выбора не было, и Она старалась как могла.
Но следовало держать ухо востро. Однажды рысь-кормилица, исходив в поисках еды всю Сосновую Балку, всё-таки поймала за хвост огромного тетерева, схваченного Ею на одном из токовищ; птица должна была стать хорошей наградой за потраченные силы. Мохнатые лапы сами несли кошку к валежнику. И уже приблизившись, вздрогнула и резко остановилась: отвратительный и ненавистный запах врага вдруг нестерпимо защекотал раздутые ноздри.
Это был запах Серого. Сначала подумала, что показалось. Но чем ближе подходила к валежнику, тем ощутимее становился отвратительный дух. Зашла с подветренной стороны, затаилась. Так и есть – Серый. Хищник-одиночка с озабоченным видом бродил вокруг рысьего лежбища. С одной стороны подойдёт, с другой, но справиться с тяжёлыми валежинами было не под силу даже ему. Но мать об этом уже не думала. Рысь осторожно выпустила из пасти тетерева и крадучись пошла навстречу злоумышленнику. «Ах ты… собака серая, – пронеслось в рысьей голове. – Пёс смердячий, щенок!..»
Кошка знала, как драться с псами, не одним из них утолила голод в зимние холода. Серый – тот же пёс, интуитивно догадывалась Она, только не друг, а враг Двуногого. И Её личный враг! Рысь стремительно кинулась на противника, сбила его с ног и, пройдясь острыми когтями от груди до живота, быстро отскочила. Обескураженный волк, взвыв от боли, попытался было кинуться на обидчицу, но вдруг взвизгнул и, оставляя за собой кровавый след на свежей зелени, быстро засеменил восвояси.
Рысь уже давно нашла самое слабое место всех псовых – живот. Он слишком плохо защищён, и стоило, сбив животного на землю, полоснуть когтями по светлому, беззащитному брюху, как грозный зверь тут же превращался в слабого щенка. Она не ошиблась: Серый без стаи – тот же пёс, только не лает…
* * *И всё же при всей своей осторожности, ловкости и знании Леса однажды Она допустила фатальную ошибку. Лес не прощает ошибок – ни малых, ни больших. Лес учит: будь внимателен и осторожен. Ошибка – это гибель! И Она ошиблась. Возможно, потому, что рысята быстро росли, требуя еды всё больше и больше… Мать же старалась.
Зайчатину рысь почувствовала издалека. В эти дни Она была страшно голодна, ведь всё, что добывала за сутки, отдавала ждавшим в валежнике детёнышам. Самой же оставалось питаться на ходу – случайно схваченная птичка, пара-тройка яиц, полёвка… Добыча посолиднее – Им. Приходилось охотиться днём и ночью. И вдруг такая удача: запах свежего мяса.