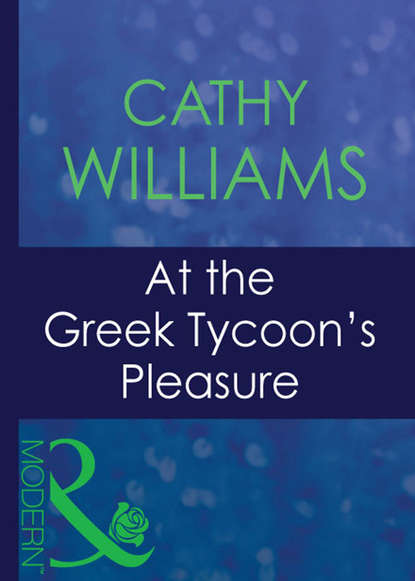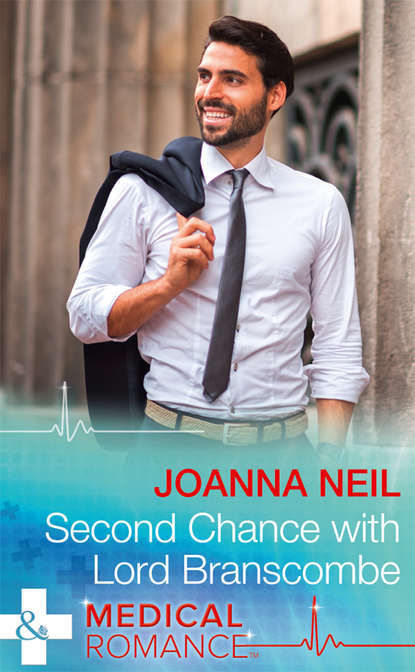- -
- 100%
- +
– Главное, – уверенно сказал Егор, – чтобы звук был как… ну…
Он постучал по одному арбузу, тот издал глухой «бум».
– Вот, как по голове Чердака, когда ему что-то объясняешь.
– По твоей голове сейчас будет, – буркнул я, но арбуз взял.
Илья стоял, слушал, и вдруг тихо сказал:
– Этот.
– Почему этот? – спросил я.
– Не знаю. Просто чувством.
Я тогда впервые увидел у него в глазах то самое странное чутьё, которое потом ещё много раз нас спасало.
В итоге мы набрали двенадцать штук.
С трудом затолкали их в багажник и на заднее сиденье.
Егор сиял.
– Всё, хлопцы, – сказал он. – Сейчас начинается наш путь к успеху.
«Москвич» тяжело вздохнул под весом бахчи.
Обратно мы ехали осторожнее: если в кювет, то мы утащили бы с собой половину урожая.
В посёлок вкатывались как герои.
У магазина «Продукты» старушки уже занимали позицию у лавочек, дети гоняли мяч, мужики тянули пиво.
Егор остановился у тротуара.
– Всё, – сказал он. – Начинаем бизнес.
– Ты вообще знаешь, как продавать? – спросил Илья.
– Конечно, – сказал Егор. – Смотри и учись.
Он вылез из машины, залез в багажник, вытащил один арбуз, прижал к груди.
– Свежие арбузы! – заорал он так, что испугались даже голуби. – Сладкие, как первая любовь!
Бабки повернули головы.
– По сколько? – крикнула одна.
Егор запнулся.
– По… семь пятьдесят!
Кто-то засопел.
Кто-то фыркнул.
Кто-то сказал:
– В ларьке по восемь.
– А у нас от души, – отрезал Егор. – Мы сами выбирали!
– Сами выбирали… – передразнила бабка. – Вы, пацаны, вчера ещё сопли вытирали, а сегодня бизнесмены.
– Вчера – да, – согласился Егор. – А сегодня – нет.
Я стоял рядом, чувствуя, как по спине течёт пот.
И от жары, и от стыда.
Илья прислонился к машине, наблюдая всё это, как театр абсурда.
– Ладно, – сказала другая бабка. – Давай один.
Это был наш первый покупатель.
Она выбрала среднего размера арбуз, мы его взвесили на старых весах, которые Егор притащил из дома.
Цифры прыгали, как рубль при очередном кризисе.
– Три с половиной кило, – сказал Егор. – Получается двадцать шесть рублей двадцать пять копеек.
– Ты чё, издеваешься? – спросила бабка. – Откуда у меня двадцать пять копеек?
Егор замялся.
– Округлим.
– Куда?
– В большую сторону, – невинно сказал он.
– Слышь, бизнес-вундеркинд, – вмешался Илья, – давай округлим вниз.
– Но прибыль… – начал Егор.
– А доверие клиента? – спросил Илья.
Бабка прищурилась.
– Этот парень прав, – сказала она, кивнув на Илью. – С такими можно иметь дело.
В итоге она дала нам двадцать шесть рублей, мы посмеялись, поблагодарили, она ушла, бурча что-то про «молодёжь пошла, хоть не воруют».
– Всё, – выдохнул Егор. – Процесс пошёл.
Дальше было легче.
Люди подходили, смотрели, щупали, торговались.
Мы смеялись, шутили, спорили между собой.
Егор продавал с напором рынка:
– Бери, пока есть, завтра не будет!
Я – с аргументами:
– Смотрите, корочка тонкая, звук отличный, не треснувший.
Илья – с каким-то странным спокойствием:
– Если вам не нравится, не берите. Мы не навязываем.
И самое удивительное – больше всего покупали у него.
– Почему так? – спросил я, когда очередная женщина ушла с арбузом, купленным именно у Ильи.
– Я просто не пытаюсь их продавить, – ответил он. – Я даю им самим решить.
– Это что, психология? – фыркнул Егор.
– Это уважение, – сказал Илья.
К вечеру мы распродали всё.
Все двенадцать.
Мы сидели на бордюре у «Москвича», сбрасывая монеты и купюры в общую кучу.
Солнце садилось, посёлок подсыхал после дневной жары.
– Итак, – торжественно сказал Егор. – Наш чистый доход…
Мы посчитали.
Ещё раз.
Потом Илья, потому что мы с Егором – не авторитет в математике.
Сумма была… не впечатляющая.
– Это всё? – спросил я.
– Это после вычета затрат на бензин, – кивнул Илья.
– То есть мы целый день пахали, рисковали жизнью, спорили с бабками…
– И заработали как за три дня разносчика газет, – закончил за меня Егор.
Мы молчали минуту.
Потом Егор сказал:
– Зато не сидели дома, как овощи.
Илья усмехнулся:
– И не пошли по лёгкому пути – что-нибудь спиздить.
Он поднял глаза на нас:
– Я рад, что мы это сделали честно.
– Я тоже, – неожиданно для себя сказал я.
Деньги были смешные.
Но это был первый раз, когда мы что-то сделали вместе и не соврали ни себе, ни другим.
– Ну что, – спросил Егор, – завтра повторим?
– Завтра дед уже не даст «Москвич», – сказал я.
– И бабки уже не будут в восторге, – добавил Илья.
Егор вздохнул.
– Ладно. Значит, это был наш первый и последний арбузный стартап.
– Зато теперь есть что вспомнить, когда будем рассказывать детям, как «поднимались с нуля», – сказали мы одновременно, а потом заржали.
Когда сейчас, через годы, я вспоминаю тот день, я понимаю, насколько мы были идиотами.
Без плана, без расчётов, без прав, без мозгов.
Но именно в этот день во мне впервые появилось странное ощущение: если с этими двумя идиотами мы возьмёмся за что-то всерьёз, мы это вытащим.
Может, не сразу, не идеально, но вытащим.
И когда мы сидели в «Лофте 17» и решали, ехать ли на похороны человека, который тогда, в юности, сказал нам: «Главное – не дрейфить», я поймал себя на том, что внутри это ощущение никуда не делось.
Да, мы поумнели, обзавелись кредитами, страхами, детьми, морщинами и привычкой пить воду вместо водки.
Но где-то глубоко под этим слоем взрослой упаковки всё равно сидели трое хлопцев, которые однажды загрузили в «Москвич» двенадцать арбузов и поехали в никуда, потому что «а вдруг получится».
И мне вдруг захотелось, чтобы это «а вдруг» в нашей жизни вернулось.
Только уже на других ставках.
С другими последствиями.
С теми же людьми.
Святой и его невысказанное
Если у каждого из нас внутри живёт какой-то зверь, то у Ильи вместо зверя сидел архивариус.
Тихий, скромный, с очками на кончике носа, который ничего не забывает и никого не прощает, хотя виду не подаёт.
Мы всегда шутили, что у Святого нет характера.
Просто ходит, молчит, иногда выстреливает такой фразой, что хочется либо обнять, либо спрыгнуть с моста.
Но это мы уже потом поняли, что «молчит» не значит «ничего не чувствует».
Это значит: «чувствует слишком много, чтобы тратить на вас каждую эмоцию».
После встречи в «Лофте 17» мы не разбежались сразу.
Сказать «едем» легко.
Жить с этим «едем» потом сложнее.
Мы ещё какое-то время сидели, обсуждая логистику: кто за рулём, кто когда может, что с работой, как объяснить жене, что нужно срочно ехать в посёлок на похороны человека, которого она никогда не видела, но который, по сути, сделал из тебя хоть кого-то.
– Ты ей скажи честно, – посоветовал я Егору. – «Любимая, это важный для меня человек».
– Ага, – фыркнул он. – И сразу получу: «А я что, не важная?»
– Ты скажи: «Ты важная. Он – ранняя версия меня. Надо закрыть баги», – вмешался Илья.
– Вы оба идите в жопу, – резюмировал Егор, но я видел, что мысль ему понравилась.
Мы разошлись ближе к ночи.
У метро я остался один, и меня впервые кольнуло:
А точно ли я хочу туда возвращаться?
Посёлок был для меня не просто точкой на карте.
Это как старый телефон, где в памяти тысячи сообщений, и почти каждое ты бы сейчас удалил, но тогда писал их дрожащими пальцами.
Пока я копался в этом, телефон вибрнул.
Сообщение от Ильи:
«Завтра вечером зайдёшь ко мне? Поговорим. Надо кое-что до поездки проговорить».
Я посмотрел на экран и раскрыл рот, как будто телефон мог услышать моё «ты серьёзно?».
С Ильёй «ко мне поговорим» никогда не означало «погоняем чая и поболтаем».
Это значило: будет вскрытие без наркоза.
Я несколько секунд думал ответить ли:
«Давай уже в машине поговорим. Там, если что, можно открыть дверь на ходу и выпасть».
Но вместо этого написал:
«Зайду».
У Ильи дома никогда не было лишних вещей.
Не потому что он был модный минималист, а потому что он всегда жил так, будто в любой момент может собрать рюкзак и уйти.
Комната, в которой он снимал однушку, была смесью кельи и кабинета психотерапевта: кровать, стол, стул, полка с книгами, кружка, ноут.
Никаких фигурок, рамочек «мы на море», никаких «живи, смейся, люби» на стене. Слава богу.
Я зашёл, снял кроссовки, огляделся.
– Чё-то у тебя всё как в съёмках передачи «Жизнь после развода», – сказал я.
– Главное, что не «Жизнь после обыска», – ответил Илья из кухни.
Он вышел с двумя кружками.
Чай.
Не пиво, не кофе, не вино.
Чай, мать его.
– Ты когда-нибудь нарушишь образ? – спросил я.
– Я уже нарушаю, – сказал он. – Ты здесь.
Мы сели за стол.
Обычный, старый, с потёртой столешницей.
На нём лежала тетрадь. Очень знакомая.
– Это что? – я кивнул на неё.
– Помнишь? – Илья подвинул ко мне тетрадь.
Я посмотрел и почувствовал, как меня укусило прошлое.
Потрёпанная синяя обложка, уголок оторван, на развороте – кривыми буквами:
«ПЛАН ЖИЗНИ. 16 ЛЕТ. ХЛОПЦЫ».Я пальцем провёл по этим словам.
– Ты это хранил?
– А ты что думал, – Илья сделал глоток. – Я же архивариус.
Я открыл тетрадь.
На первой странице – три колонки.
«Я» (это я), «Пёс» (Егор), «Святой» (он).
Напротив каждой фамилии – список пунктов.
Наши тогдашние цели.
Наши детские манифесты, написанные после очередной ночи в гараже у того самого человека, которого теперь собирались хоронить.
– «Не работать на дядю» – прочитал я свою первую строку и криво улыбнулся. – Нормально зашло.
Ниже было:
«Заработать первый миллион до 25».
«Уехать из посёлка».
«Купить маме машину».
«Снять фильм».
«Написать книгу».
«Замутить с 2 мулатками»
– Вот это, кстати, одно ты всё-таки выполняешь, – заметил Илья, кивнув на строку «книга».
– Я не уверен, что именно так это представлял, когда писал, – ответил я. – Тогда мне казалось, что я напишу что-то гениальное, и все ахнут.
– Ты всё ещё в этом сценарии, – спокойно сказал он.
Я закрыл тетрадь.
– Ты звал меня, чтобы я покопался в собственном позоре?
– Я звал тебя, потому что перед этой поездкой мне надо кое-что проговорить. И лучше начать не с Егора. Он либо всё упростит до «да херня», либо начнёт шутить.
– А я, значит, идеальный вариант: и драму разгоню, и в себя всё впитаю, – усмехнулся я.
– Ну да, – сказал он. – Ты же у нас всегда был главным сценаристом.
Я поставил кружку.
– Ладно. Давай без танцев. Что у тебя там?
Он опёрся ладонями о край стола, помолчал, будто выбирая, где вскрывать.
– Я не просто так сказал в баре, что недоволен тем, что молчал всю жизнь, – начал он. – Это не красивая фраза. Это факт.
– Ты никогда не молчал, – возразил я. – Ты всегда говорил по делу.
– Вот именно, – тихо сказал он. – По делу.
Только и говорил.
Он поднял на меня взгляд:
– Ты знаешь, каково это – быть «разумным» в семье, где всем выгодно, чтобы ты молчал?
Я замолчал.
– Расскажи, – сказал я.
В детстве у Ильи дома всегда было два состояния:
либо тишина, от которой закладывало уши,
либо скандал, от которого дрожали стены.
Его отец был тем самым человеком, о которых потом говорят: «жёсткий, но справедливый».
Только справедливость там чаще была про него самого.
Он мог опоздать, он мог сорваться, ему можно было хлопнуть дверью, ему можно было не извиняться.
Мать Ильи была вечной усталостью в халате.
Тихая, тонкая, с потухшими глазами.
Человек-фильтр, который стоял между отцовскими вспышками и ребёнком, пока сам не сгорел.
Илья никогда об этом сам не рассказывал.
Мы знали только обрывки:
«опять батя орал»,
«мать легла с головой под подушку»,
«я пошёл гулять, чтобы никого не убить».
Сейчас он говорил по-другому.
Без привычной иронии.
Без защиты.
– Я рос в доме, где говорить правду было опасно, – сказал он. – Если ты говоришь, что тебе плохо, ты «не мужик». Если ты говоришь, что с батей что-то не так, ты «не уважаешь отца». Если ты защищаешь мать, ты «лезешь не в своё дело».
Он вздохнул.
– Поэтому я научился молчать. И наблюдать.
– А нас зачем терпел? – спросил я.
Он слегка улыбнулся.
– Вы были лучшим сериалом, который у меня был. А ещё… – он замялся, – рядом с вами я мог быть честнее. Хоть чуть-чуть.
Я почувствовал, как голос где-то внутри садится на корточки.
– Помнишь, – продолжил Илья, – тот день, когда мой отец первый раз исчез?
Я помнил.
Тогда мы ещё не понимали, чем закончится эта история, но начало выгравировалось.
Это был октябрь.
Сырой, серый, с плесенью на небе.
Мы сидели у подъезда, курили дешёвые сигареты, которые Егор «выбил у жизни», то есть спёр у старшего брата.
Илья вышел из подъезда медленно.
Без куртки, в одной толстовке.
Лицо белое, как мел.
– Чё ты, как вампир? – спросил Егор.
Илья сел рядом, посмотрел на дальнюю точку, где заканчивалась дорога и начинались поля.
– Батя ушёл, – сказал он.
– В магазин? – не понял я.
– Нет, – сказал Илья. – В магазин он ходит без трёх пакетов.
А сейчас собрал всё и ушёл.
Мы замолчали.
– И что твоя мать? – спросил Егор.
– Сказала: «Не мешай ему».
Один короткий диалог, который тогда показался просто очередной бытовой драмой.
Сейчас Илья говорил об этом уже по-другому.
– Тогда я впервые понял, что в нашей семье правда никому не нужна, – сказал он. – Я видел, как мать смотрит на дверь. Я видел, как она делает вид, что всё нормально. Как говорит соседке: «Да так, дела».
Он сжал кружку.
– И я сделал то же самое. Я вышел к вам и тоже сделал вид, что всё ок.
– Ты не обязан был… – начал я.
– Обязан, – перебил он. – Ребёнок всегда обязан. В своей голове. Сохранить видимость. Не раскачивать лодку. Не устраивать сцен. Быть «адекватным».
Он усмехнулся.
– Вот так и формируется будущий Святой: человек, который всё понимает, но ничего не говорит. Чтобы никому не было неудобно.
Я поймал себя на том, что сжимаю кулаки.
– А потом он же вернулся? – спросил я.
– Да, – кивнул Илья. – Через неделю. Пьяный, счастливый, как человек, который съездил на курорт. Но официально он был «на работе».
Мать ни слова не сказала.
Я тоже.
Он перевёл взгляд на меня.
– И знаешь, что самое страшное? Не то, что он ушёл.
А то, что когда он вернулся, я испытал облегчение. Настоящее.
Как будто всё стало «как раньше».
– Это нормально, – сказал я.
– Нормально – да, – согласился он. – Но это и есть ловушка. Ты привыкаешь радоваться тому, что тебя снова ставят на место.
Он помолчал.
– С тех пор у меня выработался рефлекс: если слишком больно или страшно – молчи. Подождёшь, пока пройдёт.
– Не прошло, – тихо сказал я.
– Не прошло, – подтвердил он.
Мы сидели, и у меня было странное ощущение, что я попал в ту самую «мужскую терапию», над которой обычно шутил.
– И к чему ты сейчас всё это ведёшь? – спросил я. – Ты же не просто решил показать мне внутренности.
– К тому, – сказал Илья, – что поездка в посёлок для меня не только про похороны. Она про то, что я больше не хочу молчать.
– О ком?
Он посмотрел на меня пристально:
– О вас. О себе. О том, как мы живём.
Я отвернулся на секунду.
Это был тот редкий момент, когда хотелось резко пошутить, перевести тему, сделать вид, что ничего серьёзного не происходит.
– Смотри, – продолжил он мягче, – мы с тобой всегда играли роли. Ты – умный драматург, который всё объяснит и красиво разложит. Егор – прямой камень: «бей или беги». Я – тот, кто всех «понимает» и «принимает».
– И это плохо?
– Это удобно, – сказал он. – Но это не живо.
Он наклонился вперёд, опёрся локтями о стол.
– Я заебался быть удобным.
В его устах это «заебался» прозвучало, как выстрел.
Он матерился редко. И если матерился, то это было не украшение речи, а диагноз.
– Ты хочешь, чтобы мы поехали туда и ты там устроишь всем эмоциональную казнь? – попытался я упростить.
– Нет, – покачал он головой. – Я хочу, чтобы мы поехали туда и перестали жить так, как будто нам всё навязали.
– Работу, отношения, себя?
– Всё, – кивнул он. – Нас учили терпеть. И мы научились.
Настолько хорошо, что перестали понимать, где заканчивается жизнь и начинается выживание.
Он сделал паузу.
– И самое страшное – мы начали терпеть самих себя.
Я откинулся на спинку стула.
– Мне кажется, ты читаешь мои мысли и выдаёшь их как свои.
– Я читаю не мысли, – сказал он. – Я читаю лица.
Он выдержал паузу.
– Я вижу, как ты смотришь на свою жизнь. Как на плохо написанный сценарий, который стыдно выкинуть, потому что слишком много страниц.
Я скривился:
– Неприятно, но честно.
– Я вижу, как Егор держится за свою «правильность», потому что иначе придётся признать, что ему страшно. Что он не понимает, как быть отцом, мужем, мужчиной одновременно.
Он поднял взгляд к потолку.
– А себя я вижу как человека, который всю жизнь делает вид, что ему «нормально», чтобы никому не мешать.
Мы молчали.
– И что ты предлагаешь? – спросил я.
– Для начала, – сказал Илья, – поехать туда не как «взрослые, которые всё пережили», а как те пацаны, которые однажды пообещали друг другу, что будут рядом.
Он посмотрел на меня:
– Я хочу честно поговорить с вами обоими. По одному. До поездки. Без бара, без шума, без шуток.
– Меня ты уже вскрыл, – сказал я. – Потом Егор?
– Да, – кивнул он. – Но с тобой сложнее.
– Это ещё почему?
– Потому что ты умеешь красиво прятаться за словами.
Я усмехнулся:
– Называй вещи своими именами. Я профессиональный пиздобол.
– Ты профессиональный рассказчик, – поправил он. – А это очень тонкая форма самообмана. Можно так заплести историю, что сам в ней заблудишься.
– И ты решил завести меня на свет божий?
– Я решил хотя бы включить фонарик, – сказал он.
– Скажи честно, – продолжил он через минуту, – тебе страшно туда ехать?
Я посмотрел на кружку.
– Да.
– Чего именно боишься?
– Что увижу сам себя. Там.
Которым должен был стать.
И пойму, что всю жизнь прожил как не тот персонаж.
– Это не так работает, – спокойно сказал Илья. – Там ты увидишь не того, кем должен был стать. А того, кем хотел быть тогда.
– И что, легче станет?
– Нет, – признался он. – Но станет честнее.
Он наклонил голову:
– Ты же сам хотел книгу, которая «по-настоящему», да? Без глянца, без мотивационной хуйни.
– Хотел, – вздохнул я.
– Тогда начни хотя бы с того, что главного героя в своей жизни перестанешь писать как статиста.
Я хмыкнул.
– Звучит как название главы, – признал я.
– Пиши, – кивнул он на тетрадь. – Допиши.
Я открыл «План жизни. 16 лет. Хлопцы».
Мой список выглядел, как письма из дурдома: миллион, фильм, машина для мамы, «никогда не работать на дядю, мулатки».
Я взял ручку.
Под последней строкой написано было:
«Быть собой, а не тем, кем удобно быть другим».
Я уставился на неё.
– Это кто написал? – спросил я.
– Ты, – ответил Илья. – Я тогда ещё удивился. Ты много шутил, но иногда выдавал такие штуки, как старый дед.
– Я не помню этого, – сказал я.
– Я помню, – ответил он.
Я замолчал и дописал: «и не забыть, кто такие Хлопцы».
Илья улыбнулся уголком губ.
– Вот, – сказал он. – Уже теплее.
– Слушай, – спросил я, – а у тебя что там было в шестнадцать?
Он забрал тетрадь, листнул.
Его колонка была короткой:
«Перестать бояться отца».
«Защитить мать».
«Уехать».
«Никогда не жить с человеком, который меня боится».
Я сглотнул.
– Как успехи? – спросил я тихо.
– Первая строка не до конца, – ответил он. – Вторая не успел. Третью выполняю до сих пор. Четвёртая…
Он пожевал губу.
– Четвёртая стала главным фильтром по жизни.
– И как результат?
– Я один, – честно сказал он. – Но хотя бы не живу с человеком, которому страшно от моего настроения.
Я кивнул.
– Слушай, Святой, – сказал я, – а кому ты всё это раньше рассказывал?
Он посмотрел на меня спокойно:
– Никому.
– То есть я сейчас премиум-подписка?
– Скорее, бета-тест, – усмехнулся он.
Мы ещё какое-то время сидели молча.
Чай остыл, на подоконнике темнело.
– Когда ты собираешься с Егором говорить? – спросил я.
– Завтра, – сказал он. – Я к нему зайду.
Я представил эту сцену: Илья приходит к Псу домой, где ребёнок, жена, тарелки, мультики на фоне, и говорит: «Сядь, поговорим».
– Он тебя пошлёт, – сказал я.
– Возможно, – кивнул Илья. – Но потом всё равно скажет «да».
– На что?
– На то, что мы поедем не просто «на похороны».
Он встал, подошёл к полке, вытащил ещё одну тетрадь.
– Что это? – спросил я.
– Мои записи, – сказал он. – Я давно кое-что планирую.
Я скосил глаза:
– Ты что, тоже роман пишешь?
– Нет, – ответил он. – Я пишу, как не сойти с ума.
Он вернулся за стол, открыл тетрадь.
Страницы были исписаны мелким почерком.
Заголовки:
«Как мы врём себе».
«Как нас ломали в детстве».
«Как мы делаем вид, что всё нормально».
– Ты психотерапевт что ли тайный? – спросил я.
– Я просто не хочу умереть с мыслью, что промолчал, – сказал он.
Он посмотрел на меня:
– И когда мы поедем в посёлок, я хочу кое-что предложить вам.
– Что именно?
Он закрыл тетрадь.
– Считай, интрига до четвёртой главы, – усмехнулся он. – Не всё сразу.
Я закатил глаза:
– Ненавижу, когда ты делаешь из жизни сценарий.
– Ты сам этим болеешь, – напомнил он.
– Тем более ненавижу, когда меня зеркалят, – буркнул я.
Мы встали.
Я накинул куртку.
– Ладно, – сказал я. – Спасибо за сеанс. Жду счёт.
– С тебя – одно, – сказал он.
– Чё ещё?
– Когда поедем, не играй там из себя «всё знаю, всё понимаю». Будь просто собой. Даже если ты сам ещё не знаешь, что это значит.
– Это ты слишком многого хочешь, Святой, – вздохнул я.
– Я просто устал дружить с вашими масками, – тихо ответил он. – Я хочу поехать туда с теми самыми пацанами. С Хлопцами.
Когда я вышел в ночь, воздух показался тяжелее.
Но внутри было странное чувство:
будто кто-то сдвинул шкаф, за которым годами копилась пыль.
Да, стало грязно.
Да, стало видно, сколько там всего.
Но в первый раз за долгое время мне захотелось не закрыть глаза, а включить свет.
Телефон снова вибрнул.
Сообщение от Егора:
«Святой завтра ко мне ломится. Ты его к чему готовишь, Чердак?»
Я усмехнулся.
«К правде. Держись, Пёс. Это больно, но, говорят, полезно».
Ответ пришёл почти сразу:
«Ладно. Если что – похоронишь меня рядом с тем, кого едем проведать».
Я убрал телефон и пошёл домой.
Нас хоронят не землёй. Нас хоронят ложью. Сначала мелкой, потом ежедневной.
И в какой-то момент ты уже не живёшь. Ты просто не споришь.
День, когда Пёс решил стать мужчиной
У каждого мужика есть день, о котором он никогда не рассказывает всё до конца.
Произносит пару фраз, шутку, максимум намёк.
А остальное носит как шрам под одеждой: вроде не видно, но зудит при смене погоды.
У Егора этот день случился в девятнадцать.
И начинается он, как почти все наши великие трагедии, с баб и понтов.
Тогда посёлок жил летом.
Днём все изображали работящих людей, ночью включали внутри себя животное и улицу.
В тот август сюда на каникулы приезжали «городские девочки».
Не те, что из райцентра, а настоящие: из большого города, с маникюром, телефоном подороже родительской «девятки» и выражением лица «я временно среди дикарей».
Одна из таких и стала эпицентром катастрофы Егора.
Звали её Алёна.
Она была из тех, кто не особенно красив лицом, но так двигается, что мозг отключается, а остальное тело говорит: «Подписывай всё, потом разберёмся».