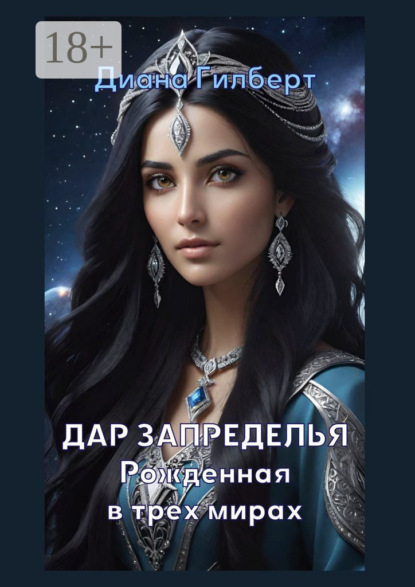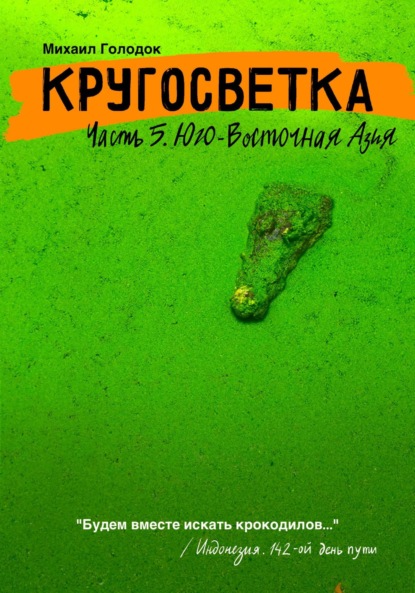Жена майора

- -
- 100%
- +
Теперь он рубил не просто для того, чтобы его увидели. Он рубил, чтобы стук его топора был громче, чем тот унизительный звук, который издавал майорский топор, когда его рука опускалась на полено, поданное женой.
Глава 3: Холодная война у домашнего очага
Эпиграф:
«Любовь и ревность – это братья-близнецы, рожденные от одного отца – страсти, но вскормленные разными матерями: одна – лаской, другая – мукой.» Из старинного романа
Лето раскалилось докрасна, как печь на том самом кирпичном заводе. Воздух дрожал от зноя, превращаясь в горячий кисель, а моя жизнь – в изощрённый шпионский роман, где я был агентом под прикрытием, объектом слежки и главным подозреваемым, которого постоянно тянуло на место преступления.
Моя операция «Тихий омут» перешла в фазу активных боевых действий под кодовым названием «Близость без права переписки». Я стал не просто помощником, а негласным главкомом хозяйства дома Орловых. Я помог завести домашнюю птицу, устроив такой курятник, что местные петухи начали отдавать мне честь. Я выкосил траву и натянул бельевую верёвку с таким инженерным расчетом, что даже майорские портки не смели с неё срываться, трепеща перед моим дембельским опытом в искусстве сушки обмундирования.
Наши молчаливые чаепития на крыльце стали ритуалом, священнодействием. Я узнал, что Виктория – дизайнер одежды! Она шила невероятные наряды для столичного бутика, а теперь, в ссылке, подрабатывала начальником цеха в местном швейном предприятии. Это объясняло её безупречный вкус и эти чёртовы белые штаны, которые сводили с ума всё мужское население Раздольного, включая старого козла Петровича. Она скучала по ателье, по шёлку и кашемиру, по гулу швейных машинок. Я рассказывал ей про армию, но уже не байки для пацанов, а что-то настоящее. Про то, как пахнет снег на плацу в три часа ночи, когда ты стоишь в карауле и чувствуешь себя последним одиноким человеком на планете. Про то, как изголодался по простому человеческому теплу, по прикосновению руки, которая не ждёт от тебя ни подвига, ни выполнения боевой задачи.
Я жил этими разговорами, как наркоман. Я видел, как грусть в её глазах понемногу отступала, сменяясь искоркой интереса, а потом и тёплым, бархатным светом, в котором можно было утонуть. Я был на седьмом небе, свистел на заводе, не замечая ни едкой пыли, ни усталости. Местные девчата сдались – дембель был официально повержен в бою загадочной городской незнакомкой, и теперь они смотрели на меня с тем же снисходительным сочувствием, с каким провожали Ваньку Петрова.
Но у каждой эйфории есть свой личный громила. И звали его Майор. Его имя Владимир. Но для меня он был просто Майором – стихийным бедствием в погонах.
Его приезды были похожи на внезапную проверку комиссии из округа с выездом на место. «Волга» цвета мокрого асфальта с рёвом врывалась во двор, поднимая тучи пыли, и на сцене появлялся Он.
Он подходил к Виктории не как муж к жене, а как следователь к подследственной, у которой вот-вот найдут компромат. Его взгляд, холодный и оценивающий, скользил по ней, будто проверяя, на месте ли всё: волосы, губы, талия. Потом он грубо хватал её за талию – так тонко перетянутую ремешком, что мои пальцы сами сжимались в кулак, – прижимал так, что, мне казалось, я слышх хруст её тонких косточек, и целовал. Не в губы, а почти в нос, властно и коротко, как ставят печать на секретном документе. «Всё в порядке?» – бросал он ей отрывисто, уже глядя на меня через её плечо. И в этом вопросе был не интерес, а требование отчёта: «Докладывай об обстановке». Она молча кивала, отводя глаза, и её плечи чуть ссутуливались, будто под невидимым грузом. Это был не поцелуй, а акт утверждения власти, демонстрация прав собственности. И я был частью этого унизительного ритуала – статистом, которого он допускал на своё представление, чтобы тот знал своё место.
Мне хотелось рычать, как цепному псу. В эти секунды каждая мышца моего тела напрягалась для прыжка через забор. Но я мог только яростно чинить свой велосипед, сдирая кожу с костяшек, или с остервенением рубить несуществующие дрова, представляя на их месте майорский череп.
А потом начиналось самое изощрённое испытание. Вечер. Когда майор был дома, свет в их спальне гас неестественно рано, будто по команде «Отбой!».
Она взяла мою руку. Её пальцы были прохладными и удивительно нежными. Она просто положила свою ладонь поверх моей, лежащей на скамье, и это было одновременно и приговором, и благословением.
– Он не всегда был таким, – вдруг тихо сказала она, ломая сухую ветку в пальцах с тихим щелчком. – В городе, до переезда… он мог быть нежным. Смешным даже. Но здесь он скучает. По службе. По своей важности. И мы с Катей – единственное, что у него осталось, что он ещё может контролировать. Как роту солдат.
В её словах не было оправдания. Лишь усталое, горькое понимание механики их брака, от которого становилось ещё горче. Она не просила о спасении. Она объясняла правила игры, в которую была вынуждена играть, и теперь молча спрашивала: «Ты всё ещё хочешь быть в ней?».
Я посмотрел на неё, и в моём взгляде было всё: и ревность, и стыд, и бешеная, невыносимая страсть, и готовность на всё. Я перевернул руку и на миг сомкнул её пальцы, чувствуя тонкие, хрупкие косточки её запястья. —Понимаю, – выдохнул я. – Я всё понимаю.
Мы снова замолчали. Но эта тишина была иной. Густой, как смола, и электрической, как воздух перед грозой, пахнущий озоном и обещанием бури. Мы сидели, почти соприкасаясь, в полной темноте, и это было страшнее и интимнее, чем любая ночь в освещённой спальне напротив.
Я понял, что зашёл в тупик. Я не мог быть рядом, не раня себя и не обманывая её дочь. И не мог уйти, потому что стал зависим от этого яда. Оставалось одно – ждать. Ждать своего шанса. Или своего конца.
ФИЛОСОФСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Ревность – это не просто чувство. Это тщательно спланированная спецоперация твоего собственного эго против тебя же. Ты не просто страдаешь – ты собираешь досье. Каждый потушенный свет, каждый звук за стеной, каждый смех, в котором тебе нет места, – это улика. Ты составляешь протоколы, строишь теории заговора, а в итоге выносишь приговор самому себе: ты чужой, ты лишний, ты не нужен.
И самая страшная пытка в этой войне – это не боль, а знание. Знание, что ты сам назначил себя и следователем, и палачом, и единственной жертвой этого бесконечного процесса. Ты подглядываешь в замочную скважину чужой жизни, а видишь лишь искажённое отражение собственного несовершенства. Ты становишься вандалом, который рисует похабные картинки на стенах собственного храма.
И тогда, чтобы выжить, ты начинаешь свою контр-операцию. Ищешь уязвимые места в их крепости. И самое страшное оружие оказывается ближе всего – чистое, незащищённое доверие того, кто ни в чём не виноват. Ты используешь его, прикрываясь благородными целями, и с каждым шагом всё больше превращаешься в то чудовище, с которым якобы сражаешься. Ты уже не рыцарь, ты – диверсант, готовый подорвать всё на своём пути, лишь бы доказать свою нужность.
Эта война не имеет победителей. В ней есть только потери. И главная из них – твоё собственное уважение, которое ты методично, по кирпичику, разбираешь на дрова, чтобы хоть немного согреть своё замёрзшее самолюбие у чужого, погасшего семейного очага.
Глава 4: Уроки нежности
Эпиграф: «Прикосновение – это язык, на котором говорят души, когда слова становятся предателями. А иногда – оружие, против которого нет защиты.»
Кирпичный завод – это не работа. Это каторга, придуманная садистом. Каждый вечер я возвращался домой, чувствуя себя не дембелем, а разбитой колодой, которую волокут на свалку. Спина горела огнём, плечи и предплечья ныли тупой, неумолимой болью, а красная глиняная пыль въедалась под кожу так, что, казалось, я навсегда останусь розовым. Я уже и не помнил, зачем вообще пошёл на эту фабрику по производству тоски – то ли от скуки, то ли чтобы доказать себе что-то, то ли чтобы просто видеть тот дом напротив.
Однажды, перемалывая на зубах пыльный бутерброд с салом, я простонал – спину свело так, что искры из глаз посыпались. Я всего-то наклонился за упавшей отверткой. Эту сцену поймала Виктория, выносившая мусор.
– Сережа, да у вас лицо зелёное, – в её голосе прозвучало неподдельное беспокойство. Меня это смутило и согрело одновременно. – Спина? —Да ерунда, – отмахнулся я, пытаясь выпрямиться с видом непобедимого богатыря, но очередной спазм заставил дёрнуться и схватиться за поясницу. —Ерунда? – она подняла бровь, и в её глазах читался мягкий, но настойчивый укор. – Это на кирпичном заработали? Я же вижу, как вы с утра уходите и как вечером еле ноги волочите. —Немного переработал, – сдался я под её пристальным, тёплым взглядом. —Так нельзя. Нужно массаж делать. Иначе к сорока годам развалиной станете. Я серьёзно.
Я хмыкнул. Массаж? В моём армейском лексиконе это слово стояло где-то между «санаторий» и «изнеженная блажь».
– Да я как-нибудь. —Никак-нибудь, – отрезала Виктория. И в её голосе вдруг прозвучали стальные нотки, не терпящие возражений. – Вечером приходите. Я в своё время на курсы ходила. Знаю, как с этим справляться.
Мысль о том, что её руки будут касаться моей спины, заставила кровь броситься в голову. Я растерялся, засмущался и пробормотал что-то невразумное, чувствуя, как горят уши. План «Тихий омут» внезапно получал тактическое ответвление под кодовым названием «Руки».
Вечером я стоял у своего забора, как на иголках. Идти? Не идти? С одной стороны – мучительный стыд. С другой – жгучее, нестерпимое любопытство и желание, которое уже давно переросло в навязчивую идею. В конце концов, желание победило.
Меня встретила не только Виктория. Рядом с ней, накрывая диван в гостиной старым, но чистым покрывалом, вертелась Катя. —О, дядь Сережа пришёл! – весело воскликнула она. – Мама сказала, будем тебя лечить! Я буду ассистировать! Научусь и буду потом всем одноклассницам спины массировать!
Меня будто холодной водой окатили. Весь мой романтический настрой, всё напряжение мгновенно улетучилось. При ней? При дочери? Это будет не урок страсти, а урок анатомии на живом пособии! Я почувствовал себя совершенно обезоруженным и слегка идиотом.
Виктория, словно читая мои мысли, улыбнулась своей загадочной, чуть уставшей улыбкой. —Катюша тоже хочет научиться. Это полезный навык, а мускулистую спину найти для практики – большая редкость, – говорила она спокойно, почти по-врачебному, и это немного успокоило мои взвинченные нервы. – Ложись, Сережа, на живот.
Я покорно лёг, уткнувшись лицом в прохладную ткань. Чувствовал себя глупо и нелепо. Сейчас две женщины будут меня… массировать. Одна – объект моих тайных грёз, другая – её дочь, которую я вроде как «должен» считать своей пассией. Абсурд.
Пахло травяным чаем, яблоками и чем-то цветочным – её духами. Потом я почувствовал лёгкое, неуверенное, щекотное прикосновение к своей спине. Это была Катя. —Мам, а он весь какой твёрдый! Как камень! – удивилась она. —Это мышцы в спазме, зажиме, – спокойно, учительским тоном ответил голос Виктории. – Их не ломать надо, а разогреть и мягко расслабить. Начинай с плеч, вот здесь, лёгкими круговыми движениями. Чувствуешь, как они напряжены?
Пальцы Кати были неловкими, но приятными. Я лежал, затаив дыхание, и ждал. И вот – случилось. К моей спине прикоснулись другие руки. Твёрдые, уверенные, знающие. Руки Виктории. Они легли поверх рук дочери, направляя их, показывая силу и траекторию нажатия. Её ладони были прохладными.
– Вот видишь, нежно, но с уверенным давлением. Чувствуешь этот узел? Вот здесь особенно надо поработать. Это трапеция, она всегда страдает от перенапряжения. —Ага, – сосредоточенно сказала Катя. – Ого, а тут целый бугор!
Это был одновременно рай и ад. Её пальцы скользили по моей коже через тонкую ткань майки, разминая зажатые мышцы, снимая боль и напряжение. Это было блаженство. Но её дочь была прямо здесь, в сантиметрах от нас, и её невинные пальцы двигались под руководством матери! Моё смущение было столь всепоглощающим, что я не мог расслабиться, оставаясь скованным комком нервов и стыда.
Сеанс продолжался. Катя, быстро устав от монотонного труда, вскоре заскучала. —Всё, я, пожалуй, пойду, у меня с Ленкой созвон, – заявила она, спрыгнув с дивана. – Вы там его, мам, до конца разомните, а то он как деревянный!
И она убежала, оставив нас одних в внезапно наступившей оглушительной тишине.
Когда Катя наконец ушла, оставив нас одних, всё изменилось. Её движения стали глубже, медленнее. Она наклонилась ниже, и вдруг я почувствовал нечто иное – через тонкую ткань её блузки ко мне прикоснулась её грудь. Мягкая, упругая, обжигающе тёплая.
Я замер, боясь дышать. «Это случайность? Нет, она задержалась на секунду дольше, чем нужно. Она чувствует то же, что и я. Чёрт, я не мальчик, чтобы краснеть от случайного прикосновения. Но это не случайность. Это проверка границ. И я прошел её, застыв как идиот.»
Она тоже застыла на секунду, её дыхание стало чуть слышнее. Потом медленно продолжила, но теперь между нами висело это знание – границы нарушены.
– Расслабься, Сережа, – прошептала она, и её губы оказались так близко, что я чувствовал тёплое дуновение на своей коже. – Ты весь каменный. Дыши глубже. Выдыхай боль.
«И в её вздохе я услышал не просто облегчение. Там была капитуляция. Сдача небольшого укрепления в той холодной войне, что она вела с самой собой. Этот вздох говорил: «Я знаю. Я чувствую. И я не остановлюсь.»
Когда сеанс закончился, я перевернулся и посмотрел на неё. Её лицо было румяным, на лбу блестели капельки пота. Губы слегка приоткрыты. В этот момент она была не просто красивой женщиной. Она была жрицей, проводником в мир чувственности.
– Спасибо, – прошептал я. – Я не знал, что так может быть. —Это только начало, Сережа. Твоё тело только начинает вспоминать, что значит чувствовать.
«Я уходил от неё с прямой, здоровой спиной и с такой кривой, чёрной дырой в душе, что в неё мог бы провалиться весь кирпичный завод. Она лечила моё тело, но калечила душу, и я готов был на всё, чтобы эта пытка продолжалась вечно.»
С тех пор это стало нашим новым, сокровенным ритуалом. Катя пару раз ещё «ассистировала», но быстро потеряла интерес. А вот мы с Викторией продолжали. Теперь уже без зрителей. Я ложился на её диван, закрывал глаза и отдавался на волю её волшебных рук.
Иногда, в награду, она позволяла мне делать массаж ей. В один из таких вечеров, когда она лежала на животе, а я разминал её поясницу, край её домашних штанов сполз, обнажив верхнюю часть ягодиц. И там, в полумраке комнаты, я увидел тонкую кружевную тесьму её трусиков. Кремового цвета, как и лямка бюстгальтера, которую я видел ранее. Она упруго легла на нежную кожу, подчёркивая соблазнительную линию бедер.
Кровь ударила мне в голову. Я не мог отвести глаз. Она лежала совершенно расслабленно, её дыхание было ровным и глубоким. Она знала. Она точно знала, что я вижу. И позволяла мне смотреть.
– Здесь… – её голос прозвучал приглушённо, – сильное напряжение.
«Под этим запахом миндального масла и её духов я уловил другой, животный и солёный – запах её пота, проступившего на висках от усилия. Это был самый честный и самый запретный аромат на свете. Он сводил с ума сильнее, чем все духи мира.»
Мои пальцы дрожали, когда я коснулся этого места. Кожа под моими ладонями была невероятно нежной, бархатистой. Я чувствовал каждый её вдох, каждое микроскопическое движение мышц. Когда я нажимал на особенно тугой узел, она тихо стонала, и этот звук сводил меня с ума.
В другой раз, когда она массировала меня, её движения стали особенно медленными, почти гипнотическими. Она работала с поясницей, её пальцы скользили всё ниже, к тому месту, где спина переходит в ягодицы. Вдруг её рука под моей майкой коснулась кожи – не через ткань, а напрямую. Её пальцы были прохладными, но от их прикосновения по всему моему телу пробежали мурашки.
Я задержал дыхание. Её ладонь лежала на моей коже, неподвижная, но говорящая обо всём. Потом медленно, очень медленно начала двигаться, выписывая круги на моей пояснице. Каждое движение было обещанием. Каждое прикосновение – вопросом.
– Тебе… нравится? – её шёпот был едва слышен.
Я не смог ответить. Только кивнул, чувствуя, как горит лицо. Её пальцы углубились в мышцы, и на этот раз её прикосновение было не просто лечебным. Оно было изучающим, познающим, почти любовным.
Когда я перевернулся, наши взгляды встретились. Её глаза были тёмными, бездонными. Она не отводила взгляд, и я видел в её взгляде то же напряжение, ту же борьбу, что бушевала во мне.
– Виктория… – прошептал я.
Она не ответила. Просто положила ладонь на мою грудь – твёрдо, уверенно, почти собственнически. Я чувствовал, как бьётся её пульс в кончиках пальцев. Или это билось моё сердце? Я уже не мог отличить.
Мы сидели в полумраке, и тишина между нами была густой, насыщенной, как перед грозой. Я понимал, что мы пересекаем какую-то невидимую черту.
Однажды это чуть не привело к катастрофе. Как раз после одного из таких сеансов, когда я уже ушёл к себе, вернулся майор. Катя, сидя за ужином, вдруг бросила: —Пап, а ты знаешь, дядь Сережа такой смешной! Когда мама ему массаж делает, он сначала краснеет как рак и даже пыхтит!
Наступила мёртвая тишина. Я, конечно, этого не слышал, но позже Виктория, бледная как полотно, рассказала мне. Владимир медленно перевёл взгляд на жену. —Массаж? Какой массаж? – его голос стал настороженно-тихим.
Она, побледнев, засуетилась: —Да ничего такого, Володя! У Сергея со спиной проблемы. Я просто… показала Кате пару приёмов. Она же хочет в медучилище.
Она говорила слишком быстро, и её нервозность была ощутима. Владимир смотрел на неё несколько секунд, его взгляд был тяжёлым, изучающим. Затем он хмыкнул. —Ну, медицинское образование – дело хорошее, – процедил он. – Только смотри, «дядь Сережа» у вас от этих экспериментов совсем расслабленным не стал бы.
Лёд тронулся, но трещина осталась. В тот вечер, ложась спать, я видел, как майор долго стоял на крыльце и курил, смотря в мою сторону. И в его взгляде угадывалось не одобрение, а лёгкое, пока ещё спящее, подозрение.
Мы лечили друг друга от одиночества и боли, не произнося ни слова. Но с каждым сеансом наша тайна становилась всё опаснее, а невидимая нить между нами затягивалась туже, становясь прочнее стальных тросов на том самом заводе. Мы играли с огнём, и первый треск пламени уже прозвучал.
ФИЛОСОФСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Армия учит, что прикосновение – это либо удар кулаком по плечу, либо подзатыльник от деда. Там нет места ладони, которая не бьёт, а лечит. Два года тотального дефицита тактильности, где любое прикосновение – либо агрессия, либо функциональность. И вот ты сталкиваешься с ладонью, которая не бьёт, а лечит, и твой внутренний устав даёт сбой.
Её руки – это не просто руки. Это скальпель, который вскрывает не мышцы, а тебя самого. Под их нажимом трещат не только зажимы в трапециях, но и твоя броня, твоё дембельское бахвальство, вся та шелуха, что ты нарастил за два года, чтобы выжить.
Ты учишься новому языку – языку прикосновений. И понимаешь, что это самый честный язык в мире. Словами можно солгать, можно приукрасить, можно спрятаться за армейскими байками. А вот руки не врут. Её пальцы, снимающие боль, говорят тебе о сострадании. Твои дрожащие ладони, касающиеся её кожи, кричат о желании и преклонении. И вы оба это слышите.И оба делаете вид, что это всего лишь курс лечебной физкультуры.
Это самый изощрённый вид пытки и самое сладкое лекарство. Ты дезертируешь из своей же брони, и деваться тебе некуда – только в её руки. Ты жаждешь этих сеансов, как наркоман, и боишься их, как огня. Потому что с каждой минутой ты становишься всё более уязвимым. Она не просто лечит твою спину. Она перезаписывает твой код, меняет прошивку.
И ты уже не тот крепкий, уверенный в себе дембель. Ты – человек, который заново учится чувствовать. И этот урок куда страшнее и прекраснее, чем любая армейская наука. Потому что на кону уже не уставная жизнь роты, а твоя собственная душа, которая внезапно ожила и начала требовать своей доли нежности.
Глава 5: Ночной дозор у тихой заводи
Эпиграф: «Искушение – это возможность провести ночь с грехом, а утром получить обратно свою добродетель, ничуть не поношенной.» Станислав Ежи Лец
Майор уехал. Не на сутки, не на двое как зачастую у него бывало, а на целую неделю. Выездные учения. Для меня это было равноценно объявлению бессрочного дембеля с вручением ордена «За Любовь и Верность». Воздух в Раздольном стал чище, птицы запели громче, а моё сердце начало отбивать чечётку, сбиваясь на самбу.
Идея родилась сама собой, как гриб после дождя, и была столь же блестящей и немного ядовитой. Пикник. С ночёвкой. На той самой излучине реки, куда даже местные браконьеры забредали редко, опасаясь встретить там моё разгорячённое воображение. Место было идиллическим: песчаный пляжик, тенистая рощица и тихая заводь, в которой, по слухам, водилась рыба размером с моё армейское самолюбие после двух лет службы.
Предложение я озвучил с невинным видом святого, приглашающего на чаепитие, хотя внутри у меня бушевал цунами из тестостерона и надежды. «Кате и Антону, думаю, понравится. Природа, свежий воздух…» – брякнул я, делая вид, что разглядываю облака с научным интересом. Виктория смотрела на меня, и в её глазах читалась целая буря: тревога, интерес, а где-то на дне – давно забытая искорка авантюризма, которую я мечтал раздуть в пожар.
–Я не уверена, Сережа… Дети… – начала она, но в её голосе уже слышалась капитуляция.
–Мы все вместе! – поспешил я парировать, как на учениях по радиационной, химической и биологической защите. – Я палатку четырёхместную достану. Как уставной блиндаж, надёжно! Проверено в полевых условиях! Она вздохнула. Долгим, глубоким вздохом человека, который вот-вот сделает что-то безрассудно прекрасное и чёртовски опасное.
–Хорошо, – сдалась она. И в этом «хорошо» мне почудился шелест тех самых белых штанов, которые она, я был уверен, наденет, сводя меня с ума напропалую.
Дорога до речки была похожа на комедийное шоу, поставленное неумелым режиссёром. Антон, её сын, лет 12, сыпал вопросами про армию, как из пулемёта: «А правда, что деды заставляют чистить картошку зубной щёткой? А ты из автомата стрелял? А если тебя старшина обзовёт, ты можешь ему в табло дать?». Катя старалась изображать равнодушие, но её глаза блестели предательским блеском. А Виктория… Она смеялась. Настоящим, лёгким, заразительным смехом, от которого у меня сводило живот и немели ноги. Мы шли через лес, неся рюкзаки с провизией, и я чувствовал себя не дембелем, а проводником в рай, который тайком провозит через границу запретный груз – её хорошее настроение.
День пролетел в сумасшедшем, прекрасном хаосе. Я учил Антона забрасывать удочку с таким усердием, будто от этого зависела судьба Отечества, и он, к нашему общему восторгу, поймал пару увесистых окуней, которых тут же нарек «генералами». Катя с визгом, способным разбить стекло, пыталась плавать в холодной воде, а потом требовала, чтобы я «спас» её, вытаскивая на берег за руку – её кожу я запомнил прохладной и шелковистой.
Мы бродили по лесу в поисках земляники, и всё это время нас, как назойливые, но милые комарики, окружали дети. Ни на секунду не оставаясь наедине, мы вели свой молчаливый диалог взглядами, который был красноречивее любого признания. Я ловил её улыбку, когда она смотрела на загорелого и счастливого Антона. Она ловила мой взгляд, когда я помогал Кате выбраться из крапивы, и в её глазах читалась смесь благодарности и чего-то ещё, тёплого и колющегося, как иголки сосны. Это было самое эротичное и самое мучительное свидание в моей жизни – свидание в окружении любящих телохранителей, каждый из которых в любой момент мог крикнуть: «Дядь Сережа, а что это вы на маму так смотрите?».
Виктория взяла на себя священнодействие у костра – готовила уху. Я смотрел, как её руки, тонкие и изящные, ловко орудуют ножом, как она, наклонившись над котелком, отводит прядь волос ото лба, открывая шею, и понимал, что никогда в жизни не ел ничего вкуснее этой похлёбки, и никогда так не хотел прикоснуться губами к ямочке у основания её горла.
Когда все наелись до отвала, а на небе начали проступать первые, робкие звёзды, мы переместились поближе к костру. Вечерний воздух остыл, подарив долгожданную прохладу. Антон, чья энергия, казалось, бралась из неиссякаемого источника, с воодушевлением пироманта занялся огнём. Он подбрасывал в пламя сухие ветки, наблюдая, как они с треском вспыхивают, и рисовал в воздухе светящиеся круги горящей палкой.