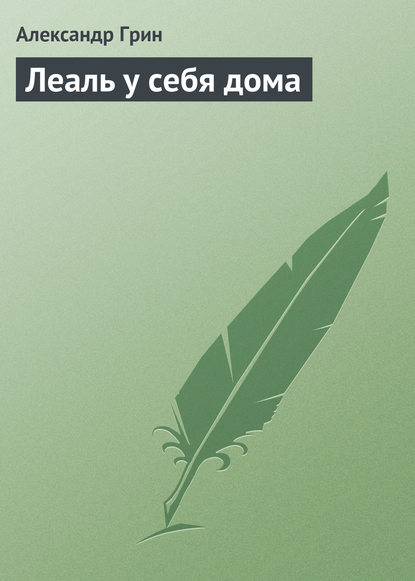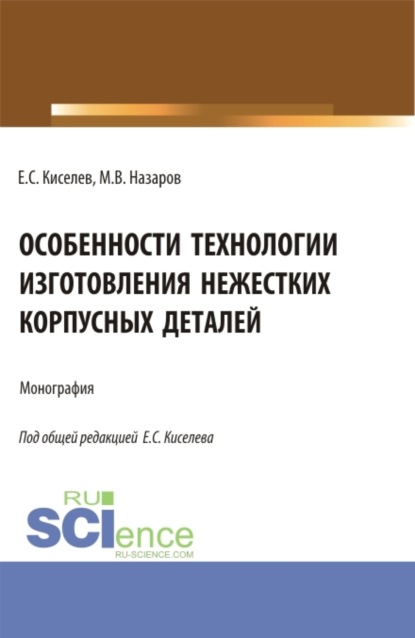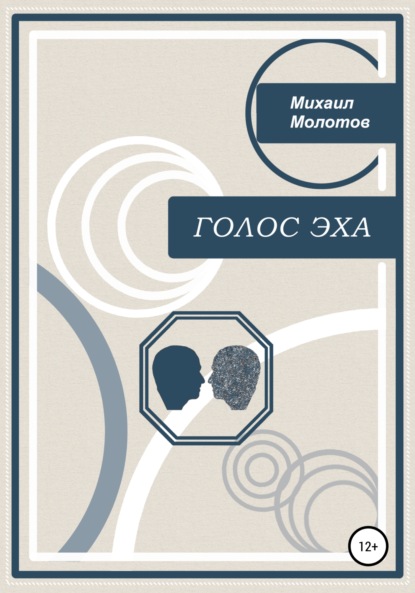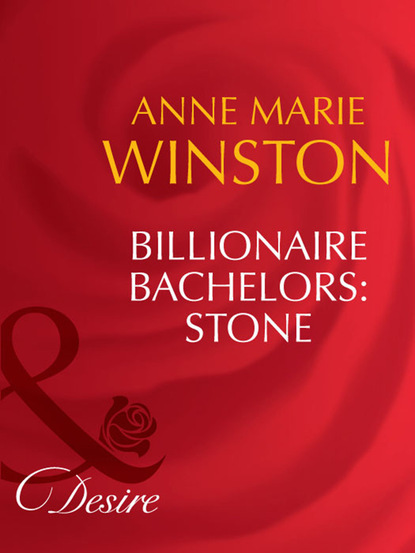История Криминала Российского
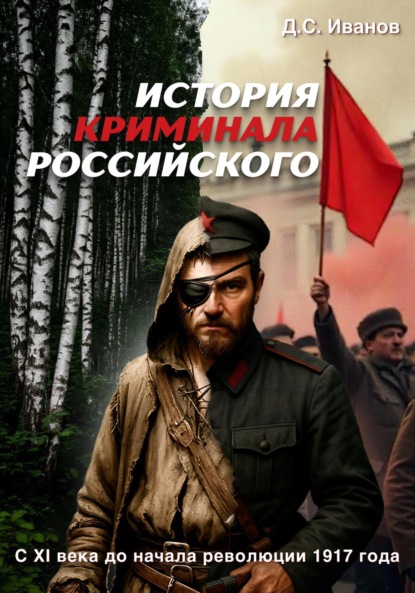
- -
- 100%
- +

Введение
Дорогой читатель, я очень рад, что тебе, как и мне интересна тема криминала и поэтому ты читаешь данные строки. Криминал – это не просто набор преступлений, это зеркало, отражающее социальные, экономические и культурные изменения в обществе. История России, начиная с 11 века и заканчивая началом революции 1917 года, изобилует яркими примерами преступности, которые не только формировали судьбы отдельных людей, но и оказывали влияние на развитие государства в целом. С первых веков своего существования Русь сталкивалась с различными формами преступности: от разбойничества и грабежей до более сложных преступлений, таких как мошенничество и коррупция. В условиях феодальной раздробленности и постоянных войн криминальные элементы становились частью повседневной жизни. С течением времени, с укреплением централизованного государства, менялись и методы борьбы с преступностью, а также сами преступники. В этой книге мы проследим эволюцию криминала в России от древнерусских времен до начала XX века. Мы исследуем ключевые события и фигуры, такие как знаменитые разбойники и мошенники, а также рассмотрим влияние социальных изменений – от крепостного права до индустриализации – на уровень преступности. Особое внимание будет уделено различным социальным группам: дворянам, крестьянам, солдатам и рабочим.
Дворяне нередко использовали свои привилегии для совершения преступлений – от злоупотребления властью до участия в разбоях. Крестьяне же сталкивались с жестокими условиями жизни, что порождало их тягу к преступлениям. Солдаты, находясь на передовой или в гарнизонах, также становились участниками криминальных действий – от дезертирства до грабежей. Рабочий класс XIX века переживал резкие изменения в условиях труда и жизни, что приводило к росту преступности среди рабочих: от мелких краж до организованных протестов.
Структура книги включает несколько разделов: мы начнем с анализа криминальных явлений в XI-XVII веках, затем перейдем к эпохе Петра I и Екатерины II, обсудим преступность в XIX веке и завершим исследование событиями начала XX века. Каждый раздел будет сопровождаться увлекательными историями реальных людей, что поможет нам лучше раскрыть тему преступности в определенные исторические периоды.
Приглашаю вас отправиться в это историческое путешествие по страницам российской криминальной истории. Надеюсь, что эта книга не только расширит ваши знания о прошлом нашей страны, но и поможет лучше понять сложные механизмы взаимодействия между обществом и правопорядком
Посвящается Анатолию Витальевичу Облееву- подполковнику милиции в отставке, чьи двадцать лет доблестной службы с 1987 по 2007 годы стали неустанной борьбой с преступностью в самые смутные времена для страны.
Древняя Русь
Когда речь заходит о разбойниках древности, воображение невольно рисует образ Соловья-разбойника, свистом повергающего путников в трепет. Однако, исторические свидетельства той эпохи скудны и отрывочны. Сразу оговоримся, что в нашем повествовании мы оставим за скобками князей и викингов, чьи "подвиги" порой мало чем отличались от разбоя и "крышевания". О викингах, чьи драккары бороздили моря в поисках добычи, и чей размах грабежей достиг берегов Англии, известно немало. Но не стоит забывать и о наших князьях, таких как Олег или Игорь, чья деятельность в современных терминах вполне могла бы быть названа "крышеванием". Игорь даже поплатился за свою алчность, решив повторно собрать дань с древлян, и был убит. Итак, историю княжеских междоусобиц и походов мы рассматривать не будем, сосредоточившись на классических преступлениях.
Поскольку фольклор в данном случае – зыбкая почва, обратимся к "Русской правде" – своду законов, приписываемому Ярославу Мудрому и датируемому 1016 годом. В нем перечисляются основные преступления того времени: грабежи, разбои, воровство, убийства. Нас же в первую очередь интересует воровство, поскольку именно с ним связаны первые упоминания об "организованности" преступного мира. Под "организованностью" мы будем понимать наличие большого количества участников в краже, с разделением обязанностей. Что же гласит документ о воровстве? Процитируем: "О воровстве же. Если крадет скот в поле, или овец, или коз, или свиней, то 60 кун; если воров будет много, то всем по 60 кун”, (кун- денежная единица). Как видно, кражи нередко совершались группами сообщников, а штрафы были весьма внушительными. Но еще страшнее было попасться с поличным, ибо "Русская правда" недвусмысленно заявляет: "Если убьют кого-либо у клети или во время какого иного воровства, то его можно убить как собаку". Времена были суровые, церемониться не приходилось. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что далее в тексте упоминается о наказании за самосуд над пойманным вором: "если продержат его до рассвета, то вести на княжеский двор; если же убьют его, а люди видели его уже связанным, то платить за него 12 гривен".
Конечно же, воры действовали не в одиночку. Ведь украденное нужно было сбывать, а значит, существовали люди, специализировавшиеся на этом. Таким образом, зарождалось некое подобие преступного сообщества с разделением труда. Но это были лишь первые ростки преступности.
О низком уровне организованности говорит и отсутствие специального органа по борьбе с преступлениями. Эти функции выполняли княжеские воины или сами пострадавшие. Снова обратимся к "Русской правде": "1) Если кто познает свое, что у него пропало или было украдено, или конь, или одежда, или скотина, то не говори тому (у кого пропажа обнаружена): «Это мое», но пойди на свод, где он взял, пусть сойдутся (участники сделки и выяснят), кто виноват, на того и падет обвинение в краже; тогда истец возьмет свое, а что пропало вместе с этим, то ему виновный выплатит; если будет конокрад, то выдать его князю на изгнание; если вор, обокравший клеть, то ему платить 3 гривны.
2) Если (кто) купил что-либо ворованное на торгу, или коня, или одежду, или скотину, то пусть он выведет свидетелями двух свободных человек или сборщика торговых пошлин; если же он не знает, у кого купил, то пусть те свидетели идут на судебную клятву в его пользу, а истцу взять свое украденное; а что вместе с этим пропало, то о том ему лишь сожалеть, а ответчику сожалеть о своих деньгах, поскольку не знает, у кого купил краденое; если позднее ответчик опознает, у кого это купил, то пусть возьмет у него свои деньги, а тому платить <за все>, что у него <ответчика> пропало, а князю штраф”
Как видим, решение проблемы чаще всего возлагалось на плечи самого пострадавшего. К слову, обратим внимание и на строки Русской правды об убийствах, сопоставив их с приведенной выше цитатой: «Если кто свершит убийство без причины, без всякой ссоры, то люди за убийцу не платят, но выдадут его самого с женою и детьми на изгнание и на разграбление». Убийце, совершившему злодеяние беспричинно, грозило изгнание вместе со всей семьей. Такое же наказание ожидало и конокрада. И это справедливо, ибо без коня в те времена прожить было крайне сложно. Эта особенная народная «любовь» к конокрадам сохранилась вплоть до начала XX века. Мы еще увидим, как их люто ненавидели во все века, избивая до смерти. Россия до прихода советской власти оставалась страной аграрной, с частыми неурожаями и, как следствие, голодом. В таких условиях потеря коня была равносильна гибели. Да и стоили они всегда немало, а хороший боевой конь – еще дороже.
Не менее интересные сведения о ворах дает Киево-Печерский патерик – собрание рассказов об основании Киево-Печерского монастыря и жизни его первых насельников: «Патерик или Отечник Печерский, содержаще жития святых преподобных и богоносных отец наших, просиявших в пещерах». Патерик составлен тремя печерскими святыми: Нестором, летописцем Российским, Симоном, епископом Владимирским и Суздальским, и Поликарпом, архимандритом Печерским. На протяжении веков текст неоднократно перерабатывался и был окончательно завершен лишь к середине XVII века, когда в 1661 году в типографии Киево-Печерской лавры вышло первое печатное издание на церковнославянском языке. После Синодальной правки в XVIII веке Патерик переиздавался в Киеве и Москве.
Он представляет собой сборник рассказов о насельниках, монахах, их жизни, строительстве и наставлениях братии и читающим.
В контексте нашей темы обратим внимание на «слово 22» и «слово 28» этого сборника. Слово 22: «Об Арефе-черноризце, как украденное у него ворами богатство в милостыню ему вменилось, благодаря чему он получил спасенье» (черноризец – монах, облаченный в черную ризу). В нем говорится, что Арефа хранил в своей келье несметные сокровища, но «никогда ни одной цаты, ни даже хлеба не подал убогому, и так был скуп и немилосерд, что и сам почти от голода умирал». Однажды келья его была ограблена, и все богатства похищены. Написано, что Арефа был в столь великом горе, что помышлял о самоубийстве. Но впоследствии одумался и «тяжкие обвинения возвел на неповинных, и многих ни за что…мучил". И вот, бремя поддержания порядка и розыска по-прежнему ложилось на плечи пострадавших. Монашеская братия не спешила на помощь Арефе, лишь вторя: "Мы молили его прекратить поиски, но он был глух к нашим словам. Блаженные старцы утешали его: «Брат! Возложи печаль свою на Господа, и Он поддержит тебя». Но Арефа, обуреваемый горем, отвечал жестокими словами, досаждая всем вокруг". Сокровища так и не были найдены. Вскоре Арефу сразила тяжкая болезнь, и он был близок к смерти. Но молитвами и верой он избавился от обиды, исцелился и преобразился, воссылая хвалу Господу.
Слово 28 "О святом Григории чудотворце" повествует о трех случаях кражи, выпавших на долю святого. Григорий пришел в Печерский монастырь к отцу Феодосию, где познал иноческое житие и добродетели. Он достиг таких высот, что получил власть над бесами. И враг рода человеческого, как пишет повествователь, возжелал отомстить ему. Не имея сил навредить святому напрямую, он науськал разбойников. Трое злодеев проникли в келью Григория с целью ограбления. Патерик свидетельствует, что святой не владел иным имуществом, кроме книг. А стоит помнить, что книгопечатания в ту пору еще не существовало, и книги были величайшей ценностью. По меркам того времени, инок Григорий, несомненно, обладал сокровищами. Подкравшись ночью к его келье, разбойники увидели, что инок не спит, а погружен в молитву. Святой же, предчувствуя их недобрый замысел, вознес молитву: "Боже! Даруй сон рабам твоим, ибо всуе трудятся они, врагу угождая". И проспали они пять дней и пять ночей, пока блаженный, призвав братию, не разбудил их словами: "Сколь долго будете вы напрасно сторожить, мечтая обокрасть меня? Ступайте теперь по домам своим". Они поднялись, но не могли идти, ибо изнемогли от голода. Блаженный же накормил их и отпустил.
Об этом происшествии стало известно властителю города, и он повелел наказать воров. Но Григорий взмолился о милости к ним. Святой отдал часть своих книг властителю, а оставшиеся продал и раздал бедным, дабы никто более не позарился на них.
Вскоре произошел следующий случай. Блаженный Григорий взращивал небольшой палисадник, где росли овощи и плодовые деревья. И вновь нашлись охотники до чужого добра. Но уйти они не смогли и простояли на месте два дня. Когда святой увидел их, воры обратились к нему с мольбой об освобождении. Но святой отвечал: "Так как вы всю жизнь пребывали праздными, расхищая чужие труды, а сами не хотите трудиться, то стойте здесь праздно и дальше, до конца жизни". Но, тронутый их слезами и раскаянием, сжалился и отпустил их, взяв обещание вести честную жизнь. С тех пор они стали трудиться на святую братию.
В третий раз к нему пришли двое, сообщив, что их друг приговорен к смерти, и просили о помощи. Видя обман в их глазах, святой сказал им, что участь того человека предрешена и он не в силах его спасти. Но лукавые люди убеждали его, что помощь возможна, и им нужны средства. Святой отдал им книги, которые они намеревались обменять на деньги и потратить на непотребства.
Но случилось именно так, как и предвидел святой: человек тот, по нелепой случайности и собственной глупости, нашел свою погибель.
Что же открывают нам страницы патерика? Во-первых, очевидно отсутствие какой-либо государственной структуры, занимающейся борьбой с преступностью. Правосудие оставалось делом рук самих пострадавших, бременем, которое они несли в одиночку. Во-вторых, особой ценностью у воров считались книги. И это неудивительно, ведь порой они ценились дороже сокровищ, являясь самодостаточной ценностью. Однако это указывает и на существование отлаженной системы сбыта краденого, связей с книготорговцами, а значит, и на наличие "профессиональной преступности". Это подтверждает и случай со святым Григорием, когда он упоминает о ворах, "всю жизнь расхищавших чужие труды". В-третьих, власти, хотя и пытались преследовать преступников, не были неподкупными. От наказания можно было откупиться, что сводило на нет усилия по поддержанию порядка.
Повольники, ватажники, ушкуйники.
Начнем с истоков, с самих названий. И первым встретит нас слово "ватага". Словарь Даля дает нам следующее значение: "Дружная толпа, шайка, артель; временное или случайное товарищество, для работ ратных и промыслов всяких. У казаков же – строй глубокий, походный, колонна." Ватажники, стало быть, – те, кто в ватаге этой силу свою обретает.
Повольниками в Новгородской республике называли вольных людей, занимающихся торговлей, а при случае и разбоем.
А ушкуйниками нарекли тех же повольников, которые ходили по рекам на гребных судах. Повествование в данной главе мы в первую очередь начнем именно с ушкуйников. Это целая история некого “пиратства” на территории Руси в больших масштабах. Хотя лично мы не согласны с тем, что это именно пиратство в современном значении. Но все чаще в своих статьях историки и любители истории называют их именно речными пиратами. Это не верно, хоть и красиво звучит. Само название идет от парусно-гребного судна под названием “ушкуй”, на котором эти вольные люди и любили путешествовать. Свое начало они берут от варягов. Состояли они из вольных людей и младших дружин бояр. Новгород известен тем, что в нем постоянно боролись различные “партии” для установления своей власти. Все знают про новгородское вече, но мало кто знает как часто решались вопросы на нем, с помощью кулаков. Совокупно с некой свободой, в сравнении с другими регионами, там складывалась прослойка людей, которые составляли некую силу, которую можно использовать для своих целей. Дабы не бузили в своем городе их и направляли “расширять” влияние Новгорода. “Заодно пограбят, деньги принесут, а значит пользу”– так думали новгородские управленцы.
Первым официальным упоминанием о них является 11 век, тогда они отметились походом на Югру (Северный Урал). А в 12 веке размах их походов стал воистину широк. К примеру:
1181 год. Взяли черемисский (черемисы – старое название народа мари, от иранского "цармис" – воин) город Кокшаров (ныне Котельнич, что в Кировской области). С марийцами, правда, не всегда им везло. В 1215-1221 годах набеги на Якшан Кундем – марийское княжество, успехом не увенчались и потери были велики. Яранкан- столицу княжества, с 1218 по 1219 год штурмовали ушкуйники двенадцать раз, да так и не взяли.
1187 год. Новгородские ушкуйники, в союзе с карелами, напали на Сигтуну, древнюю столицу Швеции. Разграбили и разорили город так, что навсегда он утратил свой столичный статус.
1318 год. Добрались ушкуйники до Або (ныне Турку), тогдашней столицы Финляндии. Был захвачен церковный налог Ватикана, собиравшийся в течение 5 лет. Поход видимо оказался легким и удачным, как сказано в летописи, “придоша в Новгород вси здоровы”.
С приходом Золотой Орды, ушкуйники не стесняясь, ходили в походы и грабили монголов, пока остальная Русь платила дань. Например, в 1360 совершили набег на ордынский город Жукотин на реке Каме и перебили татар. Хан Хызр потребовал выдачи участников. По решению князя Дмитрия Суздальского обманом они были схвачены и выданы. На что ушкуйники отвечают новым походом в 1363 году, попытавшись освободить своих. Плюсом, стоит сказать, что речные пираты активно воевали и со “своими”, русскими князьями и вопреки многим мнениям, любили “гулять” по всем рекам. Попутно могли решить и политические вопросы. Например, в 1323 году они вынудили шведов подписать «Ореховский мир». Первый мирный договор об установлении границ между Новгородской республикой и Шведским королевством.
Постепенно в их ряды вливались повольники из других земель: карелы и тверичи, смоляне и вепсы, вологжане и москвичи. Столицей же ушкуйников стал Хлынов на Вятской земле.
В последнее время все чаще слышны голоса, представляющие их "защитниками земли русской". И, в принципе, при поверхностном взгляде, такое мнение может сложиться. Но истина далека от этого. Во-первых, новгородские власти, как правило, дистанцировались от их деяний, хотя всегда были в курсе и негласно поддерживали. Действия, осуществляемые ими в 12 веке, называли "молодечеством", удалью и отвагой. И, скорее всего, в начале своего пути этим занимались именно молодые дружинники. Власть активно использовала их для разведки новых земель, охраны купеческих факторий, а могли и опорные пункты конкурентов разгромить, чужой караван ограбить. По сути, напоминали они собой современные ЧВК.
Они же обеспечивали своеобразную "крышу" – термин, что прочно войдет в обиход лишь в лихие 90-е. Как предостерегал один купец другого в письме: "Коли желаешь добраться спокойно рекою к нам, да товар свой сберечь, с ушкуйниками сперва договорись, иначе весь груз потеряешь, а вместе с ним и жизнь свою". В этой связи невольно вспоминается одна из версий происхождения сицилийской мафии. Предание гласит, что истоки ее восходят к защитникам рыбаков. В далеких XII-XIII веках сицилийские рыбаки страдали от пиратских набегов, и тогда возникла структура вооруженных людей, что за плату оберегали их от морских разбойников. Когда же пиратство пошло на убыль, а точнее они перестали заниматься грабежами рыбаков, этот прообраз мафии продолжал выколачивать деньги за защиту.
Не гнушались ушкуйники и работорговли, продавая в неволю не только "бусурман", но и своих же единоверцев. В Новгород нескончаемым потоком шли жалобы на их бесчинства не только из других русских княжеств, но и из Орды и от булгар.
Вольная жизнь ушкуйников продолжалась до 15 века. Тогда они вмешались в конфликт между Василием 2 и его дядей Юрием Дмитриевичем. В те годы шла долгая междоусобная война в Московской Руси, продлившаяся 28 лет. В ответ, московские князья организовали поход на Хлынов. После чего ушкуйники то примыкали к Москве, то отмежевывались от нее. Конец положил поход Ивана 3 на Новгород в 1478. Часть ушкуйников, остававшаяся в Новгороде, была также вынуждена покинуть город и уйти в Вятку. Но в 1489 году Иван 3 двинул большое войско уже на Вятку. После чего часть ушкуйников ушла на Дон. Как считает известный историк Григорий Базлов, они и стали основой и одним из начал Донского казачества.
Таков след ушкуйники оставили в истории. Но его отголоски можно найти и в литературе. Ярким представителем "молодечества" является новгородский герой былинного эпоса – Василий Буслаев. Он и богатырь, и бузотер, на которого нет управы, кроме матери родной. Он собирает себе лихую дружину и отправляется в плавание из Новгорода после того, как побил многих горожан. Этот образ прекрасно воплотил в своем фильме "Василий Буслаев" режиссер Геннадий Васильев. Рекомендуем к просмотру.
А уж подлинным выразителем духа ушкуйников стал Алексей Толстой, написавший осенью 1870 года стихотворение "Ушкуйник":
"Одолела сила-удаль меня, молодца, Не чужая, своя удаль богатырская! А и в сердце тая удаль-то не вместится, А и сердце-то от удали разорвется! Пойду к батюшке на удаль горько плакаться, Пойду к матушке на силу в ноги кланяться: Отпустите свое детище дроченое, Новгородским-то порядкам неученое, Отпустите поиграти игры детские: Те ль обозы бить низовые, купецкие, Багрить на море кораблики урманские, Да на Волге жечь остроги басурманские!"
Основным способом передвижения в те времена были реки. В дремучих лесах легко было заблудиться, дороги оставляли желать лучшего, а весной становились непроходимыми. Да и опасность подстерегала путников на каждом шагу – не только же на реках разбойникам промышлять, верно? Разбойные ватаги охотно "работали" на дорогах, высматривая купцов и прочих людей побогаче. Местность можно изучить вдоль и поперек, а уж скрыться в лесах – дело нехитрое. В дальнейшем мы обратимся к преданиям и мифологии, ведь разбойники оставили свой след не только в документах и исторических хрониках, но и в народной памяти. И здесь уже сложно отделить правду от вымысла, но интересные моменты, безусловно, заслуживают внимания.
Первый, мифический разбойник о котором мы упомянем будет Буж. Действовал он на Смоленщине и многие ошибочно связывают его имя с названием города Дорогобуж. В русских преданиях он предстает неким аналогом Робин Гуда из Англии: не грабил бедных, а лишь алчных богачей, щедро одаривая вдов и сирот. Осуществлял он свою деятельность на дороге, поэтому постепенно эту дорогу и назвали дорогой Бужа. А отсюда и происходит название города Дорогобуж. Логика понятна, но только слово "буж" в старину означало "гора", и существует версия, что Дорогобуж – это "дорога в гору". Впрочем, наиболее правдоподобной кажется гипотеза о том, что город назван в честь другого города- Дорогобужа Волынского. Перенос названий был обычным делом, и смоленский князь Ростислав, дабы почтить старшего брата Изяслава, мог назвать новый город в честь владения брата.
Вторым, персонажем о котором мы упомянем, будет аналог Али бабы и сорока разбойников. Только у нас это будет атаман Блоха и сорок разбойников. Действовал он на Архангельском тракте. Прозвище “блоха” он получил за удивительную способность – в миг опасности обращать себя и свою шайку в блох и бесследно исчезать. ЛВ самом предании говорится о том, что был атаман Блоха и с ним “какой-то народ” и грабили они не только людей, но и храмы. Причем при разграблении Никольского монастыря, въезжали они на конях в храм и чинили святотатства. Что для православных людей было уму непостижимо. Также говорится в этих землях до сих пор остался клад атамана Блохи. Скорее всего в памяти отложился отряд разбойников, которые были неместными, что и позволяло им грабить монастыри, попутно совершая святотатства. Здесь мы сделаем на этом акцент, потому что сами храмы и монастыри наши “родные” лихие люди, также грабили достаточно регулярно. И, скорее всего, потом на данный эпос наложилась сказка об Али-бабе и сорока разбойниках, где также упоминается клад/сокровищница.
Третий персонаж нашей истории – женщина, атаманша Степанида, более известная как баба Степанида. В Воскресенском районе Нижегородской области, близ деревни Раскаты, высится Бабья гора. Ныне река Ветлуга отошла от нее, но некогда омывала ее подножие. Именно с этой горой связана легенда о Степаниде, предводительнице ватаги из дюжины удальцов, промышлявшей на реках и скрывавшейся в лесах. Предание гласит, что с Бабьей горы атаманша наблюдала за купеческими судами и давала сигнал к нападению. Около десяти лет она держала в страхе округу, пока не пришел ее час. Существует две версии ее кончины. Согласно первой, царские войска окружили ее за злодеяния, и она дала им бой. Чувствуя поражение, атаманша добежала до Бабьей горы и бросилась с нее в реку, найдя там свою смерть. Вторая версия гласит о междоусобной брани между самими разбойниками: убили тати атаманшу и сбросили ее тело в реку.
В обоих случаях предание утверждает, что дух ее не упокоился и остался на горе. Говорят, призрак женщины до сих пор можно увидеть, а стоны ее – услышать.
Ну и, конечно, мы не можем обойти легенду об атамане Кудеяре, который также нашел отражение в стихах Некрасова, в произведении “Кому на Руси жить хорошо”
.Там есть вставная песня “О двух великих грешниках”:
“Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр – атаман;
Много разбойники пролили
Крови честных христиан…”
Рассказы о нем распространены по многим областям, как южным, так и центральным. А уж сколько топонимов с его именем, не пересчитать. Вы наверняка встречались с различными названиями в разных землях по типу Кудеярова гора, лес, села. Так Кудеярова гора есть в Саратовской, Рязанской , Тульской, Орловской областях. Их очень много, как и легенд о происхождении самого разбойника. основные из них:
1. Предание гласит, будто он – сын Василия III и Соломонии, дитя, рожденное в тайне, после заточения царицы в монастырь. Таким образом он оказывается старшим братом Ивана Грозного.