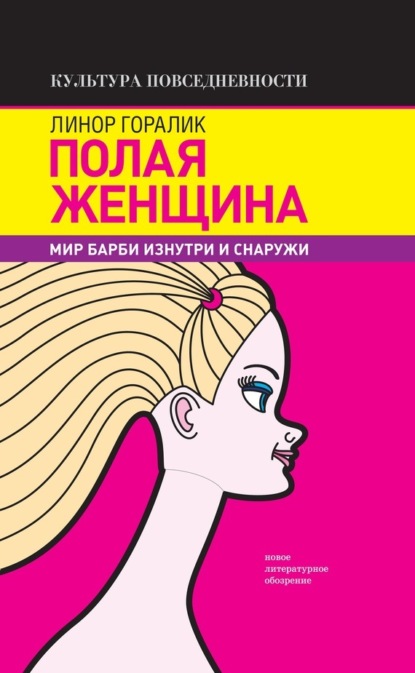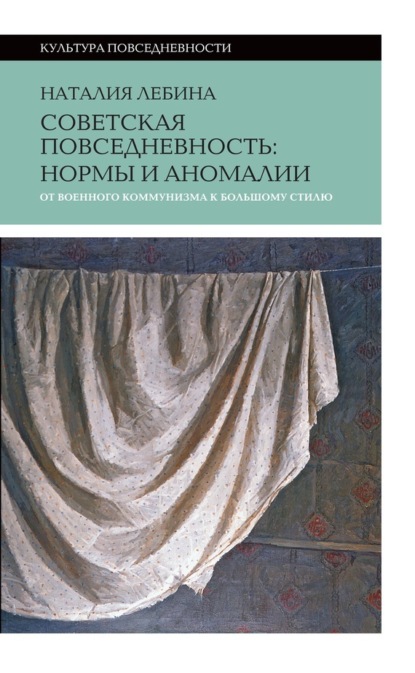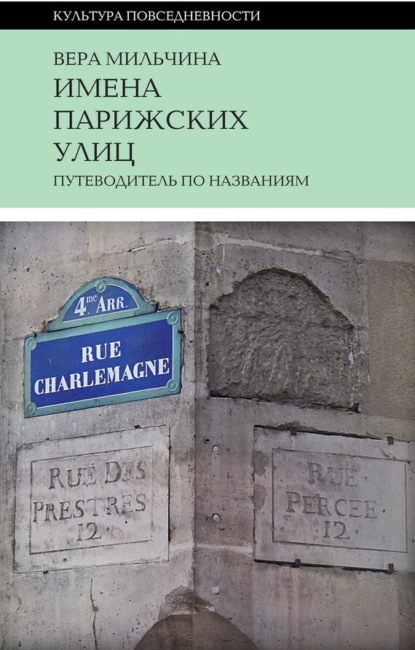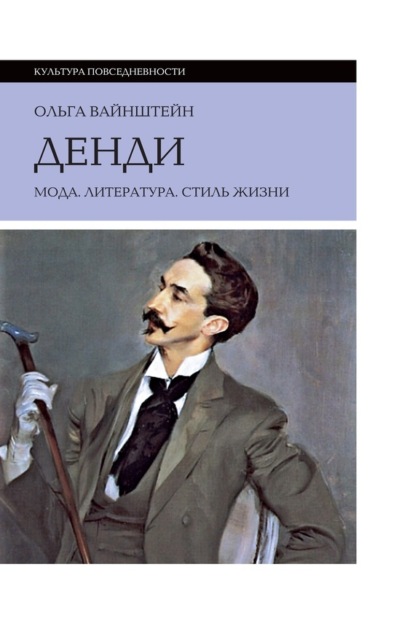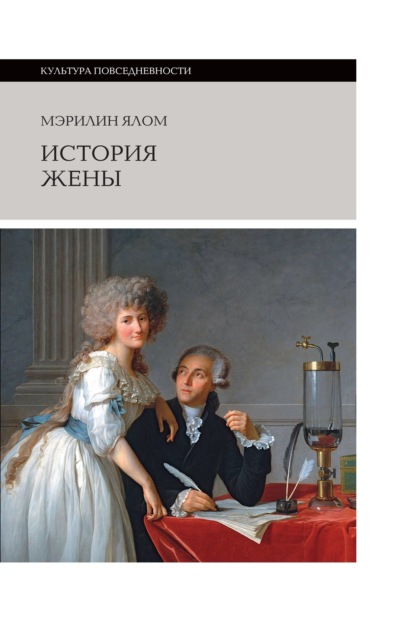Русская березка. Очерки культурной истории одного национального символа
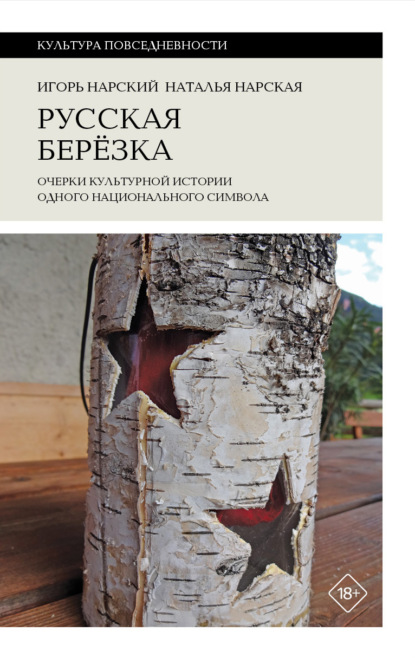
- -
- 100%
- +
Репродукцию сопровождает текст о художнице и ее картине, которая была первой в задуманной серии «Времена года» и характеризуется как «олицетворение наступившей весны и юности»[56]. Автор статьи Елена Тарасова не задается вопросом, повлияло ли творчество ансамбля «Березка» на сюжет картины Котухиной. Но образ березки встречается в тексте неоднократно. Тарасова пишет о живописном виде домиков Палеха в «кипени берез», а также использует образ пораненной березы, характеризуя жизненные принципы Котухиной:
Анну Александровну одинаково волнует и ветка, сломанная кем-то на березке в новом парке, и безвкусно исполненная афиша, и неудачная стенгазета в школе, и равнодушные посетители в музее, и пыль на дорогах[57].
Стилистика обращения к теме березы несколько менялась в последние годы существования СССР. Усиливалась апелляция к досоветскому прошлому, как видно в шестом номере «Работницы» в перестроечном 1987 году. На лицевой стороне обложки журнала напечатан безымянный фотоэтюд Нины Свиридовой. На нем изображена юная девушка в белом – в платье, шляпке и гольфах старинного фасона рубежа XIX-ХХ столетий. Девушка стоит с неброским букетом цветов в залитом солнечным светом лесу. Темные стволы двух деревьев образуют рамку изображения, на заднем плане которого, в глубине леса, угадывается береза. Новая стилистика изображения не скрывает главного и привычного: задумчиво глядящая вдаль девушка в белом на белоствольном фоне символизирует молодость, весну, чистоту и слияние с природой. В левом верхнем углу обложки помещено стихотворение Татьяны Кузовлевой, стихи которой о Родине, родной природе и родном крае регулярно встречались читателям «Работницы»:
Оглянись, присмотрись, назовиТо, чем ты дорожишь в этой жизни, —Ради нежности, ради любвиК человеку, к природе, к Отчизне[58].В этом же номере журнала, в рубрике «Поэтическая тетрадь», опубликовано несколько стихотворений Натальи Веселовской. Как сообщается в подводке к публикации, молодая поэтесса – выпускница Литературного института им. А. М. Горького и автор уже нескольких поэтических сборников, изданных «Молодой гвардией» и «Современником». Одно из стихотворений Веселовской соединяет сказочно-былинную метафорику с советским эхом войны и габитусом осажденной крепости:
Недалеко от старого овина,На три дороги головы клоня,Растут береза, елка и осинаИз одного обугленного пня.За ними ждет таинственна чаща —И впереди, за елкою густой,И слева, за осиною дрожащей,И справа, за слепящей белизной…Они стоят по-древнерусски крепко,Как дальний отклик трех богатырей —И каждый раз при злом порыве ветраДруг к другу прижимаются тесней[59].В том же номере опубликован материал о моде летнего сезона в пока еще советской Эстонии[60]. На одном из фото группа детей в модной одежде изображена на фоне леса с березой посередине. Хотя модная рубрика «Работницы» издавна практиковала фото моделей на фоне живых или нарисованных берез, в данном случае речь идет скорее всего о случайном попадании березы в кадр.
Наконец, в конце номера – обращение отдела литературы и искусства журнала в поддержку открытия музея безвременно умершего художника Константина Васильева, к творчеству которого мы еще обратимся. В тексте приведены хвалебные отзывы о его творчестве «простых» граждан и таких крупных деятелей литературы и искусства, как Владимир Солоухин и Илья Глазунов, которые не согласны с мнением о его картинах как «дилетантской мазне», какого придерживалось руководство Министерства культуры и Союза художников РСФСР. Здесь же опубликована репродукция картины Васильева «Жница» (1966), на которой юная белокурая красавица припала к стволу молодой березы[61].
Итак, в отдельных номерах с репрезентациями березы было «густо». А в других, напротив, «пусто». Это вызывало у нас недоумение. Никаких закономерностей не наблюдалось.
⁂Обращает на себя внимание, что в 1930-е и 1940-е годы, которые принято считать периодом формирования официального русского патриотизма взамен революционного интернационализма 1920-х годов, береза как символ родного края в «Работнице» почти не встречается. Все изменилось в 1950–1970-е: две трети вербальных и визуальных материалов, так или иначе связанных с «березовой темой», появились на страницах журнала между 1953 и 1983 годами.
При этом сплошной просмотр номеров журнала не дал удовлетворительного ответа на вопрос о логике появления березы в рубриках «Работницы». Обнаружилось, что женщина в прозе, поэзии, на фото, рисунках, вышивках и живописных полотнах ассоциировалась не только с березой, но и с рябиной и осиной, ивой и елью, ромашкой и васильком, речкой и полем. Оказалось, что символами родного края чуть ли не чаще, чем береза, выступали деревенский дом и печка, полет стрекоз и стрекотанье сверчка, аромат черемухи и шум клена, голубое небо и белые облака. Тополь и сосна фигурируют в советских рассказах и стихах о Великой Отечественной войне ничуть не реже, чем береза. Интенсивность в публикациях о березах казалась делом случая и игрой необъяснимых совпадений. Продолжать работать без разбору со всеми текстами и изображениями в других СМИ было бессмысленно, поскольку требовало титанических усилий и ничего не объясняло. Например, только в информационном сервисе East View, доступном пользователям Российской государственной библиотеки, поисковый запрос выдал 34 435 упоминаний «березы» в 8539 изданиях[62]. Надо было остановиться и подумать, как быть дальше. Требовалось разобраться с собранным материалом.
Для удобства работы мы провели классификацию публикаций, отраженную в таблицах приложений 1–3. Источники информации из «Работницы» были поделены на вербальные и визуальные. Тексты, в свою очередь, разделены на научные, прагматические (пропагандистские и просветительские) и художественные. В последние вошли взрослая и детская проза и поэзия. Изображения подразделяются на фотографические, живописные и графические. В рамках каждого из видов источников для упорядочения данных было условно выделено несколько типов артефактов. Те из них, в которых береза не являлась специальным объектом изображения (например, попав в объектив фотоаппарата ненамеренно), отнесены к случайным. Репрезентация березы в слове или зримом образе могла быть инструментальной, представляя древесину, мебель, березовый веник, берестяную посуду или грамоту, саженец или сорняк. Белоствольное дерево могло играть в тексте и на изображении орнаментальную роль красивого и уместного в определенном контексте элемента и применяться, потому что «так положено». Изображение березы могло использоваться структурно, как композиционный стержень изображения или повествования. Наконец, образ березы мог выступать в качестве символа. Символы указывают не на предметы, а на представления о них и поэтому характеризуются как репрезентации репрезентаций[63]. В «Работнице» образ березы отсылал к репрезентации весны, молодости, чистоты, красоты, женственности, родной природы, Родины.
Если классификационное деление источников на виды имеет некую формальную, объективную «твердь», то любая типологизация, включая примененную в данном случае, субъективна. Она является своего рода измерительным инструментом, изобретенным исследователем для сравнения объектов его внимания в конкретной, интересующей его ситуации. Как читатель вскоре сможет убедиться, предложенное выше типовое деление является фикцией, поскольку ни один из предложенных типов не встречается в чистом виде, а представляет собой комбинацию нескольких из них. Но чтобы не быть погребенными под грудой неупорядоченных артефактов, пришлось изобрести полочки, по которым содержимое этой груды можно было бы разложить, ориентируясь на главный вопрос: в каких контекстах в журнале «Работница» возникали образы березы и какие смыслы они несли?
⁂Начать, пожалуй, следует с текстов о березе прикладного характера, которые нечасто, но регулярно появлялись на страницах «Работницы» в рубриках, посвященных явлениям природы, временам года, лесному делу. Эти рубрики, которые в разное время назывались по-разному, стали постоянными с конца 1940-х годов. В фенологических, лесоводческих, экологических статьях важное место занимает феномен березового сока, его полезных свойств, правил его сбора и защиты деревьев от его хищнической добычи. По-видимому, первая такая статья появилась в журнале в 1947 году. Она принадлежит перу гуцульской писательницы Деметры Сковороды в переводе писателя, сценариста, в прошлом киноактера и режиссера Георгия Зелонджева-Шипова[64]. Статья является одной из немногих – за всю историю «Работницы» не найдется и десятка, – в которых «береза» входит в название. Автор статьи «Сага о белой березе» подробно излагает, в какое время можно собирать березовый сок, каковы технологии сбора, правила выбора дерева. Читатель узнает из статьи, как долго длится добыча сока из одного дерева (подсочка), сколько сока можно собрать в день с одного дерева, каковы его лечебные свойства. В статье даны рекомендации, как употреблять, перерабатывать и хранить напиток. Не забывает автор сообщить и о том, что древесный сок можно собирать не только с березы, но и с клена, бука, орешника. Однако всем этим деловито изложенным практическим советам предпослан очень эмоциональный и образный литературный текст, заставляющий усомниться в натуральности явления подсочки и заурядности процедуры сбора березового сока. Статья начинается со стихотворных строк:
Плачут клены и березы,Плачут чистыми слезами…Слезы ль это? Или страстиЖивотворные бальзамы?Ох, и сладки ж эти соки,То нектар любви томленья,Что дает нам мощь и силуИ высоких дум стремленья.«Слез девичьих» жбан до краяНацежу в лесах зеленыхИ сзову к себе на ужинВсех друзей и всех влюбленных…Выпьем чару круговую, —Силой, страстью закипая,Грянем песню и почуем,Что живем, не прозябая.За стихотворением следует поэтизированное предисловие к инструкции по сбору сока, в котором береза сравнивается с девушкой-невестой, а весна – со свадьбой:
«Да здравствует жизнь!» – воскликнул, умирая, матрос Зализняк. «Земля, живи!» – слышу я голос уходящей зимы. Таково наивысшее благородство нашей природы: умирая, завещать жизнь другому. А если надо, то и отдать ее.
…И моему воображению всегда представляется еще и другое: Девушка, Невеста, Женщина. Не в ней ли природа сокрыла свое самое драгоценнейшее сокровище – Жизнь? Вся она символ созревшего счастья!
Вот она, до самых краев наполненная соками Жизни, ждет завершения – свадьбы. И вот в момент этой наивысшей радости созревшее до полноты сердце разражается буйным, хмельным рыданьем… Покатились обильные и счастливые слезы-роса…
Не таков ли чарующий «весенний плач деревьев»? Ой, не потому ли плачет весенней порой задумчивая Белая береза, как девушка-невеста в день свадьбы?
Ой, потому, потому!..
Идет весна, идет буйная жизнь и радостная свадьба, – потому и проливает свои животворящие соки задумчивая Белая береза…
Так спешите же, друзья, на свадьбу к Белой березе!
Недаром наши предки-славяне встречу солнца и весны, этот праздник жизни, называли Березнем – Березень![65]
Как видим, упомянуты в тексте и самоотверженность революционного матроса Железняка (в тексте – Зализняка), и обряды древних славян. Запомним, что статья написана нерусскоязычной писательницей, что береза в ней, равно как и система связанных с ней метафор, эпитетов и олицетворений, – не русское, а общеславянское достояние. Обратим внимание и на то, что статья гуцулки иллюстрирует условность предложенной выше типологизации текстов. В «Саге про белую березу» соединены и инструментальный, и орнаментальный, и символический типы презентации березы. Текст иллюстрирует черно-белое фото неизвестного автора: береза в левой части фотографии, слегка наклонившаяся направо на фоне Карпатских гор, образует рамку закарпатского пейзажа с пирамидальными деревьями. Фото не только иллюстрирует текст, но и поэтизирует березу, усиливая декоративно-символические стратегии статьи.
А вот пример повествования в «Работнице» о березе в другом культурном контексте, на этот раз не общеславянском, а русском, не женском, а патриотическом и природоохранном. Опубликованный в июне 1962 года очерк журналиста, взявшего годом ранее первое интервью у Юрия Гагарина, и будущего ведущего телепередачи «В мире животных» Василия Пескова посвящен летнему лесу и, шире, природе среднерусской полосы[66]. В тексте особо подчеркивается связь любви к Родине с любовью к природе:
Чувство Родины – самое высокое из всех человеческих чувств. Образ Родины для каждого из нас вполне конкретен. Это место, где мы живем, где мы родились, где мы росли. На чужбине или в суровый час мы вспоминаем: «Кусок земли, припавший к трем березкам, далекую дорогу за холмом…» – писал Константин Симонов. Родина – это дымки родного поселка, это степи, где солнце садится в пшеницу, рябина под окнами, лес с заветной, только тебе известной тропинкой… Образ Родины неразрывно связан с образами родной природы. Природа живет в лучших народных песнях, природа заставляет звенеть самые тонкие струны души у поэтов. Перелистайте книжку Есенина, и вы еще крепче полюбите «ситчик наших небес», тихую радость родных перелесков, вы услышите запах сена и белых ромашек, плеск воды и пляску берез[67].
Автор указывает на роль русской культуры в открытии красоты родной природы, а именно на творчество Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Петра Чайковского, Сергея Есенина. Заметим, что в советском культурном каноне Левитан и Есенин почитались как «певцы березы» в живописи и поэзии. Очерк украшает серия авторских фотографий. На одной из них снята синичка, сидящая на запястье руки с ладонью, полной семечек. Фото называется «Рука человека». Ниже помещен снимок, на котором запечатлен акт варварского отношения к природе – надпись на березовой коре «Здесь наслаждался природой Олег Безруков». Фотография прокомментирована так: «Это сделано тоже рукой человека. Человек оставил память о своем пребывании. Читаем и говорим: увековеченная глупость…»[68]
В тексте статьи, как и у Деметры Сковороды, также использован прием антропологизации дерева для осуждения легкомысленного отношения к природе:
Вы видели, как плачут березы? Из раны струится прозрачный, как слезы, сок. Березам, конечно, не больно, но больно видеть пошлые надписи на березах: «Валя + Коля гуляли в этом лесу…» Сколько увековеченной глупости видим мы в парках и на лесных опушках вблизи городов! Лесам ножом урона не принесешь, дело в другом. На захламленной поляне с надписями на березах, с обрывками бумаги и ржавыми банками испытываешь такое чувство, словно кровать тебе застлали чужой, не постиранной простыней[69].
Чувство гадливости у автора вызывает не угроза природе, а надругательство над олицетворенной в ней, словно бы замаранной Родиной.
В статье Лидии Васильевой «Июль-страдник», вышедшей в журнале «Работница» летом 1974 года, дана фенологическая зарисовка смены явлений, происходящих с различными лесными деревьями и растениями. Заканчивается она описанием тополя под окном квартиры автора, который сопровождает ее всю жизнь, представляя собой дорогой ей «крошечный мир природы в каменной громаде города»[70]. А начинается статья с поэтического описания белоствольных деревьев:
Ранним летним утром войдешь в тишину леса. Колонны светоносных берез поднимают наш взгляд, и он уходит к вершинам, плывущим вместе с облаками в бездонном небе. Зеленое дыхание берез свежо и чуть горьковато. Тени медленно перемещаются по кустам, по стволам деревьев, – ты идешь, и лес точно движется вместе с тобой[71].
Пример наиболее чистой инструментальной репрезентации березы представляет статья костромского писателя, бывшего фронтовика Василия Бочарникова «Рощи карельских берез», опубликованная в «Работнице» летом 1977 года в рубрике с программным названием «Наш дом – природа». В ней рассказывается о том, как сотрудники Костромской опытной лесной станции Сергей и Маргарита Багаевы искали и размножали в Поволжье карельскую березу. Их труд увенчался успехом: семьсот тысяч саженцев они передали в пятнадцать лесхозов страны от Молдавии до Сахалина. В статье превозносятся качества карельской березы как ценного столярного и поделочного материала. Не преминул автор упомянуть о ней и как о национальном богатстве, на которое с вожделением взирают алчные иностранные предприниматели. Примечательно, что в пассаже о «западных партнерах» Бочарников орнаментально – потому что «так положено» – пытается придать своей речи древнерусский колорит:
Мебель из карельской березы получается крепкой и красивой. Для внутренней отделки зданий нет лучшего материала – таким бы деревом пионерские дворцы украшать! А уж что могут сотворить из живого ствола умные, терпеливые руки мастера-художника, какие сувениры! Не материал – мечта! Охочи до карельской березы и иноземные фирмы. И продают им древесину не на кубы, а на вес. Да, на вес. Мало ее, прекрасной, драгоценной березы[72].
В начале 1980-х годов усиливается экологический мотив в репрезентации березы в текстах «Работницы». Так, в 1981 году на страницах августовского номера журнала в новой рубрике «Клуб общественниц» появилась статья сызранских активисток охраны природы в их регионе[73]. Помимо прочих природоохранных акций, в ней описывается и так называемая «операция „Береза“»:
Операция «Береза» падает на раннюю весну, когда под белоствольной корой начинает бродить сок. Любители полакомиться им варварски надрезают кору дерева, увешивают его банками. Общественники отправляются в березовые рощи, лечат искалеченные деревья[74].
В постсоветское десятилетие фенологические статьи и читательские реплики о явлениях природы приобретают антропософский налет, соединяются с размышлениями о психологическом состоянии человека, провозглашают мистическое слияние с природой и возвращение к древним истокам. Статья в первом номере «Работницы» за 1997 год с симптоматичным названием «Брат мой – дерево»[75] в рубрике с не менее характерным заголовком «Зеленый разум» апеллировала, например, к архетипическим основам почитания березы:
В России издавна существовал обычай – накануне Духова дня идти в лес и обряжать там березку. На деревце надевали сарафан, украшали лентами и монистами. Обряд этот восходит к временам древним, языческим. Славяне, как античные греки и римляне, полагали, что душа дерева – это женское начало[76].
Антропософскими настроениями проникнуто письмо читательницы Светланы Крамор в популярную в 1990-е годы рубрику «Россия – это мы». Автор послания-заметки с заголовком-призывом «Найдите свое дерево» рассказывала о своем общении с тремя старыми деревьями – кленом, липой и березой – перед купленным в деревне двухсотлетним домиком. Страдая психологически, Светлана обнимает клен, при физических недугах садится на скамеечку под липой. «А под березой у меня стоит всегда пенечек. У меня самая красивая береза! У нее я прошу сил побольше. Я ей очень верю, она такая добрая и силой своей делится со мной»[77].
Заметка женщины, якобы обладающей астральной связью с природой, заканчивается практическим советом: «Советую: у кого нет верных друзей, найдите свое дерево, расскажите ему все, что вас волнует, и обязательно получите ответ»[78].
В очерке «В березовом краю, на малиновых зорях»[79], опубликованном в рубрике «Вот моя деревня», Наталья Киселева описывает прелести возвращения в родное Сергеево, в которое время от времени манит ее из города неодолимый зов. Береза – неотъемлемая обитательница ее малой родины:
Там ждет меня озябший от одиночества дом, поленница в сараюшке, печальный «журавль» колодца и что-то пронзительно-сладостное в самом воздухе деревенской зимы. Не важно, стужа ли на дворе или хлябь. Я знаю, как встретят меня березы в своих парадных белых париках. Как удивят кособокими нахлобучками лавочки и банька. И замерзший куст «золотых шаров», стянутый в талии пояском от старого халата, вдруг напомнит о золотых деньках вообще[80].
Закольцевать тему инструментальной репрезентации березы хочется статьей «Поила меня березовым соком» в «Работнице» года 2000. Текст посвящен полезным свойствам березового сока, его профилактическому употреблению. Он снабжен подробным перечнем болезней, против которых сок применяется, советами о его добыче, хранении и рецептурой изготовления продуктов. Авторы Ирина Исаева и Алексей Третьяк предварили статью предисловием о соблюдении традиции Древней Руси в космическую эру:
Однажды на вопрос с Земли к космонавтам, чего им в длительном полете больше всего хочется, Владимир Ляхов ответил: «Попасть под дождичек, увидеть зеленый лес, березового сока попить». Попить березового сока на Руси любили издавна. Его припасали и к тяжелой сельскохозяйственной работе – покосу, и как спасительное средство от всяких недугов, и просто пили по весне, восстанавливаясь после безвитаминной зимы, после болезней, родов, психологических стрессов[81].
Как видим, инструментальные тексты прикладного характера в описаниях березы практиковали орнаментальные и символические мотивы. Тем более это характерно для документальных текстов литературоведческого, искусствоведческого, дидактического, агитационного характера.
⁂Крупнейший из поэтов современья… – писал Леонов, – сам мужик, он нежно любил свою деревню, породившую его и показавшую его миру…
Могучей творческой зарядкой был отмечен звонкий есенинский талант. Глубоко верно, что много еще мог бы сделать Сергей Есенин. Еще не иссякли творческие его соки, еще немного оставалось ждать, и снова брызнули бы они из есенинских тайников, как по весне проступает светлый и сладкий сок на березовом надрезе[82].
Высказыванием видного советского писателя Леонида Леонова завершил литературовед Николай Занковский статью о поэзии Сергея Есенина, приуроченную к 70-летию со дня рождения поэта в 1965 году. Ее главный тезис в том, что именно чувство Родины лежало в основе творчества и составляло секрет популярности поэта. В использованной Занковским цитате сама береза, вернее ее сок, олицетворяет творческие силы поэта.
«Работница» регулярно публиковала статьи к юбилейным датам дореволюционных и советских писателей, поэтов и художников. В некоторых из них – посвященных творчеству Сергея Есенина, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря[83] и ряда других – береза упоминалась как поэтический образ или принадлежность пейзажа. С искусствоведческими статьями на страницах «Работницы» читатель познакомится позже, в связи со зримыми репрезентациями березы в журнале. Но, пожалуй, уже сейчас нужно сказать об одной такой статье. В ней бывшая учительница, журналистка Ариадна Жукова делилась впечатлениями о Первой всероссийской выставке детского творчества «Отечество», которая проходила весной 1969 года в Москве, в Центральном доме работников искусств. При этом Жукова апеллировала к своему учительскому опыту, выдвигая тезис о том, что ребенок без труда воспринимает язык произведений русского народного творчества. Феномен легкости и естественности детского восприятия образного языка предков она объяснила его архетипическим характером:
Ведь народное русское творчество оттого и стало народным, что уходило корнями в самую землю и душу русскую. Сегодняшний ребенок видит ту же березовую рощу и ту же ромашку, что и умелец семнадцатого века[84].
Второе упоминание берез в статье Жуковой связано с описанием картины, посвященной Бородинской битве. Полотно принадлежало кисти десятилетнего участника выставки Миши Кваченюка: «Французы наступают стройными рядами. Русские обороняют редуты. Среди смешавшихся войск, как свечечки, поднимаются тонкие березы»[85].
Еще один текст в «Работнице», на этот раз очерк о производственной, повседневной и культурной жизни в многонациональном Сумгаите 1970-х годов, также не обходится без березового мотива. Автор даже использовал его для названия своей статьи – «Апшеронские березы»[86]. На этот раз образ березы – метафора интернационального гостеприимства и добрососедства, или, по-советски – «расцвета и дружбы братских республик»:
Оказывается, березы в Азербайджане не растут. Но чтобы доставить радость людям, приехавшим в Сумгаит из России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, Гасан Ахметов[87] и его помощники сотворили чудо: из тоненьких, в карандаш толщиной росточков, привезенных из подмосковного питомника, выпестовали аллею первых на Апшероне берез[88].
Итак, береза не часто, но все же довольно регулярно упоминалась в публицистике на страницах «Работницы». Береза встречается в различных, порой самых неожиданных контекстах. Не меньшим разнообразием смыслов отличались репрезентации березы в художественной, автобиографической и мемуарной прозе, которая также в виде рассказов, глав из книг или фрагментов мемуаров публиковалась в журнале.
⁂Ранним утром в окно кабины видно, как гряда черных узловатых гор становится вдруг голубой. Из-за гор выплывает розовая полоска зари. В ее сиянии отчетливо виден каждый куст, каждая травка. Очарованно следит девушка за игрой лучей восходящего солнца. Верхушки кустарника у реки колышутся, словно переговариваются. Река, широкая и вольная, тоже кажется розовой. Кусты с трепетом никнут и припадают к ней. Одинокая береза на отшибе подняла вверх ветви, словно заломила руки…