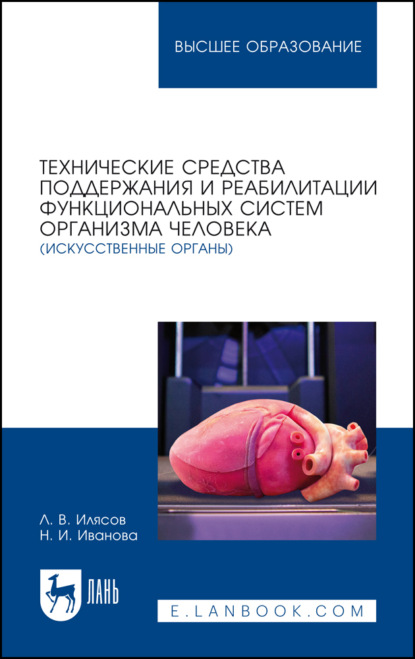Блюз для майора Пронина

- -
- 100%
- +

© Овалов Л. C., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
Пролог

Анна Леон. Портрет Льва Овалова
Пожалуй, эту историю стоит начать с одной старинной песенки. Эти немудреные слова нередко звучали той весной, весной 1941 года:
Ночь нам покой несет.И, когда все уснет на земле,Спускается с горних высотГолубой ангел во мгле.Он неслышно входит в наш дом,Наклоняется к нашим устамИ спрашивает нас об одном —О тех, кто дорог нам.И, не в силах ему противиться,Это мать, невеста, жена —Открываем мы тайну сердца,Называем их имена.А утром с ужасом слышим,Что любимых настигла смерть.И тоска проникает в душу,И чернеет небесная твердь.Мы ничего не знаем,Не видим Божьих сетей,Не знаем, что это ангелУносит лучших людей.И вечером, одинокие,Беспечно ложимся спатьИ в пропасти сна глубокиеПадаем опять.Так не спите ночью и помните,Что среди ночной тишиныПлавает в вашей комнатеСвет голубой луны.Москва майская, предвоенная, Москва 1941 года. Кузнецкий Мост там, где ему и положено быть, разве что французов на нем поубавилось и магазинные витрины утратили пестроту и яркость… Недавно отстроенная гостиница «Москва» уже породила легенды о том, как утверждался ее проект… Поговаривают, что товарищу Сталину представили для выбора два разных проекта, но мудрый вождь поставил свою подпись ровнехонько посередине между двумя чертежами. Вот и построили асимметричный, но внушительный фасад вместо прежней охотнорядской чересполосицы. Арбат еще прежний, невысокий, зеленый и пыльный летом, заснеженный и совсем уж простоватый зимой, но многое, очень многое уже изменилось в облике великого города и еще будет меняться до полной неузнаваемости во время войны и после нее…
Ах, война, война… Она разбила эпоху надвое и во всем мире стала точкою отсчета обеих эпох: До войны и После войны…
Перед войной в мире было три по-настоящему великих сыщика. Шерлок Холмс, комиссар Мегрэ и майор Пронин. Но Шерлок Холмс был уже стар и занимался исключительно пчелами, поселившись в славном своими ульями графстве Суссекс, которое, как известно, является административной единицей одной крупной империалистической державы. Комиссар Мегрэ, гордость Министерства внутренних дел другой крупной империалистической державы, вдруг оставил Париж и уехал подальше от мировой войны – за океан, в Нью-Йорк, наивно надеясь, что грядущая война не коснется заокеанского империализма, крупнейшего и сильнейшего из всех. Только майор Пронин, простой советский человек, ну, может быть, чуточку, что называется, сверхчеловек… Хотя какие могут быть сверхчеловеки в стране, где все граждане абсолютно равны между собою… Человек, но не самый простой, а заслуженный… Знатный человек молодой советской страны, в которой ценились великие труженики – забойщик Стаханов, машинист Кривонос, ткачихи сестры Виноградовы… Да, так вот майор Пронин, который ни в чем не уступал ни Шерлоку Холмсу, ни комиссару Мегрэ в их лучшие годы, продолжал выполнять свои непосредственные и очень важные для Родины обязанности. Так-то оно так, только и его подкосила пневмония.
По московской улице Петровке едет сравнительно молодой человек, велосипедист. Настоящий спортсмен – в белоснежной тенниске под пиджаком. С неба моросит, мелко, но довольно часто. Одной рукой велосипедист смахивает со лба дождевые капли, другой держится за руль. Да, он молодо выглядит, этот парень, лет на двадцать пять – двадцать семь… А на самом деле ему хорошо за тридцать, а точнее – тридцать четыре года. И звать этого молодого человека Виктор Железнов. Одетый в штатское, он тем не менее офицер, да не из простых. Капитан НКВД – это вам не шуточки. Знай соседи по коммуналке его настоящее место работы – насколько тише и аккуратнее они бы себя вели и с ним, с Виктором, и вообще… Но они этого не знают, потому что простым гражданам не положено знать в лицо тех, кто незримо стоит на страже Родины, а значит – и их покоя, благополучия, мирных дней…
Люди прячутся от дождя и особенно охотно делают это в подъездах Петровского пассажа. В толпе Виктор увидел спину в зеленом пальто; он притормаживает, вглядывается в круговерть спин, зонтиков, шляп, шалей, шинелей и пиджаков, одним словом, пытается взглядом просеять эту толпу и зацепиться за зеленую спину… Но нет, спина в зеленом пальто растворяется в людном магазине без следа. Даже если бросить велосипед на произвол судьбы – все равно теперь не догнать этого незнакомца, не выследить его, не узнать… Велосипедист, уже не обращая внимания на дождь, словно с досады стучит красным от холода кулаком по рулю и едет дальше по пустой Петровке. Но на лице его почему-то нет ни огорчения, ни досады, он, скорее, склонен расхохотаться… В доме № 38 по этой же улице тоже работают офицеры, но не коллеги Железнова, а сотрудники знаменитого МУРа, тоже охраняющего покой и благополучие мирных граждан, Однако у них задачи иные: они защищают граждан от социальных пережитков прошлого, то есть от уголовников, врагов внутренних, в то время как майор Пронин, капитан Железнов и их коллеги борются с врагами внешними, засылаемыми в нашу страну спецслужбами тех самых империалистических держав, о которых мы уже упоминали вначале. Этих, упомянутых, и не только этих… С Германией подписан прочный мир, но для Пронина и его сослуживцев тот самый мир почему-то никак не наступает. Немецкая разведка очень активна и действует нагло. Умерить их пыл, потыкать носами в ими же нагаженное, не дать нанести вред и ущерб – это как раз одна из задач, которые страна ставит перед майором Прониным и капитаном Железновым…
Холл квартиры майора Пронина повместительнее отдельной квартиры. Майор Пронин бездетен и холост, что большая редкость в «органах», ибо одиночество и отсутствие семьи – нехарактерная черта советского человека, строителя нового, коммунистического общества. Майор НКВД в военно-административной табели о рангах – это, конечно же, не пехотный майор и даже не майор авиации, но и ему вроде бы как не по чину занимать в одиночку такие апартаменты. А хотя бы и с семьей – все равно слишком жирно. Да что ему – не каждый генерал их ведомства имеет такую жилплощадь, да еще в центре города, а майор Пронин вот живет, без соседей, с ванной, телефоном, газовой плитой, паровым отоплением, горячей водой, холодной водой и незадачливой экономкой Агашей, которая, как известно из опыта другой эпохи, «должна быть экономной»…
Дверь в гостиную, служащую также и кабинетом, приоткрыта. Откуда-то сбоку раздается телефонный звонок. Женский голос строго отвечает: «Товарищ Пронин нездоров. Позвоните через неделю». Из гостиной доносится англоязычное исполнение песни «Голубой ангел» – той самой, с которой началась наша история. Гостиная смотрится неплохо: тридцать два квадратных метра, два огромных окна, четырехметровые потолки с лепниной, здоровенная люстра лампочек на пятнадцать (впрочем, ввинчено и горит всего пять) – ах, хорошо, привольно жили купцы Бахмельевы… Их апартаменты занимали почти весь третий этаж; это уже после революции советская власть добралась до частных владений и раздала их лучшим представителям рабоче-крестьянского государства. Пришлось, конечно, перепланировать жилые помещения, ибо шестнадцать комнат просто не нужны советской семье. Теперь одну часть бывших апартаментов занимает квартира Пронина, соседская, через стенку, принадлежит комиссару второго ранга товарищу Ф. с семьей из четырех человек, включая престарелую тещу, а по коридору направо – знаменитый кинорежиссер с женой, они бездетны, и секретарь московского горкома партии с женой и двумя сыновьями.
Гостиная, видимо, и раньше была гостиная, но из прежней обстановки остался один лишь беккеровский рояль… ах да, еще люстра с хрустальными висюльками. Кожаные диваны, похожие на смирных черных бегемотов, завезены сюда из других мест, но оба вполне прижились и тут: каждому из них отвели отдельную комнату, о каждом ежедневно заботится экономка, чистит их, моет, да и хозяин не забывает их своим вниманием, хотя и бывает дома реже, чем бы им хотелось… Иногда Пронин, когда что-то особенно его заботит и раздражает, подходит к роялю и начинает тыкать одним пальцем, подбирать мелодии… Редко такое бывает, но уж если случается – неутомимая Агаша сразу утрачивает пролетарский пыл и приобретенную годами долгого знакомства смелость, сидит в своей каморке тише воды и ниже травы, пережидает… Но уж когда она верхним чутьем своим – и всегда безошибочно – определяет, что миновало грозовое время – то гляньте на Агашу, не пожалеете: вот у кого нужно учиться командирскому голосу и рабоче-крестьянской способности резать правду-матку начальству. Узнав по голосу Виктора, она молча отпирает ему дверь, а сама, даже не дождавшись, пока он войдет, рысью мчится на кухню.
А начальство ее полулежит на диване, укутанное в плед, и к роялю не подходит. Слух майора Пронина в данную минуту занимает совсем иная музыка. Он слушает блюз про ангела, кивает в такт этой необычной для его дома мелодии, даже пытается дирижировать расслабленной, выпростанной из-под пледа рукой. На паркетном узорчатом полу у него под рукой сложена почти полуметровая стопка газет, поверх которых – раскрытая книжка и очки в добротной роговой оправе. На книжке стоит рюмочка, наполовину заполненная коньяком. На рюмочке – лимонный ломтик, насаженный поперек тонюсенькой рюмочной стенки.
В холле отряхивается от воды наш велосипедист. Он устанавливает свою машину у стенки, снимает ботинки, по-собачьи трясет мокрой головой. Навстречу ему опять выбегает Агаша, решительная, почти пожилая дамочка в белом переднике с ладным крестьянским лицом, и кудахчет уже знакомым нам голосом:
– С ума сошел, Витька! Куда ты такой с дождя? Надышишь на него новой простудой да сыростью! А грязи-то! По канавам ты, что ли, катался?
– А ты не ори на старшего по званию, товарищ сержант. Лучше дай мне обтереться и поднеси согреться! Холодрыга, чтоб ее, как будто бы не май кончается, а ноябрь. А у вас тепло, кстати…
– Согреться тебе? Вот швабру возьми, да и согреешься в момент. Согреться ему! Ты сколько раз обещал не переться с велосипедом в квартиру. Сам посмотри – сколько грязи нанес.
– Ну извини, Агаша. Я бы оставил внизу – так ведь сопрут. А не сопрут – ниппеля вывернут, как в тот раз. И вообще это даже не грязь, а вода. Что сам, как он?
– А, он что болеет, что не болеет – все равно шило в заднице. Слышь, Вить…
– Подожди, я руки и лицо сполосну… А, чего?
– А правда говорят, что к седьмому ноября младшему составу, кто больше десяти лет стажа имеет, очередное звание присвоят?
– Вполне возможно. А тебе что от этого?
– Так мне тогда старшего дадут и оклад прибавят, жалованье.
– Ха, так и обмоем тогда треугольники твои! Ждать недолго. Смотри, Агаша, так ведь ты скоро нас с Иваном Николаевичем обгонишь по служебной лестнице…
Музыка в гостиной обрывается. Голос Пронина: «Агаша, еще раз эту же пластинку!» Агаша, повеселев, подмигивает велосипедисту, но голос ее по-прежнему ворчлив и резок:
– Седьмой раз за утро слушает эту кошкодавку! Надоело мне это мяуканье хуже горькой редьки! А еще говорят – за нее негритянка поет. Неужто правда? Небось назло капиталистам и поет… А то кино нам показывали – срамота, прости господи! И Любовь Орлова туда же вслед за ней пляшет с голой задницей. И окна закрывать он не разрешает: без сквозняка жить не может, видите ли. Душно ему. Вот и дожил, что с дивана не встать… Да иду, иду, у меня же не десять рук, за всеми вами подтирать…
Агаша энергично шагает в гостиную, по пути делает крюк, вынимает из комода полотенце и с притворной сердитостью швыряет велосипедисту. Бросок снайперски точен, велосипедист, он же капитан Виктор Железнов, правая рука майора Пронина, подхватывает махровое полотенце, насухо вытирается им, приводит себя в порядок перед зеркалом, делает тяжелый и мужественный взгляд и, слегка волнуясь, словно перед докладом, тоже направляется в гостиную. Вместо «здравствуйте» и рукопожатия он видит спину майора, покачивающегося в такт песне. Железнову не привыкать, Иван Николаевич и не такие фортели выкидывал: все великие люди немножко чудики, так сказать, каждый со своим «приветом». Виктор садится в кресло и, пользуясь тем, что тот к нему спиной, смотрит на Пронина чуточку снисходительно, даже с улыбкой.
– Капитан Железнов, а капитан Железнов!
– Здесь я, Иван Николаевич!
– Кому Иван Николаевич, а кому товарищ майор. Ты в курсе, что Агаша все вещи в квартире содержит в идеальной чистоте, особенно металлическую утварь, которую она заставляет сверкать и днем, и в ночи, подобно молодым бриллиантам?
– В курсе. Так точно, в курсе, Иван Николаевич. А что?
– «А что, а что»… Агаша, объясни товарищу про «а что».
– Иван Николаевич твои кривлянья вон в ту бронзовую дощечку видит, вот что. И как ты рожи корчишь, и как ты пальцами крутишь…
– Молодец, Агаша. Что значит – чекист со стажем. Учись, товарищ Железнов. Кем ты был до этого часа, до разжалования? Капитаном?..
– Виноват, товарищ майор.
– Вольно, товарищ Железнов. Впредь смотри…
Агаша, сняв тапочки, взгромоздилась на стул с подстеленной клеенкой и что-то ищет на верхней полке буфета. Снова звонит телефон. Агаша в панике прыгает со стула, не успевает надеть тапочки и босиком мчится в коридор, оставляя на паркете мокрые следы. Не дай бог не подойти к звенящему телефону, не дай бог. Доброта и панибратство Пронина жестко заканчиваются на пороге внерабочих отношений. Агаша при нем двенадцатый год, служебные порядки и «свой маневр» знает назубок. Во всем, что касается ее обязанностей, Агаша – фанатик и подгонять ее не надобно, наоборот – скорее осаживать. Пронин доволен ею безмерно, а уж Агаша Пронина просто боготворит. Вот уж действительно: он ей и дитя, и Бог, и воинский начальник.
– За газетами заехал?
– Да вообще-то нет. У меня своих девать некуда.
– Все равно заберешь, пригодятся.
Усмешка Пронина предшествует реплике Агаши: «Он болен. Болен. Спит. Не знаю, оставьте сообщение, чтобы я передала, когда проснется». Песня прерывается.
– А все-таки что-то есть в этой современной музыке… – говорит Пронин.
– Джаз – музыка толстых, Иван Николаевич.
– Кто тебе сказал такую чушь?
– Гм… это, по-моему, Максим Горький сказал.
– А точнее?
– Да, Горький! – уже увереннее подтверждает Железнов.
– Ты просто перепутал, Виктор. «Музыка Толстых» – он сказал. В смысле Алексея Николаевича…
– Да? Ну, может быть… Что, действительно так сказал?
– Шутка. Просто великий пролетарский писатель Максим Горький не разбирался в североамериканской классовой борьбе. Джаз – это стихийный протест угнетенных негритянских слоев городского пролетариата и сельской бедноты против белых угнетателей. Да-да, уж, наверное, я не хуже Горького понимаю в проблемах современной буржуазии. Не согласен со мной?
Железнов ежится: и Горький всем классикам классик, и с Николаичем здесь не больно-то поспоришь. Скользкая потому что тема… Как ему не надоест городить всякую двусмысленную ерунду…
– Вы ее полюбили, Иван Николаевич.
– Кого???
– Эту, Марлен Дитрих…
– Полюбил. Да как и не полюбить, с ее голосом и фигуркой? Поставь-ка еще разок, – просит Пронин и уже сам фальшиво напевает «Голубого ангела» голосом, от которого разбежались бы даже черти в аду, не говоря уже об угнетенных массах негритянских джазменов.
Железнов с тяжелым вздохом снова раскручивает патефон и, умерив громкость, заводит все ту же песню.
– Сейчас сюда придет Лев Сергеевич Овалов, инженер наших с тобой душ. Встретить как полагается. Форма одежды, ширина улыбки – произвольные. – Пронин приподнимается на диване и со вкусом зевает.
Больной-то он больной, отмечает про себя капитан Железнов, а прическа – словно только что из парикмахерской – волосок к волоску, пробор как по линеечке, затылок пострижен, а сам идеально выбрит. Разве что глаза красные и мешки под глазами. И бледный очень. С недавних пор Виктор полюбил бриться по утрам в парикмахерской, а вот Иван Николаевич никому свою шею не доверяет, бреется сам и только сам.
Одет майор Пронин в новенькую белую пижаму с голубым воротом, которой довольно тесно на широченных, чуть оплывших плечах. Шерлок Холмс в таких случаях предпочитал халат, скрывающий нижнее белье, к каковому безусловно относились не только трусы и кальсоны, но и майка, и постельная пижама; однако же советская действительность рождала свои моды и обычаи, и все легко подчинялись этим веяниям, даже наш герой, легендарный майор Пронин. Согласно новым обычаям пижама как раз и выполняла функции домашнего халата. Именно в ней, пользуясь правом простуженного, он и приготовился встречать дорогого гостя.
– Слушаюсь. Я только вам, Иван Николаевич, молока вскипячу. Вы опять в нос говорите. Агаша, судя по ароматам, чем-то таким вкусным занята, что ей не отвлечься, так что я сам.
Пронин благосклонно кивает.
– И это – газеты, рюмки – убери. Порядок должен быть. Не то писатель еще подумает о нас черт те что. – Пронин двумя руками берет рюмку, нюхает ее, ни разу не пригубив, заедает лимоном, протягивает Железнову, показывая, чтобы тот поставил ее подальше, на стол. – Напишет, что мы морально разложились под влиянием коварного врага, с которым много лет соприкасались по долгу службы. Да, а что? Говорят, в соответствующих условиях и нержавейка ржавеет.
– Да что вы, Иван Николаевич, никто и ничего… такого плохого о вас не подумает, тем более писатель Овалов.
– Почему ты так в этом уверен?
– Ну как же. Вы делом, всей своей жизнью доказали…
– Пока еще не всей жизнью, я надеюсь.
– Ну да, конечно же, не всей… То есть я хотел сказать, что еще не всей… Гм. У вас безупречный послужной список, награды…
– У врага народа Блюхера тоже были награды. И послужной список, упиравшийся чуть не в знакомство с Емельяном Пугачевым.
– Иван Николаевич, товарищ майор…
– Да вот, Иван Николаевич. Ты газетки-то не запихивай, ты их шпагатиком перевяжи и поближе к багажничку своего велосипеда отнеси, чтобы не забыть по запарке… Вот так, молодец.
Понимаешь, Виктор, не бывает ничего незыблемого, тем более безупречного и несомненного, ни в хорошем, ни в плохом. Вот ты знаешь, например, почему последнего нашего царя, Николашку, Кровавым прозвали?
– За то, что он угнетал рабочий класс, трудовое крестьянство, расстреливал демонстрации, вешал революционеров…
– Да, и на каторге их гноил, все правильно. Не сам, естественно, с помощью сатрапов. А было ли в нем что-нибудь хорошее? Вот неужели совсем-совсем ничего? Ну-ка, что ты, советский офицер, чекист, член ВКП(б), можешь сказать хорошее о Николае Кровавом?
– Ничего абсолютно. Только плохое.
– Да? А то, что он жену и детей любил, – разве это плохое?
– Ну и что? А сами-то они кто были? Особенно его жена-шпионка?
– Ты так считаешь? Хорошо. За бдительность – пять с плюсом. А если я прикажу? Считай, что это служебный приказ: найти и доложить немедленно, что хорошего для прогрессивного человечества сделал господин Романов, по прозвищу Николай Второй, он же государь всея Руси, он же Ники, он же Кровавый?
Виктор тяжело задумался. Даже здесь, где его могут слышать только Иван Николаевич да Агаша, не хотелось рассуждать на подобные темы… Проклятые темы… А Иван Николаевич, как нарочно, то и дело заводит с ним аналогичные… провокационные разговорчики. Проверяет, что ли? Так это напрасно: он, Виктор, еще мальчишкой, еще с девятнадцатого года, бок о бок с Иваном Николаевичем, который ему второй отец, всей жизнью доказал… Ой, еще не всей, далеко не всей…
– Ну… своей неумной деятельностью по управлению, а точнее разграблению России, продажи ее богатств и недр французским и немецким капиталистам, он невольно способствовал развитию благоприятной ситуации для победы Февральской, а впоследствии настоящей, Октябрьской революции…
– Да. Молодец, умеешь думать, как припрет. Но главный его вклад в культуру европейской цивилизации, Виктор, это то, что именно Николай Второй придумал закусывать коньяк лимончиком. До него это считалось дурным тоном, низкопробным флотским шиком.
Капитан Железнов с облегчением рассмеялся, усмехнулся и Пронин.
– А что, он тоже коньяк любил? Преподаватель наш по истории партии говорил, что он был потомственный алкоголик и пил только водку, как и его отец, Александр…
– Александр Третий, – подхватил Пронин. – Что значит «тоже любил»?
– Ну, вы же любите коньяк? В смысле хороший, пятизвездочный?
– Я люблю коньяк? Вот уж нет. Мне в коньяке нравится только вкус и запах. Ну еще цвет, если его налить в хороший бокал и рассматривать напротив лампы. И то, что после него сердцу весело, а голова не болит. А так, в целом, он мне не нравится вовсе.
– Хорошо, но если вам в коньяке нравится вкус, цвет, запах и как он по шарам стучит, то что тогда вы имеете в виду, когда говорите, что в целом он вам не нра…
И тут наши собеседники услышали вопли Агаши:
– Иван Николаич, гость пришел! Лев Сергеевич Овалов, как вы и предупредили. Батюшки светы! Стол-то! Окно пора закрывать. Как вы себе хотите, а я закрою, да еще врачу на вас нажалуюсь!
Сквозь раскрытые окна было видно, что дождь, набравший было ливневую силу, стихает; дожди в Москве на исходе мая редко бывают продолжительными, но зато уж если разыграются – поливают от души, при хорошем ветре никакой зонт не спасет… Вот и в пронинском кабинете письменный стол, стоящий у окна, залит водой: ветром в окно нанесло дождя на изрядную лужу. Стол, как всегда, почти пуст, если не считать настольной лампы и двух изящных бронзовых бюстиков: Пушкина и Сталина, которые повернуты друг к другу, словно играют в гляделки. Рядом с кожаным диваном, братом-близнецом того, который мы уже видели в гостиной, скромно высится книжный шкаф, битком набитый какими-то здоровенными, старинного образца книгами. Над диваном висит туркменский ковер, украшенный чуть изогнутой японской саблей в ножнах, старинными пистолетами с раструбами и коротким кривым кинжалом. На стене возле двери на широкой розовой ленте висит и еле заметно покачивается от сквозняка гитара. Пронин утверждает, что не умеет играть, но очень ею дорожит, потому что гитара эта – подарок великого музыканта-гитариста Иванова-Крамского. И не просто подарок, а благодарность за одно давнее и щекотливое дельце. Зато Виктор Железнов играет хорошо, но дома обычно некогда или не до этого, а у Пронина тоже не всегда поиграешь. А гитара мировая! Виктор без зависти не может ни смотреть на нее, ни в руки брать.
Все это – книги, оружие, инструменты – домашний мир майора Пронина, напоминающий о прежних делах. Иванову-Крамскому он помог чисто случайно, «не по профилю», а японскую саблю-катану, подарок монгольских товарищей, привез с Дальнего Востока несколько лет тому назад, когда в теплой компании проводил внеочередной отпуск на озере Хасан. Теперь вот еще патефон появился… Пронин любит одиночество, но сейчас ему нравится вся эта безобидная суматоха вокруг его болезни. Однако звонок в дверь прерывает и суету, и элегические думы Пронина. Агаша с подчеркнутой любезностью впускает гостя в холл. Худощавый молодой человек в добротном шевиотовом костюме, с фибровым чемоданчиком, слушает вводную информацию от Агаши. Агаша никогда не даст промашки со своей словоохотливостью, где надо молчать – клещами слова не вытащишь. По долгу службы она должна бы сообщать в один из отделов управления обо всем, что входит в сферу ее внимания, например, о домашней жизни майора Пронина, о его привычках, хороших и вредных, о его знакомствах… Она вроде как и сообщает, не отказывается, но куратор ее, майор Гуридзе Ираклий Семенович, давно уже махнул на нее рукой. «Что, партизанка, опять ничего нового? Ну, перепиши прошлый рапорт и гуляй, смотри число не перепутай». Не простым майором был товарищ Пронин. Не простым, а авторитетным. Такому майору и комдивы честь отдавали да животы втягивали.
Лев Сергеевич не хуже любого офицера понимает, что можно, а чего нельзя, и Агаша ему доверяет. Иногда, в полночь-заполночь, когда уже и сам Иван Николаевич угомонится, достанет Агаша книжку с полки, развернет и про саму себя прочитает… Слезы, глупые, ни с того ни с сего сразу же и польются. И нет ничего такого, а все равно: стоит Агаше взять книгу в руки – а слезы тут как тут… И с чего бы… Нет, Агаша доверяет Льву Сергеевичу, считает своим и тихо гордится личным знакомством со знаменитостью, с настоящим писателем.
– Болен он. Но вас ждет. С патефоном в обнимку. Как? Во-во, эта самая блю и есть, с самого утра одну ее, бесстыжую, и слушаем. Вот вам тапочки, переодевайтесь. А хотите – так идите, в своей обувке, все равно я мыть собиралась… Это еще что такое? – Последняя фраза относится к шуму, доносящемуся с кухни. Из кухни выбегает растрепанный Железнов с дымящейся железной кружкой в руках.