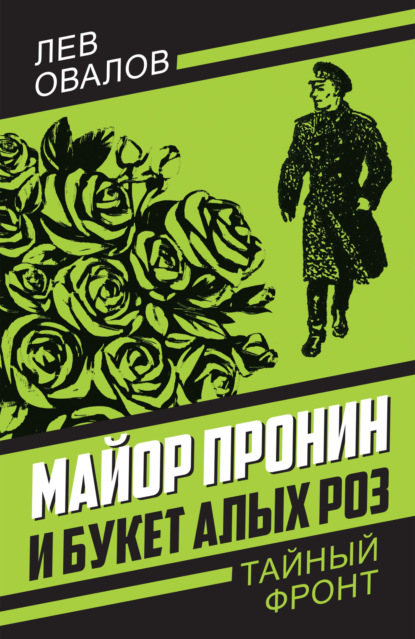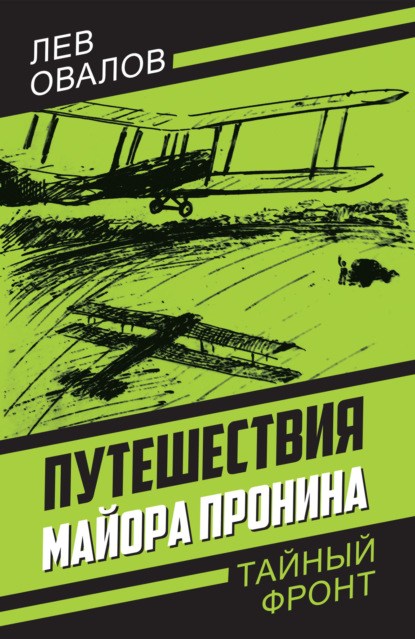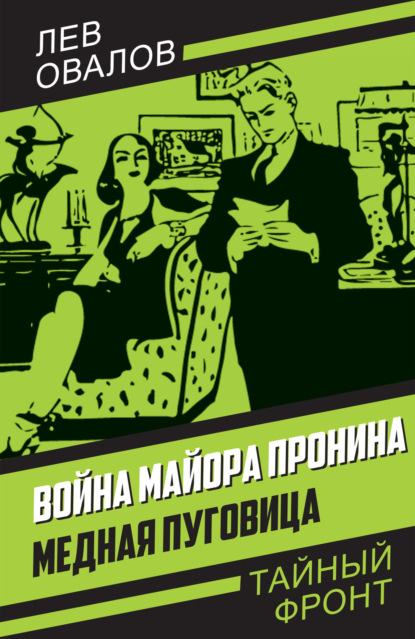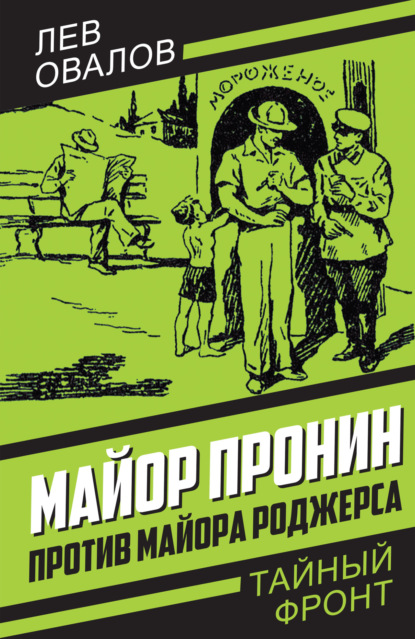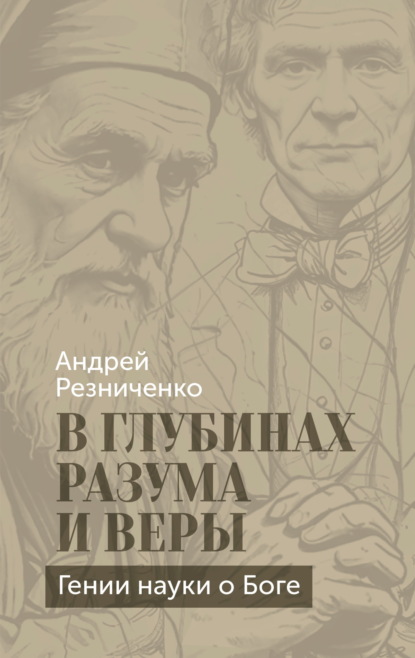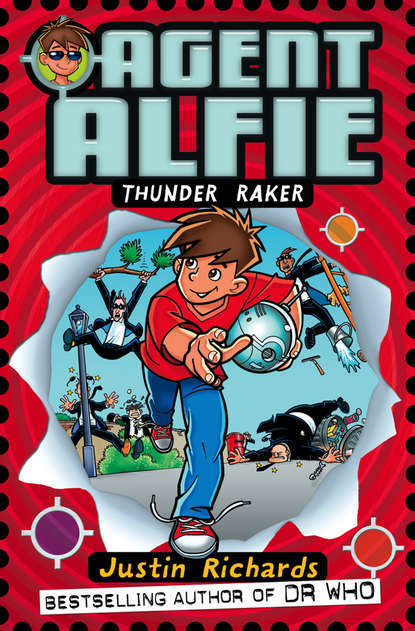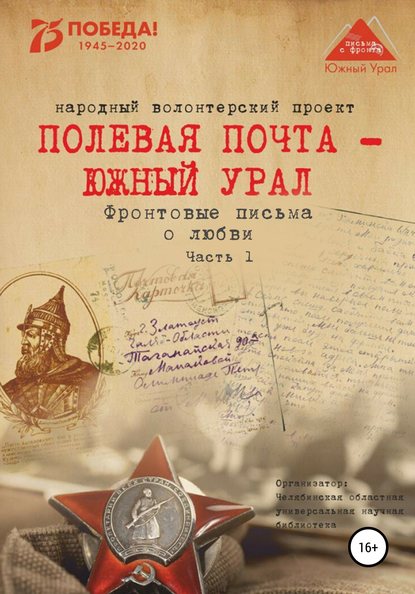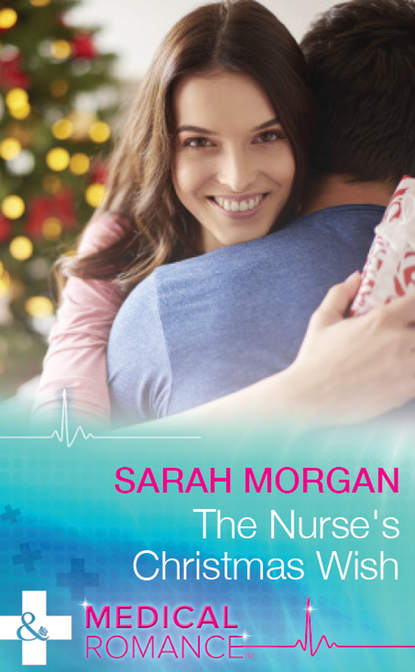Танго для майора Пронина
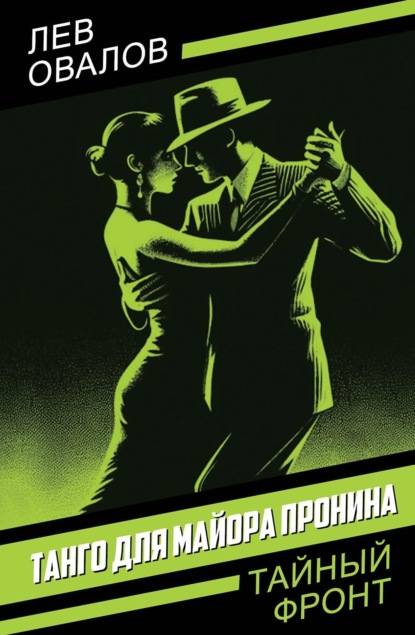
- -
- 100%
- +


© Овалов Л. С., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
Глава 1. Коммунальная империя
Это было время предвоенного расцвета Сталинской Империи с ее величавым стилем дубовых кабинетов и черных «молотовских» кожаных кресел, в которых можно было утонуть.
Страна победившего социализма успешно провела коллективизацию сельского хозяйства, первые две индустриальные пятилетки были выполнены досрочно. Ширилось стахановское движение, рабочий класс – класс-гегемон – был полон энтузиазма и веры в светлое будущее. Молодежь увлекалась физкультурой, и многочисленные парады демонстрировали крепкие, ловкие и здоровые тела зодчих победившего социализма. Впрочем, хотя страна эта занимала только шестую часть суши, но задора и веры в окончательную и бесповоротную победу самого справедливого мироустройства хватило бы на два земных шара.
Удивительные рекорды первых пятилеток становились нормой. Металлургические гиганты, шахты-рекордсмены, великие каналы, соединяющие в единую сеть моря и океаны, крупнейшие в мире заводы – тракторные, машиностроительные, химические… Газеты не успевали оповещать население о начале новых строек и досрочном окончании начатых еще недавно. Могло ли все это происходить, если бы новый строй не отвечал надеждам и чаяниям людей, если бы не был он самым справедливым и верным? А кому не нравилась наступавшая действительность – уж извините, с теми не церемонились. Где пряник сладок, там и кнут крепок. Врагов хватало и вокруг осажденной крепости, и в гарнизоне. Чем большей силой наливались стальные мышцы социалистической Родины – тем острее становилась классовая борьба. Верность этих сталинских слов Пронин и сотрудники его отдела каждый день подтверждали на собственном опыте.
А как раздалась ввысь и вширь Москва – столица первого в мире государства рабочих и крестьян! Как изменился ее облик, внутренний и внешний! Старая купеческая Москва с кривыми переулками и двухэтажными домами вдруг превратилась в Москву Новую – город величественных правительственных зданий, солидных торговых, научных и учебных учреждений, многоэтажек новых районов, широких проспектов и просторных площадей, парков отдыха, стадионов и кинотеатров… Настоящей красавицей становилась Москва, справившись с предреволюционным безвременьем и послереволюционной разрухой.
К величавым подъездам правительственных учреждений, тихо шурша шинами, подъезжали черные блестящие автомобили. Величественные люди с достоинством шагали по мраморным лестницам, дубовым паркетам коридоров и входили в просторные кабинеты. Из кабинета в кабинет бегали расторопные курьеры и секретари, передавая важнейшие государственные решения. В кабинетах, обставленных тяжелой мебелью, на громадных столах стояло множество телефонов. И один из них напрямую соединял большинство подобных кабинетов с небольшой комнатой в Московском Кремле. Комнатой Хозяина. Скромной, как сам вождь всего прогрессивного человечества.
А в старых московских дворах, на Арбате и Сретенке, звучала легкомысленная привозная музыка, которую выносили на улицу вместе с патефоном в эти теплые утренние часы ранней осени… Люди переговаривались друг с другом через открытые настежь окна, мамаши следили за играющими во дворах детьми, а бабушки – за внуками. Подростки разливистым свистом вызывали своих друзей и подруг на улицу. А вечерами сообща справлялись во дворах дни рожденья, свадьбы и рождения детей. И снова звучала патефонная музыка, кружились пары… Танцы коммунального братства прерывались только грозными хоровыми песнопениями, которые транслировало радио. Будущий краснознаменный хор пел о бдительности. И, глядя на спокойное, доверчивое течение жизни московских дворов, думалось, что бдительность отнюдь не излишняя мера, чтобы сохранить мирную жизнь москвичей.
Только долго ли еще продолжаться этой мирной жизни? Европа вновь погрузилась в пучину новой всемирной бойни. Несколько дней назад гитлеровские войска вторглись в Польшу. Произошло это в тот день, когда советские дети в первый раз после летних каникул пошли в свои школы. С букетами цветов в руках, радостные и взволнованные. А в этот самый час германские бомбардировщики уже бомбили польские города. Огнедышащий молох войны неуклонно приближался к границам Советского государства.
Майора ГПУ Ивана Николаевича Пронина как истинного профессионального контрразведчика, слегка раздражал истерический разгул шпиономании в газетах, в рабочих коллективах, в партийных первичках… Пик этой истерии пришелся на 1937 год, время всенародных процессов над партийными предателями. Как выяснилось, шпионами могли быть самые высшие чины государства. Что же говорить о чинах низших! В последнее же время чистки обрушились на военных и органы государственной безопасности. Только и слышно было о новых разоблачениях.
Правда, информация о разоблачениях в учреждении, где работал Пронин, редко оказывалась на страницах центральных газет. Здесь люди просто пропадали, навсегда исчезали из жизни и, казалось, даже из памяти других людей.
Немало товарищей Пронина попало в жернова этой мельницы, перемалывающей молодое советское общество. Кого-то Пронину удалось спасти, кого-то нет. Кого-то банально подвела анкета, кого-то ошибки, совершенные в бурные революционные годы.
А кто-то пал жертвой зависти, чужого недоброжелательства.
В 1938 году словно чумной мор пронесся над Разведуправлением РККА. Под дело Берзина попали начальник управления Семен Петрович Урицкий и его заместитель Никонов. Был расстрелян как враг народа умница, честнейший и преданнейший коммунист Оскар Ансонович Стигга. Пронин отлично знал этого латыша, возглавлявшего в Разведуправлении РККА отдел по работе с Западной Европой. Рядовые военные разведчики не избегли участи своих руководителей. Правда, новый начальник Управления Проскуряков держался молодцом. Продолжал работать, спорил с партийными лидерами, спасал своих людей от слишком ретивых гэпэушников… Пронин наблюдал за действиями прямолинейного Проскурякова с тревогой – не простят ему этого…
Чистка 1939 года уже изрядно опустошила кадры органов юстиции: судьи, прокуроры, ведь в первую очередь «в расход» шли члены пресловутых троек 37-го…
Так или иначе, но страх стал неотъемлемой частью жизни советских людей, особенно людей, имеющих вес, положение и власть. А работать в атмосфере страха Пронину было очень тяжело. Благо бы боялись только враги, тогда особые меры можно было бы и оправдать. Но страх пронизывал и друзей, людей честных и безупречных. Не радовало это Пронина. Да и сам он не раз оказывался в опасной близости от той черты, за которой советского человека ждали самые неприятные последствия. Какие – не стоит и напоминать…
Пронин сидел в своем уютном домашнем кабинете на Кузнецком Мосту и читал утренние газеты. В окне по нежно-синему сентябрьскому небу плыли облака, освещаемые утренним солнцем. Маленький бронзовый Пушкин, казалось, праздновал приход своей любимой осени, мечтательно улыбаясь со стола майору ГПУ. Пронин поставил на стол стакан душистого чаю и перевернул страницу центрального печатного органа партии – газеты «Правда».
Итак, статья Мануильского «О капиталистическом окружении СССР».
«Доказано, как дважды два четыре, что буржуазные государства засылают друг другу в тыл диверсантов, а иногда и убийц, дают им задание внедриться в учреждения и предприятия этих государств, создать там свою сеть и в случае необходимости – взорвать их тылы, чтобы ослабить их и подорвать их мощь… Есть все основания, с точки зрения марксизма, предположить, как говорил в своем докладе товарищ Сталин, что в „тылы Советского Союза буржуазные государства должны засылать вдвое и втрое больше вредителей, шпионов, диверсантов и убийц, чем в тылы любого буржуазного государства“.
Совершенно ясно, что иностранные разведки, так называемые „вторые отделы“ генеральных штабов, применяют особенно изощренные и коварные приемы разведывательной работы в нашей стране, стране победившего социализма, по отношению к которой капиталистический мир полон самой дикой злобы и ненависти…
Как же случилось, что как раз за последнее время мы стали забывать о капиталистическом окружении?
Причина этого кроется в том, что под влиянием больших успехов социалистического строительства мы стали приуменьшать силы капиталистического окружения и недооценивали его возможности пакостить и вредить нам…»
«Так уж и недооценивали?» – невесело усмехнулся Пронин, вспомнив количество последних процессов. Он перелистнул страницу и снова наткнулся на статью о шпионах.
С. Уранов. О некоторых коварных приемах вербовочной работы иностранных разведок.
«Шпионаж, вредительство, диверсия являются испытанными средствами в арсенале буржуазных государств. Причем средства эти употребляются не только для борьбы с вероятными противниками, но и с так называемыми дружественными государствами.
Засылая своих шпионов к нам, стремясь внедрить своих людей в важнейшие кабинеты государства, наши враги не ограничиваются этим. Они прилагают все усилия к тому, чтобы вовлечь в свои шпионские сети неполноценные и неустойчивые элементы из граждан Советского Союза; стремятся опутать их своей шпионской паутиной, толкают их на путь измены Родине, действуя шантажом, подкупом, обманом, угрозами, заставляя служить делу врагов Советского Союза.
Необходимо помнить, что шпион, диверсант, вредитель опасен тем, что, прикрываясь личиной „своего“ человека, он проникает в наши ряды, использовывает (именно это слово Пронин не без удивления прочитал в центральном органе ВКП(б)) нашу беспечность и легковерие, для того, чтобы, выполняя приказ своих хозяев, нанести удар в спину, погубить массу советских людей, вызвать несчастья и бедствия…
Иностранные разведки стремятся различными способами перебросить на чужую территорию свои подготовленные кадры шпионов. Эти кадры проходят тщательную подготовку у себя дома и уже подготовленными направляются в интересующую разведку страну… В польской разведке, например, для агентов, готовящихся к работе в СССР, существуют специальные „рекомендательные списки-минимум“ литературы, которую шпион должен обязательно прочитать и уметь толковать в духе советской критики. В эти списки входят такие книги, как „Поднятая целина“ Шолохова, „Чапаев“ Фурманова, „Как закалялась сталь“ Николая Островского… В последнее время польских лазутчиков заставляют изучать также новую советскую Конституцию, историю партии, материалы по стахановскому движению…»
Пронин улыбнулся, представив себе учебный класс, скажем, британской разведшколы, в котором проходит разбор великого произведения Николая Островского «Как закалялась сталь». Бескорыстный труд на благо народа, боевой и трудовой героизм, нравственная чистота комсомольцев – как далеко это все от устоявшейся веками чопорной буржуазности подданных Ее Величества.
Пронин вернулся к чтению статьи. Далее приводились конкретные факты вербовки советских людей.
«Для того чтобы ближе и интимнее сойтись с человеком, намеченным к вербовке, шпионы практикуют различные способы. Нередко, когда хозяйственник едет в командировку или на курорт, его в вагоне „узнает“ обрадованный неожиданной встречей вербовщик, который, оказывается, имеет общих знакомых и т. п. В процессе пути вербовщик прощупывает со всех сторон свою жертву, улавливает слабые места и начинает плести свою паутину. Нередко с этой же целью используются встречи на курорте, где времени излишек, где имеются возможности прогулок, где легко сходятся, особенно с интересными и услужливыми людьми… Известен ряд случаев, когда шпионы-вербовщики начинали действовать через жен. Эти жены, соблазненные какими-то подарками, порой весьма ценными, проявляли повышенный интерес к работе своих мужей, выведывали их служебные секреты и докладывали их своим щедрым „поклонникам“…
Известны также и другие случаи, когда вражеские агенты вовлекали в свои сети людей, приехавших за границу, пользуясь их моральной неустойчивостью. Так, один из вербовщиков, выдавая себя за состоятельного человека, часто приглашал советского гражданина „Т“ на различные зрелища – в театры, увеселительные места, шантаны, кабаре и тому подобные заведения. При этом иностранец всегда искал случая самому расплатиться за все развлечения, которыми он пользовался вместе с „Т“. Таким образом, „Т“ стал систематически проводить время со своим щедрым знакомым, посещал различные злачные места, втянулся в веселую жизнь. Но в одно прекрасное время „благодетель“ сообщил „Т“, что обанкротился и что с него требуют немедленной уплаты по счетам, поэтому он просит „Т“ возместить ему все произведенные на того расходы по совместным кутежам. Когда „Т“ услышал требуемую с него сумму, он обомлел, потому что никогда таких денег вместе с иностранцем не тратил. Но иностранец настаивал на немедленном возмещении произведенных расходов. Естественно, его собутыльник, „Т“, не мог достать такой суммы, и тогда ему поступило предложение, которое могло спасти обоих: необходимо, чтобы „Т“ делал скромные отчеты о своей работе одному очень солидному человеку, который из этой информации может извлечь коммерческую пользу. Когда „Т“ отказался, его „приятель“ стал угрожать ему тем, что немедленно сообщит начальству „Т“ обо всех их совместных похождениях, попойках, на которых „Т“ якобы уже разболтал много секретных данных. „Не лучше ли вам дать нам эту безвредную информацию, – заявил шпион, – чем рисковать вашим добрым именем, а может быть, даже и жизнью, а также полным разрушением своей семьи, так как ваша жена не простит вам ваших безнравственных похождений“. Не найдя в себе мужества признаться перед товарищами в своем недопустимом поведении, „Т“ дал подписку давать просимые сведения, получив взамен расписку от своего зарубежного знакомого в том, что он обязывается не требовать с него никаких денег и не шантажировать его. Кончил же „Т“ тем, что пытался по требованию своих новых хозяев стащить секретный документ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности».
Пронин с интересом прочитал трагическую историю советского гражданина «Т». Таких он, в принципе, сам знавал, да и вербовал тоже… Разгульная ночная жизнь почему-то всегда притягивала советских людей.
«На самом же деле каждый честный советский гражданин имеет возможность отвести от себя грязные шпионские поползновения, освободиться от опутывающей его паутины и принести пользу своей родине, разоблачив назойливо пристающих шпионов. Для этого следует только понять, что всякое допущение ошибки или проступка, даже тяжелого преступления, если их признать, не скрывать, довести до сведения Советской власти, составляет менее тяжелую вину, чем секретный сговор с врагом родины и выполнение шпионских заданий.
Следует всегда иметь в виду, что человек, вставший на путь сговора с иностранной разведкой, больше уже никогда не располагает собой: постепенно, начиная с невинных поручений, его заставляют стать сначала шпионом, а потом потребуют безропотного выполнения диверсий и террористических актов. Стоит только подать шпиону палец, как он завладевает всей жертвой до конца и сделает из ранее честного человека предателя и убийцу».
Следующий разворот «Правды» снова содержал статью о шпионах.
Отто Винд. «Германская тайная военная разведка». Это уже совсем интересно! И что пишет наш товарищ немецкий коммунист?
«Бешеная подготовка Германии к войне сопровождалась небывалым усилением деятельности германской тайной (агентурной) разведки.
Для более полного выявления методов работы германской разведки необходимо знать классификацию агентов немецкой разведки. Мы встречаем следующие названия агентов:
Агенты-резиденты мирного или военного времени. Они внедряются в разведываемую страну под каким-либо прикрытием делового порядка (например, под маской коммерсантов, специалистов, лиц свободной профессии, артистов и артисток, лиц духовного звания и т. п.). Агенты-резиденты мирного и военного времени рекрутируются как из подданных Германии, так и, частично, из подданных разведываемых стран.
Агенты-наблюдатели. По всем данным, эта порода шпионов будет иметь самое широкое применение в военное время. Их задача – вести наблюдение за каким-либо порученным объектом или районом для разведывания, сообщать о подслушанных секретах, выболтанных кем-либо государственных тайнах и т. д.
Агенты-осведомители, агенты-источники. Это – лица, завербованные германской разведкой, изменники своей родины, использующие свое служебное положение для добывания сведений в пользу врага или занимающиеся кражей секретных документов.
Агенты-вербовщики – лица, которые по своему общественному положению и личным связям в обществе способны заниматься вербовкой новых агентов для германской разведки.
Агенты-наводчики. Непосредственной вербовкой они не занимаются, но дают указания („наводки“) разведке на людей, которые по тем или иным причинам могут согласиться работать на германскую разведку. Их обязанностью является сообщать разведывательному центру обо всех элементах, враждебно настроенных к существующей государственной власти, недовольных, имеющих тайные пороки, скрываемые проступки или преступления и боящихся разоблачений и компрометации, о всяких азартных игроках, развратниках и пьяницах, запутавшихся в связях с порочными элементами, замешанных в темных делах, морально неустойчивых, любящих широко пожить, жадных до денег и легкой наживы, увлекающихся женщинами, легковерных болтунах, казнокрадах и, наконец, готовых добровольно продать свою страну и предложить себя к услугам германской разведки…»
На этом месте майор Пронин перевел дух и, закрыв газетный номер, внимательно посмотрел на первую страницу «Правды». Погладив пальцем закругленный шрифт заголовка, он вернулся к творению Виндта.
Далее статья говорила об агентах для связи и маршрутных агентах, однако сочная фраза, касающаяся объектов вербовки, перекрыла все остальное.
Пронин снова перечитал эту краткую энциклопедию человеческих пороков. В его тихой квартире, продуваемой утренними ветерками, эти леденящие кровь истории воспринимались как что-то экзотическое и далекое. Здесь, окруженный заботой вездесущей Агаши, Пронин отдыхал от забот. Сейчас Агаша принесет дымящийся самовар, который она ухитрялась растапливать на кухонном подоконнике. Из кухни уже слышался запах жареных пирожков – с мясом и визигой. Иван Николаевич смотрел в одну точку, найдя ее в хитросплетении узоров текинского ковра.
Глава 2. Шпион гуляет на свободе

Майор Пронин
Пронин отложил газету и задумался. Да… Казнокрады, развратники, подонки, картежники, пьяницы, женолюбы, болтуны, кутилы… Лучше бы их душами занимались священники…
А настоящий враг в этой странно-репрессивной суматохе, как скользкая щука, ускользает из сетей… Настоящий-то враг, он хитер. И умен. Очень умен. В отличие от многочисленных мнимых шпионов, ему прекрасно известно, кто он, зачем он находится в этой стране и что ему надо делать, чтобы не стать участником шпионского процесса. И как же сложно выловить этого настоящего врага, когда все готовы поставить на место виноватого первого попавшегося под горячую руку.
Майор повертел в руках пустой стакан с приставшей ко дну лимонной долькой и поставил его на стол. Мысли уносили его в прошлое, недалекое и незабываемое прошлое.
Своего самого умного противника майор Пронин знал по фамилии – Роджерс. Только где его искать? Исчез Роджерс, растворился в советской действительности, как кривая береза в затуманенном утреннем лесу. Пронин вспоминал подробности последней встречи с Винстоном Роджерсом в конце тридцать шестого года. Сколько лет прошло с тех пор, сколько событий произошло! А последняя встреча с Роджерсом стоит перед глазами Пронина, словно это было вчера.
После разоблачения инженера-диверсанта Губинского на Крутогорской шахте[1] Пронин был уверен, что Роджерс надолго затаится. Все же в руках контрразведчиков оказались и его фотографии, и свидетели, которые могли подтвердить его личность. Однако…
Дело было теплой зимой 36-го. Практически все время Пронин проводил дома, лишь иногда выезжая на дачу в Завидово, где часами бродил по лесу или, когда снег уже улежался, катался на лыжах в компании с Железновым. Но на самой даче он почему-то не находил себе места. Здесь все казалось ему большим, громоздким, каким-то очень казенным, и поэтому неуютным. Здесь ему не работалось, не думалось. Дорогая мебель мореного дуба, льняное белье, дорогой немецкий радиоприемник «Telefunken» – здесь Пронина окружал комфорт. Недавно был проведен полный ремонт, и по чьей-то нелепой декораторской задумке все в доме стало белым – стены, потолок, пол. «Как в больнице», – часто думал Пронин. И бывал здесь все реже и реже, предпочитая в столь редко выпадавшие выходные дни, которые недолюбливал за их праздность, отсиживаться дома.
Вот и этот конец недели решил провести у себя. Только что ушел Виктор. На столе стояла темно-зеленая бутылка с остатками багрового «Кинзмараули», в тарелках – едва тронутая закуска: сыр, сервелат, тонко нарезанные ломтики балыка. Пронин меланхолично смотрел в окно. В его розовой раме набухал фиолет теплого декабрьского вечера, который слегка подсвечивали хлопья неспешно падающего снега. Перед майором на стуле лежал небольшой деревянный ящик с предметами его давнего увлечения. Майор коллекционировал охотничьи ножи – в ящике их было штук тридцать. Он брал каждый нож, крепко сжимал его рукоятку и, подняв на свет, смотрел, как играет на лезвии отблеск света.
Пронин любил эти простые незамысловатые предметы, в которых удивительным образом холод жесткой стали сочетался с мягким теплом деревянной рукояти. Ножи были самые разные. Тут были и ножи дорогие, сделанные профессионалами, и ножи простенькие, сработанные на скорую руку людьми неискушенными, но с неменьшим тщанием и заботой об их пригодности. Был тут нож с резной рукоятью и инкрустацией из серебра и нож с ручкой из самшита, ножи из дуба, бука и вишни, вот нож с рукоятью, сделанной из козлиной ножки с настоящим копытцем на конце, был тут и грузинский кинжал с широким прямым лезвием, и морской кортик, был даже страшный, совершенно бандитский тесак. С каждым ножом было связано какое-то воспоминание: вот нож с Урала, вот – с Волги, вот нож, сработанный сибирскими таежниками. Пронин подолгу держал каждый нож в руке и, глядя на падающий снег, о чем-то вспоминал.
Из этой ностальгической меланхолии Пронина внезапно вырвал звонок, ударивший в уши злым колючим треском.
– Алло. Пронин. Слушаю.
– Это Ковров.
Пронин сразу узнал сухой голос своего начальника отдела.
– …Иван Николаевич, зайди ко мне завтра в десять утра. Поедешь в командировку. Получишь предписание, командировочный лист, деньги.
– А что случилось, товарищ комиссар третьего ранга?
– Да ничего особенного, не волнуйся. Все завтра узнаешь. Не по телефону же мне тебе все объяснять.
– Да, хорошо, понял. До завтра.
– Бывай.
Пронин положил трубку. Закурил.
«Что бы это могло быть? Куда? Зачем? Непонятно. Да, действительно понедельник – день тяжелый».
Пронин поднял трубку телефона и автоматически набрал номер.
– Виктор?
– Да, Иван Николаевич.
– Слушай, Витя, мне сейчас Ковров позвонил, сказал, чтоб я в командировку собирался.
– А что случилось?
– Да не знаю, Витя, не знаю. Он ничего объяснять не стал. Ну, ты собирайся. И подходи завтра в отдел к десяти тридцати.
В восемь часов утра Пронин был уже на ногах. Сделал зарядку, принял душ, побрился и самолично, не тревожа Агашу, заварил себе крепкий кофе. И все это время, пока он готовился и приводил себя в форму, он не переставая думал: «Что же? Что же? Где? Что? Как? Туман, туман…»
В десять утра он уже был в кабинете Коврова.
– Да ты садись, садись. Ты какой-то бледный, – успокаивая Пронина, пригласил начальник отдела. – У тебя давление в норме?
Говорил Ковров очень быстро, практически скороговоркой.
– Да, все нормально, товарищ комиссар третьего ранга. Недавно прошел медкомиссию. Все в норме. Сердце как у быка, – бодро отрапортовал Пронин.
– Ну да, да, кто бы сомневался! Ну ладно. Давай, Иван Николаевич, к делу, – голос Коврова из дружелюбно-приветливого щебета трансформировался в протокольно-сухой стрекот. – Поедешь в Казань.
– В Казань? – недоуменно спросил майор.
– Да, в Казань, – подтвердил начальник, – ты в курсе, что там находится авиастроительный завод?
– Слышал.
– Ну вот. Вот, сейчас на Казанском авиазаводе запускается линия по выпуску новейших истребителей. Ну, ты понимаешь, какое острое неприятие вызывает этот факт у наших врагов. Ну и, естественно, они вставляют всевозможные палки в колеса. В общем, надо быть начеку. Чека всегда должно быть начеку, ха-ха, – рассмеялся своему немудреному каламбуру Ковров.