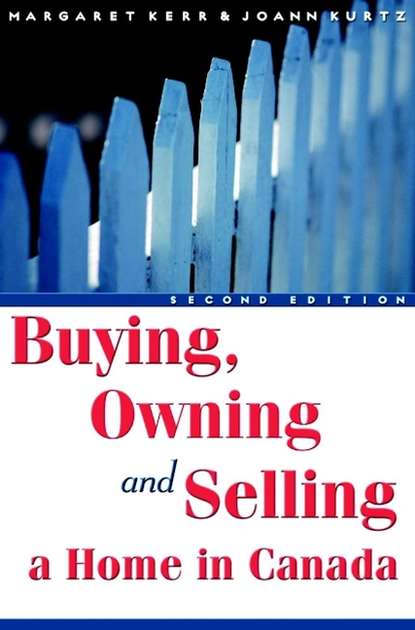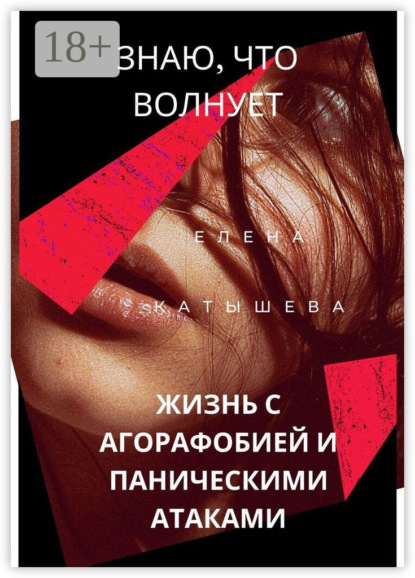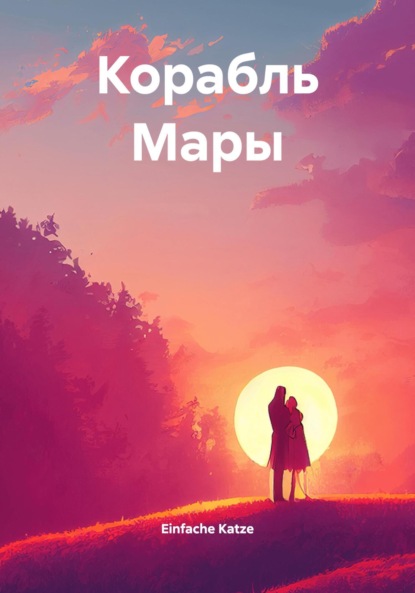- -
- 100%
- +
– Хорошо спала, – это был не вопрос, а утверждение.
Кира кивнула, хотя он и не видел. Села на своё обычное место, подтянув колени к груди.
– Шторм внутри тебя немного утих, – продолжил он, отрезая сухой листок. – Но затишье после бури – самое обманчивое время. Именно тогда на берег выбрасывает то, что всё это время скрывалось на дне.
Он всегда говорил так, загадками, притчами. Раньше это раздражало. Сегодня заинтриговало.
О чём он? О том парне? Он знает? Что-то видел?
Достала блокнот. Рука двигалась легче, чем вчера.
Я просто гуляла, – написала она.
Дед закончил с деревом, поставил ножницы на поднос и только потом повернулся к ней. Посмотрел не на блокнот, а в глаза. Его взгляд был острым, как лезвие его ножниц.
– Прогулки бывают разными, дитя. Иногда мы идём, чтобы найти что-то. А иногда – чтобы убедиться, что мы всё ещё способны идти. Какая была у тебя?
Вопрос повис в воздухе. Он видел её насквозь. Видел перемену в ней, эту трещину в её скорлупе. Не ругал за то, что она три дня пряталась. Не спрашивал, где была. Он хотел узнать, что с ней произошло.
Кира не знала, что ответить. Не могла написать: «Я встретила парня, чья музыка рассказала мне мою собственную историю, и он вернул мне мой блокнот, не сказав ни слова».
Она просто пожала плечами. Дед вздохнул. Не тяжело, а скорее с какой-то мудрой печалью.
– Хорошо. Раз ты не хочешь говорить, я заварю чай. Чай всегда говорит правду, если его правильно слушать.
Он ушёл в дом и вернулся с подносом для чайной церемонии. Сегодня всё было иначе. Обычно они сидели в полном молчании. Сейчас воздух был наполнен невысказанными вопросами. Кира наблюдала, как он омывает кипятком глиняный чайник, засыпает тёмные, скрученные листья, как первый, самый ароматный настой он выливает на стол, «угощая» чайных духов.
– Наше искусство, Инхва, похоже на этот чай, – сказал он, наполняя пиалы. – Можно просто залить листья кипятком и выпить горькую бурду, чтобы утолить жажду. А можно разбудить дух листа, раскрыть его суть, и тогда он расскажет тебе историю гор, где он вырос, и тумана, который его питал.
Пододвинул чашку к ней.
– Всё зависит от намерения, Кира. И от того, готов ли ты услышать ответ.
Она взяла пиалу. Сделала маленький глоток. Чай был крепким, горьковатым, с долгим, сладким послевкусием. Он согревал, прояснял мысли, намерение…
Посмотрела на деда. В его глазах не было осуждения. Только ожидание. Ждал, когда она будет готова.
Может, я готова? Может, этот парень, его музыка… это был знак?
Впервые за много лет страх перед её даром уступил место другому чувству. Желанию понять. Разобраться. Что это за сила живёт в ней и которую она так отчаянно пыталась похоронить?
Допила чай и поставила пиалу на столик.
Дед молча наблюдал за ней. Он тоже допил свой чай. Церемония была окончена. Обычно после этого он уходил в свою мастерскую, а она оставалась одна со своими мыслями.
Поднялся на ноги. Подошёл к двери, ведущей во двор. Но не пошёл дальше. Остановился в проёме, его тёмный силуэт чётко выделялся на фоне яркого утреннего солнца. Обернулся и посмотрел на неё. Во взгляде был вызов. И приглашение.
Затем сделал едва заметный жест головой в сторону двора. В сторону всегда запертого строения в дальнем углу сада.
Сердце Киры замерло, а потом забилось быстро, гулко, отбивая барабанную дробь в ушах.
Мастерская.
Место, куда ей было запрещено входить с самого детства. Запретная территория. Святилище её деда. Тайна, покрытая пылью и паутиной. Сколько раз она, будучи ребёнком, пыталась заглянуть в щели, подсмотреть, что он там делает? Сколько раз представляла себе, что скрывается за этой тяжёлой, окованной железом дверью?
Это было нарушение всех правил. Нарушение их негласного договора. Он приглашал её пересечь границу.
Почему? Почему сейчас?
Ответ был очевиден. Потому что что-то изменилось. Он почувствовал это так же ясно, как и она. Решил, что она готова.
Страх ледяной змеёй скользнул по позвоночнику. Страх перед неизвестностью, перед силой, что дремала в ней. Но любопытство оказалось сильнее. Желание получить ответы, узнать, кто она такая.
Медленно поднялась на ноги. Взгляд встретился с взглядом деда. В нём не было ни тепла, ни строгости. Только серьёзная, тяжёлая решимость.
Сделала первый шаг. Потом второй. Прошла мимо него, выйдя из тени веранды на залитый солнцем двор. Воздух тут же окутал жаром. Шла за ним по каменной дорожке, мимо его идеальных деревьев бонсай, мимо кустов гортензии с их огромными синими и фиолетовыми шапками.
Слышала скрип гравия под своими кедами, как поют птицы. Мир был полон звуков.
Они остановились перед дверью, она была старой, из тёмного, потрескавшегося дерева, скреплённого коваными железными полосами. На ней не было ручки. Только большой замок. Он достал ключ, который всегда носил на поясе, тяжёлый, ржавый и вставил в скважину.
Звук поворачивающегося ключа был громким, скрипучим, протестующим.
Дверь со стоном приоткрылась, выдыхая в лицо Кире прохладный, спертый воздух, пахнущий чем-то странным, смесью озона, как после грозы, старого металла и пыли веков.
Дед отступил в сторону, пропуская её вперёд.
– Добро пожаловать дитя, – тихо сказал он.
И она шагнула во тьму. Яркий, шумный мир остался за спиной. Единственным источником света был одинокий луч солнца, пробивавшийся сквозь щель под крышей. В этом луче, словно мириады крошечных звёзд, танцевали в водовороте пылинки.
Пока глаза привыкали к сумраку, дед прошёл мимо, его шаги были бесшумны даже здесь. Зажёг единственную лампу под низким потолком. Тёплый, желтоватый свет выхватил из темноты пространство, которое было одновременно и святилищем, и лабораторией, и складом забытых снов.
Это была не мастерская художника. Здесь не пахло скипидаром и льняным маслом. Вдоль стен тянулись высокие стеллажи, заставленные сотнями туго свёрнутых холстов, каждый из которых был аккуратно перевязан бечёвкой с прикреплённой к ней маленькой деревянной биркой. Некоторые свитки казались древними, их края истёрлись и потемнели от времени. Другие совсем новыми.
Это всё… звуки? – подумала Кира, чувствуя, как по спине пробежал холодок благоговейного ужаса. – Целая библиотека молчащих голосов.
Медленно пошла вдоль стеллажей, не решаясь ничего трогать. Взгляд упал на один из свитков, выбивавшийся из общего ряда. Он был небрежно связан, и его край немного развернулся. На перламутровой, чуть светящейся поверхности виднелась уродливая серая клякса, похожая на шрам. Движимая любопытством, Кира осторожно, кончиком пальца, коснулась её.
В тот же миг в голове раздался отвратительный, резкий скрежет. Звук статического разряда, шипение помех, словно кто-то пытался настроить радио на несуществующую волну. Отдёрнула руку, как от огня. Сердце заколотилось.
– Неудачная попытка, – раздался за её спиной голос деда. Он стоял у большого рабочего стола в центре комнаты. – Пытался запечатлеть звук тишины между ударами сердца. Слишком сложно. Тишина не любит, когда её пытаются поймать. Она сама ловит.
Кира перевела взгляд на рабочий стол, и её изумление стало ещё глубже. На нём не было ни палитры, ни баночек с красками. Вместо них в идеальном порядке, словно хирургические инструменты, лежали десятки странных предметов. Длинные, изящные стилусы из полированного серебра. Более тяжёлые, массивные резонаторы из тёплой, красноватой меди. Наборы крошечных камертонов всех размеров. Гладкие, отполированные жезлы из тёмного дерева. А в центре стола стояло несколько керамических сосудов, наполненных густой, переливающейся жидкостью, похожей на жидкий жемчуг.
Так вот чем он рисует… Не красками. Инструментами.
– Разные материалы – для разных звуков, – дед проследил за взглядом, легко читая её мысли. – Серебро – для высоких, чистых частот. Капли дождя, шёпот, звон колокольчика. Медь – для тёплых, средних тонов. Человеческий голос, музыка струнных инструментов. Дерево – для природных, живых звуков. Шелест листьев, треск огня, мурлыканье кота. – Он усмехнулся в усы. – Норан – очень сложный объект. Слишком много оттенков в его урчании.
Подошёл к столу.
– Но слова это лишь тень. Смотри.
Он не стал брать большой холст. Взял маленький, размером с ладонь, квадрат из натянутого на раму шёлка. Затем взял самый тонкий серебряный стилус и окунул его кончик в сосуд с перламутровым гелем. Гель послушно повис на кончике инструмента светящейся каплей.
Дед закрыл глаза. Его лицо стало абсолютно отрешённым, словно он покинул эту комнату и перенёсся куда-то далеко. Сделал глубокий вдох, а затем издал тихий, гортанный, почти неслышный напев, больше похожий на вибрацию. Прикоснулся стилусом к холсту.
И Кира увидела чудо.
Серебристые линии начали прорастать на перламутровой поверхности, как иней на холодном стекле. Они изгибались, сплетались, образуя идеальный, до мельчайших прожилок, листок бамбука с одной-единственной каплей росы на кончике. Всё это заняло не больше пяти секунд.
Открыл глаза, и протянул холст ей.
– Прикоснись.
Кира колебалась. Воспоминание о скрежете статики было ещё слишком свежим. Но любопытство пересилило. Протянула руку и осторожно, кончиком указательного пальца, дотронулась до нарисованной капли.
И мир взорвался звуком.
Услышала не просто падение капли, а натяжение воды, которое предшествовало падению. Как капля отрывается от листа, её свист в воздухе. Лопнувший пузырёк воздуха в момент удара о невидимую поверхность пруда, тихий, чистый плеск. Круги, расходящиеся по невидимой глади. Звук был настолько реальным, объёмным и живым, что она инстинктивно отдёрнула руку, оглядываясь в поисках источника. Но в мастерской была всё та же тишина.
Ты… – мысли пронеслись у неё в голове. – Ты записал его.
– Нет, – мягко сказал дед, забирая у неё холст, он услышал её мысли. – Записать значит скопировать. Мы не копируем. Мы переводим. С языка реальности на язык вечности. В этом и есть суть Инхва. Мы не художники, Кира. Мы библиотекари. Библиотекари звуков.
Поставил холст на полку.
– Чтобы это сделать, недостаточно просто помнить звук. Этого мало. Воспоминание это эхо, мёртвый слепок. Ты должна стать этим звуком. В тот момент, когда я касаюсь холста, я не старик. Я капля. Чувствую её вес, прохладу, короткий полёт и радость от слияния с водой.
Посмотрел на неё, и взгляд стал серьёзным.
– Внутри тебя не просто шум. Внутри тебя целый океан необузданных звуков. Твой страх, боль, вина. Они рвутся наружу, как тот ураган, что ты создала, когда была маленькой и случайно сломала мою любимую чайную чашку. Ты помнишь?
Кира вздрогнула. Она помнила. Ей было лет шесть. Разбила чашку, испугалась, что её накажут, и так отчаянно захотела, чтобы дед не заметил, что… Что из ниоткуда налетел порыв ветра, который распахнул окно и сбросил со стола свиток, отвлекая его внимание. Тогда это показалось ей чудом. Теперь понимала, это было первым проявлением её дара.
– Ты всю жизнь пыталась заткнуть этот океан, построить плотину из молчания, – продолжал он. – Но океан нельзя заткнуть. Чем крепче плотина, тем сильнее будет напор. Однажды она рухнет, сметая всё на своём пути. Есть лишь один способ. Не строить плотины. А научиться управлять течениями.
Он видел, как в её глазах борются страх и надежда. Она вспомнила вчерашний вечер. Музыку. Взгляд парня. Он не испугался её тишины. Он услышал в ней что-то своё.
Может, я смогу? Может, это не проклятие? Может, это просто… язык, на котором я ещё не умею говорить?
– Теперь твоя очередь, – сказал дед, словно услышав её мысли.
Подошёл к стеллажу и снял с него чистый, нетронутый холст, размером побольше, чем его собственный. Поставил на мольберт прямо перед ней. Затем вернулся к столу, но взял не изящный серебряный стилус, а простой, тяжёлый медный резонатор с рукояткой из гладкого тёмного дерева. Протянул его Кире.
– Медь для начинающих, – пояснил он. – Более стабильна. Прощает некоторые ошибки.
Инструмент был тяжелее, чем она ожидала. Тёплый, живой. Словно внутри него спал свой собственный, приглушённый звук.
Дед взял старую деревянную дощечку и кусок угля. Одним уверенным, каллиграфическим движением начертал на ней большой, красивый иероглиф:
雨– Дождь, – произнёс он. – Начни с простого. Вчера шёл дождь. Вспомни его. Нет. Не вспоминай. Стань им.
Отошёл в сторону, оставляя её одну перед этим ослепительно белым, пустым холстом.
Пустота. Чистый лист. Это всегда пугало её больше всего. Но сейчас к страху примешивалось что-то ещё. Азарт. Вызов. Крошечная, безумная надежда, что, возможно, впервые в жизни она сможет выплеснуть то, что творится у неё внутри, не разрушая, а созидая.
Сделала глубокий вдох, чувствуя, как пахнет сыростью и пылью. Подняла тяжёлый медный резонатор.
И приготовилась рисовать.
Дождь.
Кира закрыла глаза, пытаясь отогнать гул тревоги в ушах и сосредоточиться. Вчерашний дождь. Он был тихим, почти успокаивающим. Она сидела на веранде и смотрела, как тяжёлые, ленивые капли падают на большие листья камелии, как они собираются и срываются вниз, оставляя тёмные, влажные следы на сухой земле. Шум был мягким, убаюкивающим. Шуршание по черепичной крыше, глухие удары по деревянному настилу, редкие всплески в лужах.
Я это дождь, – приказала себе, пытаясь следовать совету деда. – Я прохлада. Покой. Я очищение.
Окунула кончик медного резонатора в перламутровый гель. Он повис на нём тяжёлой, переливающейся каплей. Сделала глубокий вдох, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце. Поднесла инструмент к холсту.
И в этот самый миг, в долю секунды до прикосновения, её подсознание взбунтовалось.
Тихий дождь? Покой? Очищение? Какая ложь! – прокричал голос у неё в голове. – Ты не покой. Ты хаос. Разрушение. Вспомни! Вспомни, что ты сделала!
Перед внутренним взором пронеслись не капли дождя, а осколки прошлого. Лицо Лены, искажённое ужасом. Мёртвый взгляд её родителей в разбитой машине. Все ошибки, вся её вина, ярость на саму себя за свою слабость и беспомощность. Всё это, что она так отчаянно пыталась похоронить под молчанием, прорвало плотину хрупкого самоконтроля. Рука дёрнулась. Резонатор с силой ткнулся в холст.
Она не рисовала. Кромсала. Не переводила звук. Изрыгала свою боль на эту нетронутую, чистую поверхность. Медный стержень метался по холсту, оставляя за собой не изящные линии, а рваные, гневные кляксы. Гель не ложился ровным слоем, а вздувался, темнел, чернел, превращаясь в уродливые, хаотичные сгустки, похожие на запекшуюся кровь. Не слышала ничего, кроме рёва в своей голове. Вкладывала в этот холст всё: свой беззвучный крик, непролитые слёзы, свой стыд, ненависть к миру, который сделал её такой.
Пришла в себя, когда рука онемела от напряжения. Резонатор выпал из пальцев и со звоном покатился по полу. Тяжело дышала, грудь вздымалась так, словно пробежала марафон. Перед глазами плясали тёмные пятна. Отшатнулась от мольберта, и спиной ударилась о холодный стеллаж.
Посмотрела на своё творение.
На холсте не было дождя. На нём был шрам. Уродливый, чёрный, пульсирующий шрам, рассекающий перламутровую поверхность от одного края до другого. Он выглядел как рана, нанесённая самой реальности.
– Что… что я наделала? – прошептала она, и впервые за много лет её губы сложились в слова, пусть почти и беззвучные.
Дед всё это время стоял в углу, молча наблюдая. Медленно подошёл. Его лицо было непроницаемым, как у древнего изваяния. Остановился перед картиной-шрамом. Он не выглядел рассерженным или разочарованным. В его глазах читалось что-то другое. Что-то похожее на… фатальное смирение. Словно ожидал именно этого.
– Ты сделала то, что должна была, – тихо сказал он. – Ты перестала лгать.
Он протянул руку к холсту.
Нет!– беззвучно крикнула Кира, инстинктивно пытаясь его остановить. – Не трогай!
Но он не послушал. Коснулся чёрной кляксы своими чуткими, сухими пальцами.
И мастерскую затопил рёв.
Это был вой урагана, запертого в маленькой комнате. Грохот грома, от которого задрожали стены. Оглушительный треск ломающихся вековых деревьев. И сквозь этот хаос, отчаянный, почти человеческий вой ветра, полный боли и ярости. Звуковая волна ударила по комнате с физической силой. Со стеллажей с дребезгом посыпались маленькие камертоны и инструменты. Одна из полок не выдержала и с грохотом рухнула, погребая под собой десятки бесценных свитков. Старая лампа под потолком дико раскачивалась, бросая по комнате мечущиеся, безумные тени.
Дед отдёрнул руку от холста, словно обжёгшись. Смотрел на своё дрожащее отражение в хаотичной, вибрирующей поверхности картины. Потом медленно, очень медленно, повернул голову и посмотрел на свою бледную, испуганную внучку, забившуюся в угол.
И в его глазах, впервые за всё время, Кира увидела не строгость, не мудрость и не печаль.
Она увидела первобытный, неподдельный страх.
Он боялся не картины. Он боялся её.
Глава 4: Отголоски шторма
Дед Чхве стоял посреди этого акустического пепелища. Его лицо было непроницаемым, как камень, но Кира видела, как дрожит кончик его седой бороды. Он смотрел не на неё, а на её творение, и в его взгляде не было ни гнева, ни разочарования. Только суеверный ужас, который она увидела в самом конце. Словно он смотрел на ядовитую змею, готовую к броску.
Скажи что-нибудь. Кричи. Ругай. Накажи меня. – беззвучно молила Кира. – Что угодно, только не молчи.
Она ждала приговора. Ждала слов, что она чудовище, ошибка природы. Ждала, что он выгонит, отречётся от неё. Любой удар был бы лучше этой мёртвой, звенящей тишины.
Дед медленно, как старик, которым он никогда не казался, обошёл опрокинутый стеллаж, поднял с пола несколько уцелевших инструментов. Затем подошёл к двери. Не смотря в её сторону, вышел из мастерской, оставив дверь открытой.
Кира, повинуясь инстинкту, поднялась на ватные ноги и пошла за ним. Вышла на залитый солнцем двор, который после мёртвой тишины мастерской показался оглушительно громким, птицы пели, ветер шелестел в листьях. Жизнь продолжалась.
Дед закрыл тяжёлую деревянную дверь. Вставил ключ в замок. Провернул.
Щелчок.
Как удар судейского молотка. Он не просто запер дверь, запечатал её дар. Он замуровал часть её души в этой тёмной, пахнущей страхом комнате.
Вынул ключ, и не оборачиваясь, прошёл мимо неё в дом. Ни слова. Ни взгляда. Ни единого жеста.
Это молчаливое, холодное отречение ранило сильнее, чем любой физический удар. Она не просто совершила ошибку. Осквернила его святилище.
Осталась одна посреди двора, под ярким, безразличным солнцем. За спиной запечатанная гробница её силы. Впереди дом, в котором ждёт стена молчаливого осуждения. Ей нужен был воздух, нужно бежать.
Лиам сидел на краю своей узкой, жёсткой кровати и смотрел в окно. Его съёмная комната над продуктовой лавкой аджуммы Ким была верхом аскетизма. Обшарпанные стены, скрипучий пол, одинокая лампочка под потолком. Единственным пятном роскоши, чужеродным артефактом из другой жизни, была гитара, стоявшая в углу. Gibson Hummingbird. Инструмент стоимостью в несколько тысяч долларов, который смотрелся в этой убогой конуре так же нелепо, как породистый скакун в крестьянской конюшне.
Он не думал о музыке.
Думал о ней. О той странной, молчаливой девушке. Вспоминал встречу на пляже. Как она сидела, заворожённая, и слушала его музыку. Вспоминал её взгляд, когда вернул блокнот, испуганный, но не сломленный. В нём было что-то ещё. Упрямство. И какая-то глубина, которая не вязалась с её образом потерянного ребёнка. И ещё вспоминал то странное ощущение на рынке. Провал. Словно на долю секунды из мира выключили звук.
Кто она такая? И почему рядом с ней мир кажется немного… неправильным?
Поддавшись внезапному, сиюминутному импульсу, открыл свой старый, побитый ноутбук. Он не включал его уже несколько недель. Избегал его как чумы. Потому что этот ноутбук был порталом в ад. В его прошлое.
Открыл браузер. Пальцы сами, на автомате, набрали в поисковой строке одно слово.
ASTRUMНа экране взорвалась вселенная глянца и фальши. Миллионы просмотров на YouTube. Клипы, где его собственное, до смешного юное лицо улыбалось выверенной, пустой улыбкой. Танцевальные движения, отточенные до бездушного автоматизма. Песни, которые он когда-то любил, а теперь ненавидел всей душой, потому что их аранжировки были выхолощены и отполированы до стерильного блеска бездушными продюсерами.
Он прокручивал страницу. Фан-сайты. Статьи. И бесконечные, ядовитые потоки комментариев.
«Мин-Джун, оппа, мы любим тебя! Возвращайся!»
«Он просто ленивый ублюдок, который не выдержал конкуренции».
«Надеюсь, он сдохнет. ASTRUM лучше без него».
«Я слышала, у него проблемы с наркотиками…»
Читал это с холодным, отстранённым любопытством, словно про покойника. Этот мальчик на экране, Кан Мин-Джун, был для него мёртв. Он похоронил его в тот день, когда ушёл, оставив на столе контракт, который стоил ему души.
Взгляд зацепился за заголовок статьи в одном из ведущих развлекательных порталов: «Эксклюзив: Чон Юн впервые о скандальном уходе Кан Мин-Джуна из ASTRUM».
Сердце пропустило удар. Нажал на ссылку.
На фотографии улыбался Юн. Его лучший друг. Его брат. Человек, с которым они вместе спали на полу в репетиционном зале, делили одну порцию рамёна на двоих и клялись, что всегда будут стоять друг за друга горой.
Лиам начал читать.
«…мы все были шокированы, – говорил Юн в интервью, и Лиам почти слышал его сочувствующий, бархатный голос. – Мин-Джун – невероятно талантливый парень, но… давление оказалось слишком сильным. Он просто… выгорел. Он начал отдаляться, пропускать репетиции. Мы пытались ему помочь, правда. Но он никого не слушал. Его уход был для нас ударом, но мы уважаем его решение. Я просто надеюсь, что он найдёт свой покой».
Лицемерие. Каждое слово было ложью, искусно завёрнутой в обёртку сочувствия. Не было никакого «выгорания». Был саботаж. Были «случайно» пропущенные звонки от продюсеров. Были «потерянные» демо-записи его новых песен. Слухи, которые Юн распускал за его спиной. Было предательство. Холодное, расчётливое, безжалостное.
Ты надеешься, я найду свой покой? – подумал Лиам, глядя в улыбающееся лицо на экране. – Ты ведь надеешься, что я сгнию в этой дыре и никогда больше не появлюсь на твоём горизонте, ублюдок.
Гнев поднялся в нём горячей, мутной волной. Он с такой силой захлопнул крышку ноутбука, что пластик жалобно треснул.
Этот мир. Этот глянцевый, лживый, пожирающий души мир. Яд.
Ему нужен был воздух, нужен звук. Настоящий. Честный. Звук, который смоет эту грязь.
Схватил гитару, перекинул через плечо. Ноги сами несли его туда, где можно было кричать, не раскрывая рта.
К морю.
Лиам шёл по пыльным улицам Соридо, не видя ничего вокруг. В ушах всё ещё звучал лживый, бархатный голос Чон Юна. Каждое слово, каждая фальшивая нотка сочувствия была как соль, которую сыпали на открытую рану. Сжал лямку гитарного чехла так, что костяшки пальцев побелели. Ярость, которую так долго и тщательно хоронил под слоем апатии и цинизма, прорывалась наружу, как лава из спящего вулкана.
Прошёл мимо кафе аджуммы Пак. Через открытую дверь доносился аромат свежесваренного кофе и её громкий, жизнерадостный смех. На мгновение остановился, поддавшись искушению зайти, взять стакан ледяного американо и позволить её бессмысленной, но такой искренней болтовне заглушить голоса в голове.
– Мин-Джун-а! – тут же раздался её оклик. Она заметила его, стоящего на пороге. – Заходи, заходи! Чего стоишь как неродной? Я как раз испекла медовые пирожные якква, ещё тёплые! Попробуешь?
Внутри, за столиком у окна, сидели двое стариков, играющих в го. Они подняли на него глаза, кивнули. На другом конце зала молодая парочка туристов, склонившись над телефонами, хихикала. Обычная жизнь. Но для Лиама сейчас это было невыносимо. Их простое, незамутнённое счастье казалось насмешкой.
– В другой раз, – выдавил он из себя, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Спешу.
– Вечно ты спешишь, – проворчала она беззлобно, вытирая руки о фартук. – Бежишь от чего-то? Смотри, не убеги от самого себя. От этого парня ещё никто не уходил.
Если бы ты только знала, насколько ты права, – горько подумал Лиам. Кивнул ей и быстро пошёл дальше.
Он не хотел говорить. Не хотел видеть людей.
Вышел на набережную. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в драматические оттенки багрового и оранжевого. Несколько рыбаков чинили сети на своих лодках, их тихие, гортанные голоса смешивались с криками чаек. Прошёл мимо них, направляясь к дикому пляжу, к «своему» месту. Надеялся, что там никого не будет.