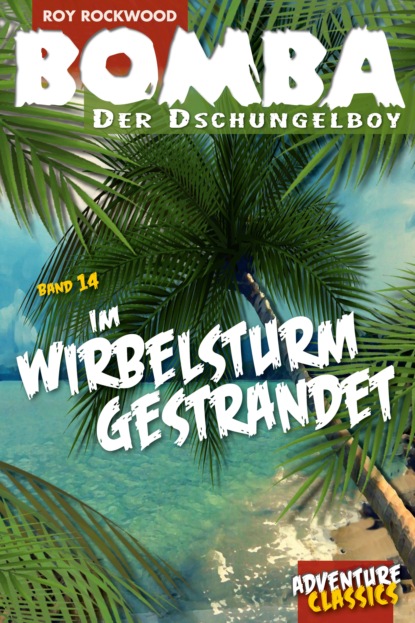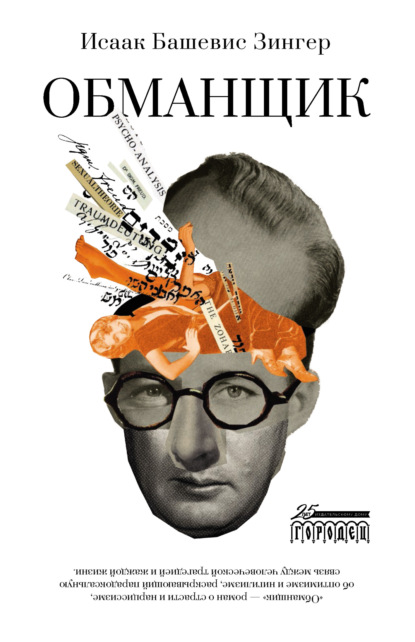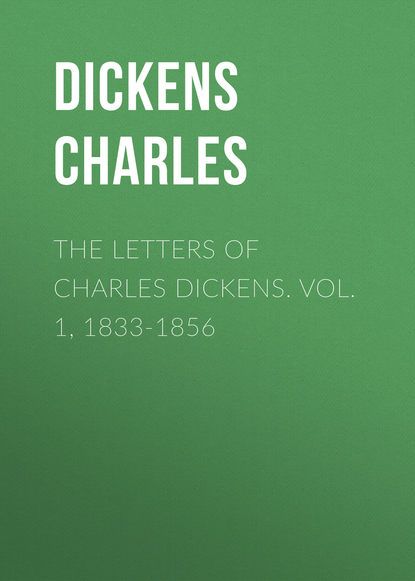Криотрикс. Холодные воды

- -
- 100%
- +

Все имена, персонажи, организации, события и инциденты, изображенные в этом романе, являются продуктом авторского воображения или используются в вымышленном контексте. Любые совпадения с реальными людьми, как живыми, так и умершими, коммерческими предприятиями, событиями или локациями являются чисто случайными и непреднамеренными.
Глава 1. Холодные воды
Мурманск просыпался в сером утреннем тумане, будто нехотя выныривая изо льда и сна. Было 6 утра, но город уже дышал – глухо, с хрипотцой, как старый моряк после бессонной ночи. Воздух резал щеки: не просто холодный, а пропитанный солью, мазутом и запахом трески. Где-то вдали гудел буксир, на причале скрипели снасти, а чайки, белые и злые, кружили над рыбным складом.
Порт не был красивым, но был наполнен жизнью. Ржавые краны, облупленные борта судов, грузчики в телогрейках, перекуривающие у ворот. Все здесь говорило о работе и тяжелом физическом труде. И среди этого промышленного хаоса, у причала №7, стоял небольшой, но крепкий корабль – научно-исследовательское судно «Кандалакша».
Судно выглядело скромно: 34 метра длиной, узкий корпус, покрашенный в выцветший красный цвет. Когда-то, в 1973-м, его строили на Астраханской верфи как рыболовный сейнер по проекту 388М – для траления в Баренцевом море. Но в том же году, по инициативе полярника и исследователя Ивана Ларина, его передали Ленинградскому зоологическому институту. С тех пор «Кандалакша» плавала не за рыбой, а за знаниями: брала пробы воды, изучала планктон, замеряла радиационный фон в зонах бывших ядерных испытаний у архипелага «Новая Земля». На борту были лаборатория с микроскопами и центрифугами, небольшая библиотека, каюты для четырех ученых и даже радиорубка с новеньким «Р-619» – подарок от Минморфлота «за выдающиеся заслуги в изучении Арктики». Переоборудованное для научных целей, оно не утратило своей души простого труженика моря. Две грузовые стрелы по бокам, тросы, лебедки и странные приборы, закрепленные на палубе, делали его похожим на странного гибрида рыбака и ученого – существо, принадлежащее двум мирам одновременно. От него веяло не парадным блеском, а спокойной, проверенной силой, готовностью встретить любую опасность, которую приготовила Арктика.
Сейчас на палубе кипела тихая суета. Матросы закрепляли тросы, кок заносил мешки с картошкой и коробки с консервами, капитан проверял список груза. Все было готово. Через два часа – отплытие.
И в эту сцену, как будто сошедший со страниц учебника по биофизике, шагнул Евгений Кирьянов.
Ему было двадцать с небольшим. Он шел по причалу быстро, но неуверенно – будто боялся, что его остановят и скажут: «Тебе здесь не место». На нем была новая куртка – темно-зеленая, с капюшоном и оранжевыми вставками на плечах, купленная в московском «Охотнике» за ползарплаты. Под ней – плотный шерстяной свитер с высоким вязаным горлом, брюки из грубой ткани и крепкие ботинки на толстой подошве. На голове – вязаная шапка-ушанка без помпона, слегка съехавшая набок. За плечами – потрепанный рюкзак, набитый личными вещами, носками, книгами, запасом чая и шоколада. В руках – старый кожаный дипломат с потертой застежкой. Внутри – труды по криобиологии, блокнот с пометками и маленькая фотография в рамке: мама улыбается на фоне московской «хрущевки», держа в руках его школьный аттестат.
Никто его не провожал.
Он приехал из Москвы на поезде «Арктика» – долгие сутки с небольшим в купе с военным пенсионером, который все спрашивал: «А вы, молодой человек, точно не шпион?» Женя только улыбался и смотрел в окно, где за Вологдой начались леса, потом тундра, потом – вечный холод.
Теперь он стоял у трапа «Кандалакши», глубоко вдыхая этот воздух – смесь дизеля, моря и чего-то первобытного. Сердце колотилось, но не от страха, а от предвкушения.
В памяти всплыли слова научного руководителя, профессора Акимова, сказанные накануне отъезда в прокуренном кабинете:
– Смотри в оба, Женя. Арктика – она не любит самоуверенных. Если ты думаешь, что пришел ее покорять… – он помолчал, попыхивая трубкой, – …она тебя съест без соли.
Женя кивнул тогда. А теперь, стоя на краю причала, понял: профессор был прав. Здесь не покоряют. Здесь выживают.
Он поднял взгляд на корабль. На мачте уже развевался красный флаг с серпом и молотом. На палубе кто-то окликнул:
– Эй, товарищ! Вы с экспедицией?
Голос прозвучал с палубы – низкий, хрипловатый. Женя поднял глаза и увидел мужчину в темно-синей телогрейке с золотыми пуговицами на воротнике. Тот стоял, расставив ноги, будто корабль уже качало, хотя вода в гавани была спокойна. Лицо его – обветренное, с глубокими морщинами у глаз и шрамом, тянущимся от виска к скуле. Взгляд – спокойный, но властный, как у человека, привыкшего, что его слово – закон.
– Капитан Гордеев, – представился он, не подавая руки. – Где ваши документы?
Женя протянул паспорт и направление из института. Капитан быстро пробежал глазами, кивнул, вернул бумаги.
– Кирьянов Евгений Сергеевич. Биофизик. Каюта №4. Расписание дежурств – на доске в столовой. Не опаздывать.
– Понял.
Капитан кивнул, уже отворачиваясь, но вдруг остановился:
– В море первый раз?
– Да.
– Ну, смотри… Море – не лаборатория.
И он пошел по палубе, громко окликнув кого-то из матросов:
– Лебедку сначала проверь!
Женя остался один. В груди у него горели волнение и предвкушение. Где там, за горизонтом, ждали закрытые зоны бывших ядерных испытаний, аномальные течения, возможно, следы неизвестных микроорганизмов в вечной мерзлоте. Это его тема – криобиология: как живые организмы сохраняются в условиях абсолютного холода. А здесь, в Арктике, природа уже провела миллионы экспериментов. Осталось только научиться читать их результаты.
Он огляделся.
«Кандалакша» с палубы казалась больше, чем с причала. Нос слегка приподнят, будто корабль смотрел вдаль. На крыше каютной надстройки – катер, плотно укутанный брезентом. По середине судна возвышался капитанский мостик с большими иллюминаторами, за которыми мелькнула фигура кого-то из экипажа. Ветер играл с флагом на мачте, и тот хлопал, как будто подавал сигнал: «Пора».
Женя прошел к трапу, ведущему внутрь. Внизу – узкий коридор с желтыми стенами, покрытыми легкой испариной. Воздух пах краской, машинным маслом и чем-то домашним – возможно, едой из кают-компании. Пол слегка вибрировал: работали дизеля, готовясь к выходу в море.
Каюта №4 оказалась в кормовой части, рядом с лабораторией. Дверь скрипнула. Внутри – две койки, одна над другой, узкий шкаф, столик с прикрученным к нему стулом и маленький круглый иллюминатор, за которым виднелся порт. На верхней койке уже лежал чей-то вещмешок – значит, сосед уже прибыл. На нижней – чистое серое одеяло, подушка в белой наволочке.
Он поставил дипломат на стол, повесил куртку на крючок и выглянул в иллюминатор. За бортом Мурманск медленно растворялся в утреннем тумане. Солнце, низкое и бледное, только-только коснулось горизонта. Вода в гавани была гладкой, как зеркало, и в ней отражалось все: краны, мачты и чайки
Этот утренний пейзаж был наполнен своеобразной красотой сурового северного региона. Где-то вдалеке прогудел пароход. На палубе крикнули: «Отдать швартовы!» Женя глубоко вдохнул.
Тросы упали в воду с глухим плеском. Дизеля зарокотали ровнее, увереннее – «Кандалакша» плавно отвалила от причала и, едва слышно скрипя корпусом, двинулась вперед. Женя стоял у правого борта, держась за холодные перекладины поручней. Ветер здесь был слабый, как легкое дуновение с берега, несущее запах тундры и далекого снега. Вода в гавани была спокойной и лишь за кормой корабля тянулась узкая полоса белой пены и ряби, будто море только начинало просыпаться.
Мурманск отдалялся. Заводские трубы, жилые кварталы, маяк у входа в порт – все медленно уменьшалось, будто город прощался без суеты, по-северному сдержанно. Судно шло вдоль берега Кольского залива: слева – пологие сопки, покрытые редким кустарником, справа – темная гладь воды, отражающая низкое утреннее небо. Здесь еще не было настоящего моря – ни волн, ни соленых брызг, ни ощущения бездны под килем. Только тишина, нарушаемая мерным гулом двигателей и скрипом такелажа.
Женя не спешил уходить. Он смотрел, как берега постепенно отдаляются, как залив расширяется, как впереди, уже начинает мерцать что-то более широкое, более свободное. Там, за мысом, начинается Баренцево море. А пока – только плавный переход от земли к воде, от привычного к неизведанному.
Решив осмотреться, он двинулся вдоль палубы. Прошел мимо машинного люка, где двое матросов в рваных ватниках перетаскивали ящик с инструментами. Один из них – высокий, с рыжей щетиной и веснушками на носу – кивнул ему молча. Женя ответил тем же.
У лабораторного отсека он заметил женщину в темно-синем комбинезоне. Она стояла спиной, сверяя записи в блокноте с табличкой на пробоотборнике. Волосы, собранные в тугой пучок, выбивались прядями на ветру. Женя хотел что-то сказать, но передумал – не время. Просто кивнул, когда она обернулась. Та слегка улыбнулась в ответ. Глаза у нее были серые, как само море.
– Анна, – бросила она, не останавливаясь. – Океанолог.
– Женя. Биофизик.
– Увидимся за завтраком, – сказала она и скрылась за дверью лаборатории.
Он постоял еще немного, потом спустился по трапу внутрь. В коридоре пахло кофе и какой-то кашей. Из-за угла доносился звон посуды и громкий смех. Женя свернул к кают-компании.
Дверь скрипнула. Внутри было тепло и шумно. Кают-компания оказалась небольшой, но уютной: четыре деревянных стола, скамьи с потертыми подушками, шкаф с чашками и стаканами, прикрученными цепочками к полкам. На стене – карта Баренцева моря с пометками и календарь за 1983 год.
За одним из столов сидел молодой мужчина лет двадцати пяти – худощавый, с коротко стриженными темными волосами и уставшим, но внимательным взглядом. Он листал потрепанную тетрадь, время от времени делая пометки карандашом. На нем была выцветшая рубашка с закатанными рукавами и теплый вязанный жилет.
Женя подошел и остановился у края стола.
– Здравствуйте. Я – Евгений Кирьянов. Биофизик.
Мужчина оторвался от записей, поднял глаза и – неожиданно для Жени – улыбнулся. Не насмешливо, а по-человечески, с легкой усталой теплотой.
– Очень приятно. Игорь Жаров. Врач экспедиции. Садитесь, чай скоро подадут. А каша, говорят, сегодня с маслом.
Женя сел напротив. За соседним столом трое молодых парней в вязаных свитерах перебрасывались шутками и перетасовывали колоду карт. Один из них – очкастый, с взъерошенными волосами и веснушками на переносице – что-то быстро говорил, жестикулируя руками, и все смеялись. Он держался непринужденно, будто знал всех на борту не первый день, но при этом в его движениях чувствовалась какая-то нервная подвижность.
Женя не знал их имен, не знал, кто за что отвечает. Но уже чувствовал: это не просто команда. Это – маленький мир, в котором он будет жить следующие две недели.
За иллюминатором Кольский залив по-прежнему был спокоен. Но внутри «Кандалакши» уже началась другая жизнь – тесная, шумная, полная незнакомых лиц. В кают-компанию один за другим стали входить остальные члены экипажа и ученые. Сначала появилась Анна – та самая океанолог в синем комбинезоне. Она кивнула Жене, сняла куртку и повесила ее на крючок у двери, аккуратно, будто привыкла беречь каждую вещь.
– Ну как, осваиваетесь? – спросила она, подходя к их столу.
– Да, – улыбнулся Женя.
Вслед за Анной в кают-компанию вошел мужчина лет сорока – высокий, подтянутый, в чистой, темно-синей телогрейке. Лицо у него было спокойное, почти без мимики, но взгляд – острый, будто он сразу оценивал каждого, кого видел. Он кивнул капитану, который как раз вошел следом, и занял место у дальней стены, спиной к иллюминатору, откуда был виден весь зал.
– Это Соболев, – тихо сказал Игорь, заметив, как Женя проводил его взглядом. – Метеоролог. Прикомандирован из Главного управления гидрометеослужбы.
Женя кивнул. Соболев сидел молча, листая блокнот с метеосводками.
Тут дверь распахнулась с таким грохотом, будто в нее ворвался сам северный ветер.
– Горячая каша! – прогремел голос, и в кают-компанию ввалился плотный мужчина в белом халате. За ним, с двумя большими мисками в руках, шел матрос – молодой, румяный, с небольшой щетиной.
– Так, ученые! – кок поставил перед Женей и Игорем огромную миску с дымящейся овсянкой и подмигнул. – Сегодня у нас «полярный деликатес»: овсянка по-мурмански – с маслом, солью и небольшим сюрпризом.
– Ты вчера обещал яичницу с колбасой, – парировал румяный молодой матрос.
– Будут вам яйца с колбасками, – Дядя Миша продолжал расставлять миски с овсянкой. – А сегодня каша с изюмом. Нашел в закромах.
Анна фыркнула:
– Если это изюм, то он старше меня.
– Зато проверенный временем! – парировал дядя Миша. – Как и я.
За столами пошли свободные разговоры. Матросы обсуждали погоду и толщину льда. Капитан Гордеев сидел за одним столом с метеорологом и молча ел.
Завтрак закончился так же легко, как и начался. Посуду унесли, матросы разошлись по постам, дядя Миша ушел на кухню припевая старую песню, а капитан Гордеев поднялся на мостик, бросив на прощание: «Через час – инструктаж по технике безопасности». Соболев ушел первым – молча, не прощаясь.
В кают-компании остались только трое: Женя, Игорь Викторович и Анна. За иллюминатором Кольский залив спокойно прощался с ними, и вода уже начала темнеть – море становилось глубже и серьезнее.
Анна сидела, обхватив кружку ладонями, будто грелась, хотя в каюте было тепло.
– Так чем ты, Женя, конкретно заниматься будешь? – спросила она, поворачиваясь к нему. – Про криобиологию я слышала, но не очень понимаю, как это работает в поле.
– В основном – пробы, – ответил он, немного смутившись от внимания. – Лед, донные отложения, возможно, ткани мелких организмов – если найдем. Особенно интересны зоны бывших ядерных испытаний. Там экстремальные условия: радиация, холод, изоляция. Если что-то там выжило – значит, у него есть механизмы защиты, которых мы не знаем. Может, белки-антифризы, может, что-то новое…
– Звучит как фантастика, – улыбнулась Анна. – А ты в это веришь?
– Не верю. Проверяю.
Она кивнула, будто это был самый правильный ответ.
– А ты? – спросил Женя. – Чем займешься?
– Гидрологией и биопродуктивностью, – сказала она. – Замеры течений, температуры, солености. И планктон – много планктона. Его состав показывает, насколько море «живое». Это уже моя вторая экспедиция сюда. В прошлый раз мы работали у островов Северной Земли.
– А ты, Игорь? – спросил Женя, повернувшись к врачу. – У тебя тоже не первая экспедиция?
– Вторая, – кивнул тот. – В прошлом году был на «Профессоре Курчатове» – тоже Баренцево море, но ближе к Земле Франца-Иосифа.
– И как прошла? – спросила Анна. – Не было ли… несчастных случаев? Травм?
Игорь помолчал, глядя в чай.
– Все спокойно. Пару легких обморожений. Ничего серьезного. Перевязал, отругал, выпил с ними по стакану чая – и забыли.
– Значит, повезло, – сказала Анна.
– Или просто были внимательны, – тихо добавил Игорь.
Женя посмотрел в окно. Впереди вода стала шире, темнее, будто набирала силу. Ветер усилился – теперь он уже не просто дул, а гнал по поверхности мелкую рябь.
– Странно, – сказал он, почти про себя. – Мы только вышли, а уже кажется, что назад не вернуться.
– Это Арктика, – ответила Анна.
Игорь ничего не сказал. Просто допил чай и встал.
– Ладно, коллеги. Через час – инструктаж. А пока советую проверить аптечки.
Инструктаж капитана Гордеева был таким же суровым и лаконичным, как он сам. Вопросы никто не задавал и через пятнадцать минут мероприятие закончилось.
Женя остался стоять в коридоре, чувствуя себя немного потерянным. К нему подошел Игорь, с ключом в руке.
– Пошли, биофизик, покажу твою келью.
Он провел Женю по узкому коридору в корму и открыл дверь с табличкой «Лаб. 2». Помещение оказалось маленьким, но поразительно организованным. Вдоль одной стены стояли столы с микроскопами, закрепленными на специальных противовибрационных подставках. На полках – аккуратные ряды склянок, пробирок, химикатов в промаркированных банках. В углу гудел моторчик небольшого холодильного шкафа. Пахло старым деревом, химикатами и спиртом.
– Вот твой угол, – Игорь указал на стол у иллюминатора. – Здесь все необходимое. – Он похлопал Женю по плечу. – Осваивайся.
Дверь закрылась. Женя подошел к иллюминатору. Теперь за толстым, слегка мутным стеклом открывалась не береговая черта, а бескрайняя свинцовая гладь Баренцева моря. Вода была темной, тяжелой, и лишь далеко на горизонте виднелась тонкая белая полоса – край дрейфующего льда.
Следующие два дня слились в один монотонный процесс. «Кандалакша» мерно покачивалась на морской зыби, разрезая носом невысокие, но мощные волны. Брызги замерзали на леерах, покрывая их хрустальной коркой. Воздух стал другим – густым, соленым, обжигающим легкие. Дышать им было одновременно тяжело и пьяняще.
Жизнь на судне вошла в свой ритм. Утром – завтрак под веселые прибаутки дяди Миши. Днем – работа. Женя разбирал и проверял оборудование, делал первые пробы забортной воды. Анна часами стояла на палубе, запуская зонды для замера температуры и солености. Игорь занимался своими врачебными делами. Матросы несли вахту, работали с тросами, снастями и поддерживали порядок на судне. Капитан Гордеев почти не сходил с мостика.
Соболев держался особняком. Он появлялся на палубе, делал свои замеры, что-то записывал в толстый журнал и так же молча исчезал. Иногда Женя ловил на себе его быстрый, оценивающий взгляд.
Внутри судна, несмотря на холод за бортом, царило свое, уютное тепло. В кают-компании по вечерам собиралось большинство экипажа. Грелись чаем, играли в домино или просто молча сидели, слушая, как за бортом воет ветер и шумит волна. В эти моменты Женя чувствовал странное чувство общности. Они были очень разными, но здесь, в этом северном море, они были одним целым.
Как-то вечером Женя поднялся на палубу. Ночь была ясной, морозной. Небо, черное-черное, усыпано миллиардами звезд. По краю горизонта плясали зеленые разводы полярного сияния, то разгораясь, то угасая.
Женя стоял, прислонившись к лееру, и смотрел на эту ледяную, безжизненную красоту. Где-то там, под этой темной водой, в постоянном холоде, могли быть ответы на вопросы по его научной деятельности.
Снизу, из открытой двери кают-компании, донесся смех и запах еды. Контраст был разительным: безжалостный космос снаружи и крошечный островок тепла и жизни внутри.
– Завтра будем на месте, – раздался рядом спокойный голос. Это был капитан Гордеев. Он вышел на палубу покурить, зажигая цигарку, закрывая ее от ветра ладонями.
Женя лишь кивнул.
Третий день плавания выдался на удивление спокойным. После завтрака Женя поднялся на палубу, чтобы проверить крепление пробоотборников. Воздух был холодным, ветер стих, а солнце, бледное и низкое, лениво играло бликами на воде.
На баке, у самого носа, он увидел Анну и Соболева. Они стояли, опершись о поручни, и о чем-то разговаривали. Женя подошел.
– Доброе утро, – кивнул он.
– И тебе доброе, – ответила Анна. – Смотри, какая благодать. Редко здесь так бывает.
Соболев обернулся и коротко кивнул в ответ, его лицо было спокойным.
– Да, – согласился Женя, глядя на расстилающуюся до горизонта гладь. – Совсем не похоже на суровую Арктику.
– Не обманывайтесь, – заметил Соболев. Его голос был ровным, без эмоций. – К вечеру, возможно, смещение циклона. Ожидается усиление ветра.
– Надеюсь, успеем взять пробы до непогоды, – сказал Женя. – У нас по плану завтра как раз первые точки отбора в заливе Иностранцева.
– По плану мы успеем, – уверенно сказал Соболев. – Я сверился с последней сводкой. Фронт движется медленнее расчетного. У вас будет окно часов восемь. – Он говорил как специалист, уверенный в своих данных.
– А что именно вы будете искать в тех пробах, Евгений? – спросила Анна, поворачиваясь к нему. – Кроме своих загадочных криобактерий?
Женя улыбнулся.
– В первую очередь – следы адаптации. Течения там сложные, донные отложения могут содержать органику, законсервированную со времен оледенения. Если повезет, найду микроорганизмы с уникальными свойствами. Белки, позволяющие выживать в условиях вечного холода и высокого давления. Это могло бы дать колоссальный прорыв, например, в криомедицине.
– Перспективно, – кивнул Соболев, проявляя профессиональный интерес. – Хотя ваша криобиология – не моя область. Я больше по крупным формам: давление, температура, движение масс воздуха. Но читал, что-то про антифризные белки у рыб.
– Именно! – оживился Женя, радуясь, что коллега понимает суть. – Но арктические микроорганизмы – это другой уровень. Они могут годами находиться в анабиозе, а потом «проснуться». Механизмы такой сохранности – это ключ к фундаментальным вопросам биологии.
– Ну, мои планктонные сетки куда прозаичнее, – с легкой усмешкой заметила Анна. – Считаю рачков, измеряю биомассу. Но без моих рачков не было бы и всей пищевой цепочки.
Соболев позволил себе короткую, едва заметную улыбку.
– Постараемся, чтобы без сюрпризов, Анна Сергеевна. Я передал капитану последние сводки.
– Ладно, – Анна потянулась. – Пойду готовить зонды. А то ваш циклон не будет ждать.
– И я, – сказал Женя.
Соболев кивнул и поднес к глазам бинокль, всматриваясь в даль, как бы проверяя состояние горизонта.
Женя спускался вниз, в лабораторию, с легким чувством удовлетворения. Все шло по плану. Команда подобралась доброжелательная, капитан – опытный, погода пока благоволила. Он с нетерпением ждал завтрашнего дня, когда можно будет, наконец, приступить к настоящей работе. Мысли о циклонах и возможных трудностях отступили перед лицом ясной, осязаемой цели.
Глава 2. Смена курса
«Кандалакша» вошла в залив Иностранцева на рассвете. Солнце, бледное и холодное, лишь обозначало край неба, не в силах растопить сизую дымку, стелившуюся над водой. Берега, подступившие к заливу черными, безжизненными скалами с заснеженными шапками , казались высеченными изо льда и вечного мрака. Воздух был неподвижным и звеняще-прозрачным; только редкие шквалы ветра, срывавшиеся с вершин, рябили свинцовую гладь залива. Вокруг царила гробовая тишина, нарушаемая лишь ударами волн о борт судна и однообразным гулом дизелей.
Судно встало на якорь в тихой бухте. Почти сразу же началась рабочая суета. Анна с матросом помощником отправилась устанавливать гидрологические буи. Женя возился на палубе с пробоотборником – сложной конструкцией из батометров и стерильных колб.
– Держи крепче, видишь, течение! – крикнул он матросу Коле, который помогал ему опускать тяжелый снаряд за борт.
– Держу! – тот натужился, упираясь коленями фальшборт, высокий сплошной борт по краю палубы.
Через полчаса к ним присоединился Игорь, неся металлический ящик с пробирками и этикетками.
– Ну что, ученые, есть чем поживиться? – спросил он, ставя ящик на палубу.
– Сейчас посмотрим, – Женя аккуратно извлек первый батометр, цилиндрическую емкость с клапанами. Вода в нем была холодной до онемения пальцев даже через перчатки.
Они работали слаженно, почти молча: Женя отбирал пробы, Игорь тут же переливал их в стерильные колбы и подписывал четким, совсем не врачебным почерком, Анна, вернувшаяся с буями, заносила первые данные в полевой журнал.
– Температура у дна минус ноль градусов, – прокомментировала она. – Твоим бактериям тут самое место, Женя.
– Идеальные условия для консервации, – согласился он, с удовлетворением глядя на ряд заполненных пробирок. – Надеюсь здесь что-то есть.
Игорь, закручивая очередную крышку, вдруг замер и прищурился, глядя наверх, на ходовой мостик.
– А это что у них там такое? – тихо спросил он.
Из-за широких окон рубки были видны фигуры капитана Гордеева, радиста и старшего матроса. Капитан, судя по всему, что-то горячо и жестко говорил, размахивая рукой. Радист, обычно спокойный, беспомощно разводил руками. Даже сквозь стекло и расстояние было понятно – разговор идет на повышенных тонах.
– Похоже, связь барахлит, – предположила Анна, следуя за его взглядом.
– Не похоже, – покачал головой Игорь. – Смотри, Гордеев не на радиста злится, а в сторону Соболева смотрит.
В этот момент на мостик быстрым, уверенным шагом поднялся Соболев. Он что-то коротко сказал капитану. Тот резко обернулся, кажется, даже попытался что-то возразить, но Соболев сказал еще несколько фраз, и капитан, сжав кулаки, мрачно отступил к штурвалу. Радист и матрос тут же разошлись по своим местам, стараясь не смотреть в сторону начальства. Суета прекратилась так же внезапно, как и началась.