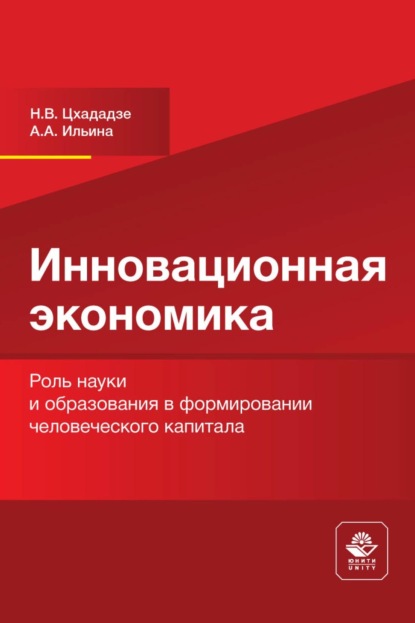«Мерседес», японская магнитола, вертолет и фонтан

- -
- 100%
- +

Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный
круг честных контрбандистов? Как камень, брошенный
в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень,
едва сам не пошёл ко дну!
М. Лермонтов. Тамань
…Морж ничего не сказал ни о башмаках, ни о кораблях,
ни о сургучных печатях, ни о королях, ни о капусте.
О. Генри. Короли и капуста
Вместо пролога
НЕПОПРАВИМО ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ
Я возвращался в тумане, как в безмолвном сне, словно бы охватившем мир, который был городом. Я шел, спрятав руки в карманы наглухо застегнутой куртки со стоячим воротом, застегнутым на «липучку», то и дело поглаживая пальцами левой руки в кармане твердую пачку сигарет, а пальцами правой руки – твердый спичечный коробок. Идти было не холодно, и даже пальцы не мерзли – только казались незнакомыми, чужими, словно были тоньше чем обычно: тоньше, чем были на самом деле. Не то чтобы совсем уж тонкими, а просто какими-то чужими. Столь же незнакомыми казались затонувшие в вечернем тумане улицы, по которым я шел, и весь обратный путь до остановки: не то чтобы абсолютно незнакомыми, – но теперь они были совсем иными. Я шел и мне казалось, что этому не будет конца – что этому не должно быть конца, что это должно длиться и длиться, как в безвыходном лабиринте, где на каждом повороте обнаруживается еще один коридор, за которым следует очередной поворот, и так бесконечно. Я прошел пустую автобусную остановку: она и должна была оказаться пустой в этом тумане и безлюдном безмолвии, под холодными фонарями. Это была не та остановка, которая была мне нужна. Рассеянный тусклый свет – сумрачное сознание вечерней полумглы, затопленной туманом. Легкие шаги.
Это не должно было кончаться, как, впрочем, и начинаться. Но начало этому осталось в прошлом, которого уже не было, а, стало быть, не было и самого начала; не должно было быть и конца. Я должен был все время идти, возвращаясь куда-то откуда-то, и это должно было длиться бесконечно. Мне было легко идти, спрятав руки в карманы, в тумане, по пустынным вечерним улицам, зная, что я возвращаюсь, и этого было достаточно. Больше ничего и не было нужно, и каждое прикосновение пальцев, которые казались чужими, к пачке сигарет в левом кармане или спичечному коробку в правом, наполняло меня спокойствием и уверенностью. Больше ничего и не было нужно.
Где-то позади, в отдалении, незаметно зазвучал мерный шум мотора. Звук плавно нарастал, я оглянулся: из тумана с горящими фарами ехала легковушка, и очертания ее через мгновение, когда она поравнялась со мной, стали вполне четкими, а еще через мгновение, когда она обогнала меня, плавно растворились впереди, в тумане; какое-то мгновение еще были видны задние красные огоньки и слышался убывающий шум мотора, потом все исчезло, и кругом было то же, что прежде: туман, фонарный свет, вязнущий в тумане, пустынное безмолвие улицы, и кругом туман, туман.
Сколько же дней, один за другим, прошло, и каждый день был, они все были, один за другим, все эти дни, вся эта вереница, дни, дни, все эти дни, бесконечные и мимолетные, эфемерные и непреодолимые, и все то, что внутри всего всегда, мясо и кровь времени, бесплотная плоть и прозрачная кровь неосязаемости его, все это, каждый день, каждый день, все это время. Как это могло быть? Ведь это было, все это было, вся эта череда всего того, что всегда было внутри всего, что было. И где это теперь? Это они и есть, время, и все это не так, как это есть на самом деле. Люди?
Они никогда не понимали, всегда понимали не так, как это было на самом деле. Они всегда думали из себя, а на самом деле все было по-другому, но как объяснить? Они не понимают и не поймут, потому что они не хотят понимать. Они, наверно, не могут понять и не поймут никогда, потому что им этого невозможно объяснить: они думают из себя, а это вне их. Это если и началось когда-то, не имеет ничего общего с ними, разве что иногда как свет проникает в них. Иногда, редко. И теряется в них, теряется во времени, потому что преломляется, как свет сквозь призму, преломляется, надламываясь, скользит, искажаясь, поглощается тем, что внутри них, тем, из чего состоят они, увязает, тонет, покрывается тенью, меркнет, изменяется, перестает быть собой. В них, во времени. Оно остается неизменным в своей непрерывности, в своей непрерывной текучести. Они остаются. Они остаются внутри себя, в том, из чего думают, всегда. Это непреложно, как закон тяготения. Это непоправимо. Это печально. Это непоправимо, и так жаль, да: непоправимо. Непоправимо. Невесомое. Непоправимо. Невесомое, входящее в себя самое, уплотняясь и уплотняясь, долго, бесконечно, бесконечно долго, неизбежно, непреодолимо, бесконечно долго уплотняясь и уплотняясь – в такое невыносимо тяжелое, неподвижное, в такое… оцепенение… Оцепенение, да. Непоправимо.
…Но вместо сердца, которое, казалось, могло бы разорваться от тяжести, разорвалась тяжесть, и клочья ее, уже невесомые, как эхо, как хлопья пепла, взметенного бы порывом ветра, словно бесшумно замедленно разлетались, теряясь в непроглядных глубинах тумана.
* * *
Откуда возникла эта женская фигура впереди, или она только чудилась в слабом фонарном свете внутри тумана?
Длинные темные волосы, колышущиеся полы плаща, наверно, расстегнутого, распахнутого, на правом плече сумка, торопливая походка, стремительная, но при этом все же грациозная, влекущая женская походка. Нет, это реальность. Я шел, стало быть, довольно быстро: расстояние между нами сокращалось. Мне вроде бы даже стали слышны цокающие каблучки, но дальше цепочка фонарей прерывалась, надо было переходить через дорогу, которая рассекала два жилых массива и образовывала сложный перекресток в форме искривленной буквы Х, с одной стороны к тому же раздваиваясь, как будто эта Х была составлена из оттянутой вправо единицы и заваливающейся влево буквы Ч. Женская фигура впереди исчезла в плотной холодной туманной мгле, и стало казаться, что она лишь чудилась.
Из кромешного тумана раздался шум и стал нарастать: я уже шел по асфальту широкой и темной здесь проезжей части, когда на меня стали надвигаться горящие фары большегрузного КамАЗа, и я вдруг, как загипнотизированный, остановился и какое-то мгновение словно бы не мог двинуться с места. Инстинктивный страх изнутри ударил в виски, и я подался было назад: тело было необычайно легким, но движения при этом казались замедленными, как если бы я парил в невесомости. Машина стала замедлять ход, включилась поворотная мигалка и грузовик с длинным кузовом стал заворачивать. Навстречу ему слева от меня – тоже двигаясь по направлению к той точке, где я оказался, но как бы по диагонали, сбоку – с хриплым шипением, похожим на одышку, выехала из тумана другая машина с зажженными фарами – передвижной подъемный кран, а справа за спиной возник, быстро нарастая, шум еще одного мотора, и по шуму понятно было, что это едет по трассе легковушка. Откуда их здесь столько, в это время, в тумане? Лучи фар скрестились, и в этих полосах света, щупавших туман вслепую, вновь показалась фигура женщины. Ничего не понятно: это была уже не она. Светлые волосы закругленными скобками вокруг головы (а у той – длинные темные волосы лежали на плечах, как бы струясь и колыхаясь при ходьбе), светлый плащ, наглухо застегнутый и туго перетянутый в осиной талии широким поясом: женская фигура в сапогах на высоком каблуке в перекрестье лучей, густо запорошенных туманом, в скрещенном свете фар на перекрестке внутри тумана. Она не могла быть не той же самой: она шагала в том же направлении и столь же целеустремленно. В отличие от меня, она вроде бы даже не обращала внимания на движущиеся машины, между которыми оказалась, когда одна из них, фура, стала медленно поворачивать на запутанном перекрестке, а другая одышливо тащила над кабиной сильно выдающийся вперед, нависающий над ее кабиной и над светом ее фар металлический вытянутый хобот подъемного крана. И сумка как у той, на левом плече, и руки в карманах… а главное… как бы это… тот же темпоритм, что ли… да: так, наверно. Она решительно шла сквозь туман между скрестившимися, запорошенными туманом лучами, в шуме моторов, та и не та, а справа и сзади от меня я слышал все нарастающий шум еще одного мотора.
Я оглянулся и наткнулся глазами на горящие фары легковушки, которые быстро приближались, и в то же мгновение раздался тревожный сигнал, и я алогично подался вперед, понимая, что пройти вслед за девушкой – та же самая или нет, женщина была стройной и молодой, это чувствовалось как по силуэту и осанке, так и по энергичной походке – между разъезжавшимися тяжелыми машинами не успею, и остановился. Никакой женщины на перекрестке уже не было, да, может, ее и вовсе не было. Мне казалось, что я бесконечно долго метался между странно движущимися, словно бы с трудом отталкивающими от себя непрерывно надвигающуюся отовсюду туманную пелену лучами фар. Кран сворачивал на раздваивающуюся дорогу, на одно из ответвлений, влево. Фура, которая двигалась навстречу, тоже поворачивала налево, выезжая со стороны жилого массива, куда я направлялся, на трассу, по которой проехала у меня из-за спины между тяжелыми машинами как-то агрессивно и нетерпеливо, с какой-то как будто нервозной настойчивостью просигналившая легковушка. Линии поворотов пересекались где-то в центре перекрестка,– если он здесь вообще был, если это можно было назвать перекрестком,– где я и замер. Это, наверно, длилось какое-то мгновение, не дольше, но мне стало казаться, что теперь весь смысл именно в этом, весь смысл происходящего вообще: куда бы я ни метнулся, отовсюду на меня двигалась пара включенных фар, и за спиной было то же самое. Словно механические звери загнали меня, и я оказался между ними, в безвыходном положении, в ловушке, и теперь вот-вот произойдет самое ужасное.
Фура появилась первой, я подался прочь, а потом кран, и поворачивать первым начал кран: я снова подался назад, все время оглядываясь по сторонам, а когда двинулся: вслед за краном, но забираа правее, потому что мне было туда, услышал за спиной шум легковушки, которая вообще ехала довольно быстро и даже явно слишком – в таком-то тумане. Едва она проехала запутанный перекресток, а кран кое-как повернул, я опять чуть не наткнулся на фары КамАЗа, тяжело двинувшегося после мгновенной остановки… Ничего, собственно, не произошло: машины разъехались, не причинив мне вреда. Тяжелый шум, состоявший из нескольких разных шумов, сгустившись и достигнув высшей точки, пошел на убыль. Шумы, неповоротливо сдвинувшиеся было воедино, разъединились и стали удаляться друг от друга, убывая. То, что происходило, было больше меня и больше того, что я об этом думал и как я это воспринимал. В тумане я перешел наконец запутанный, неправильный перекресток, если он там вообще был, хотя чем бы иначе это было, – и вышел на другой тротуар, к другой веренице тусклых отрешенных фонарей.
* * *
Все всегда было не так, но дело даже не в этом. До того абсурдно: никто не понимал, и не просто потому, что никто никогда ничего не может понимать так, как оно есть на самом деле, – дело в том, что никогда и не сможет. Хотя, может быть, когда-нибудь… Но и это вряд ли. А иначе, наверно, и быть не могло бы. Ну, как бы все это было, если бы все понимали то, что есть на самом деле? Да они бы просто сошли с ума!.. И что бы это тогда было?
Да, время шло… (время шло в ремесло в Риме слов ври мне слон)… Я касался чужими и словно бы незнакомыми пальцами твердой пачки сигарет в одном кармане наглухо застегнутой куртки и столь же безотчетно поигрывал спичечным коробком в другом кармане и думал: плевать!
Даже если бы они стали способны понимать все по-настоящему, и поняв, как все это было, когда они были не в состоянии этого понимать, сошли бы с ума, они бы все равно спали по ночам, и можно было бы, когда выпадет густой туман, идти, возвращаясь, в тумане, где вязнет, рассыпаясь, невесомой пылью холодный фонарный свет. На него, похоже, не так давит земное притяжение, ему не так тяжело. Не так, стало быть, тяжело, как тяжело, например, камню, огромному камню. Камню-то, наверно, тяжелее всего: он от этой тяжести замыкается в неподвижности, внутри себя, в безнадежной неподвижности, внутри того, из чего он состоит, в неподвижной безнадежности – так даже точнее, да, – которая еще безнадежнее немоты и так неподвижна – в пойме Терека, рядом с парком, у моста, есть такой валун, и еще на улице, прямо на улице, неподалеку от школы, но тот почти весь под землей, не то чтобы почти весь, а просто не весь виден: как айсберг – и так неподвижна, стало быть, что тяжелее смерти, наверно. А смерть наверно так давит, давит, и это, наверно, земное притяжение сгущается, окрашивается из себя и внутри себя же все темнее и темнее, как бы проступая из себя собою, становясь все тяжелее и тяжелее, пока не станет слишком тяжелым, чтобы можно было еще двигаться, и тогда уже даже пошевелиться невозможно, наверно, и открыть глаза и вздохнуть…
Возвращаясь мимо фонтана, который, насколько я вообще помнил, никогда не фонтанировал – так, что непонятно, откуда там всегда была эта тухлая вода с вечно плавающими в ней щепками и прочим мусором, хотя наверно скапливалась после дождей, – я специально подошел поближе к столбу с квадратными часами наверху. Стрелки на квадратном циферблате там показывали, как всегда, что-то вроде половины седьмого: это не имело ровно никакого символического значения, хотя могло бы казаться, что, совместившись, часовая и минутная стрелки указывают направление вниз, к центру Земли.
* * *
Туман стал еще плотнее: в десяти шагах ничего не было видно, только пелена, такая плотная, что казалось, шаги должны вязнуть в ней, и вдыхать ее должно быть трудно. Шаги не вязли, дышал я спокойно и, наверно, поэтому казалось, что идти необыкновенно легко, даже как-то странно легко. Как во сне, когда, шагнув, чувствуешь, что нога проваливается в бездну, словно бы становясь невесомой, и теряешь равновесие, не падая при этом, и вдруг просыпаешься с бьющимся сердцем, через мгновение уже с тихой и теплой благодарностью чувствуя неизъяснимую благодать земного притяжения и осязаемости сущего. Дышать в прохладной сплошной пелене тумана, внутри которой скорее угадывалось, чем было видно растворенное в ней слабое и далекое фонарное свечение, было так же странно легко. Я неуверенно шел, буквально нащупывая остановку в сгущенной прохладной мгле, подступавшей отовсюду, и странно было, что невозможно проснуться. Стоит ли и говорить, что остановка была безлюдной.
Пачка сигарет в левом пустом кармане, коробок спичек в правом пустом кармане, куртка наглухо застегнута, руки в пустых карманах, слегка подмерзающие пальцы рук. Пачка сигарет, коробок спичек, пальцы, пальцы.
Все изменится, все будет иначе. (…камню, да: камню, камня…)
Уже скоро все это когда-нибудь кончится, и все будет иначе. Пока неизвестно как, но все изменится. Дело даже не в том, что непонятно, просто неизвестно, как произойдет перемена, но все переменится – это так же очевидно, как очевидна невозможность этой абсурдной путаницы. И не придется ничего объяснять всем этим людям, несчастным и злобным, и быть свидетелем – а значит, и соучастником, пусть невольным, невольно втянутым в абсурдные перекрещения их не то чтобы изуродованных, словно бы навязываемых им, а как будто бы отделенных от них, не понимаемых ими самими, не узнаваемых и не сознаваемых, словно бы незнакомых им самим судеб, соучастником – переплетений всего этого абсурда, всего этого жалкого и отвратительного убожества какого-то как бы… бесприютного существования, и не придется выносить унижения сознанием собственного бессилия не только что-то изменить в безнадежно оскверненной другими жизни, но и воспротивиться тому, что непреодолимо, неотвратимо, непоправимо и безнадежно втягивает тебя в скверну, отнимая, как в нартской легенде, прочитанной в детстве, сначала отвагу, потом честь, а потом и душу, – отторгая тебя от тебя самого, разрушая откровенное и опустошая сокровенное; и не придется в последнем отчаянии ужасаться тому, что разрушив, опустошив и отняв все, что можно было в тебе разрушить, опустошить и отнять у тебя, непрерывный, безбрежный и незримый поток, втянувший тебя в свои непоправимые глубины, не торжествует даже, а обреченно продолжает влачить медленное и бесконечное проклятие своего движения и своей скверны; и не придется уже даже сожалеть о прошлом, которое не помнит тебя, утонув в своем страшном отчуждении, – не бойся, ничего не бойся. Это как война, наверно… всех против всех… Неизвестно когда началась и вряд ли когда-нибудь прекратится. Как война, наверное: да. Время…
Но если это война, в ее безумной бесконечности нет ничего твоего. Она (время ведь отторгает, отвергая… отменяя… от меня я…) не втянет в это свое безумное поле, в этот абсурд, в это поле своего безумия: ты очнешься в тишине, которую еще предстоит населить и заполнить новизной, не отягощенной ничем чужим, чуждым, безнадежно непоправимым. Количества и концентрации, тяготение, расщепление и синтез – лишь оболочка того, что вглядывается в тебя, что единственно и сознает, способно сознавать, как все обстоит на самом деле, не будучи вовлечено ни в в происходящее, ни в не происходящее, – того, с чем ты как будто должен если не совпасть, то, во всяком случае совместиться, как будто не можешь даже не совпасть, потому что если не совместишься – останешься с ними, отвергнутый и проклятый, обреченный. Когда ты не совпадаешь, не совмещаешься с отвергнутыми и обреченными, отвергнутыми собой и собой же обреченными, что-то в тебе, без чего тебя и вовсе бы не было, без чего ты был бы словно бы неузнаваемо отъединен от себя самого, не вписывается, не укладывается в мир, подобный, напротив, бесконечной абсурдной анемичной войне, в которой никто никогда не победит, и, значит, у тебя есть шанс совпасть, совместиться с тем, с чем не совпадают они, с тем, что как будто непрерывно пытливо вглядывается в тебя из-под оболочки тяготения, не отвергая, но и не принимая. Почему?..
Наверно, это и есть свобода.
Возможность свободы.
* * *
тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман
тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман
Все фикция, ничего нет. Фальшивка и банальность. Люди? Они ведь все разные. Какая война?
Чрезмерно раздутое суперэго: вот и вся скверна. Вместо морали. Впрочем, с другой стороны, кто такие эти пресловутые они, если все люди разные, и кто такой ты сам, если не один из них?.. Но ведь тогда, выходит, и времени не существует: если оно настолько разнонаправленно. А это ведь – оно и есть – энтропия… Крайности, крайности… Что же остается?
тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман
тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман
тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман
тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман
тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман
И тогда уж следовало бы как-то иначе формулировать: это (не) твой мир. Вот так: (не) было и (не) будет. Какая такая свобода? Что в тебя может вглядываться? Разве только туман. Это (не) твой мир, а вся свобода, какая только возможна, вся она здесь, в тебе. Вот и выходит, что это и есть единственное отрицание смерти. Так? Ну-ка, еще разок: это (не) твой мир. Так, если и не определенней, все же точнее, нет? Токи смутных предчувствий. Поиск. Вьющаяся дву(-)смысленность синтаксиса. Поиск. Поиск. Мерцающая амбивалентность препинания.
Самое то: закурить сигарету. Желтый, почти даже до белизны в сердцевине, но при этом на тонкой голубоватой кромке вокруг самой спички, снизу, вспыхнувший колеблющийся огонек, укрытый от ветра (которого, впрочем, нет) в плотно сложенных вокруг него ладонях: вот что иногда бывает самым определенным вовне. Еще и тепловой эффект: чувствуется… Дым, выдыхаемый в туман, как будто туман теперь и внутри… Краеугольный камень, основа.
тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман
тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман
тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман
тумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантумантуман
Как может измениться время?
* * *
Автобус мерно и неспешно, пожалуй что даже как-то устало что ли, или – точней – осторожно, подкатил: из другого: из времени: из другого: плавно замедляя движение, прежде чем остановиться, с тяжелым отрешенным пневматическим вздохом распахивая створки дверец, – и слышно его приближение было еще до того как стали видны смутные огни включенных круглых фар. Поехали!
Часть I
Теперь я должен был согласиться на соединение двух голосов:
голоса банальности (говорить то, что все и так видят и знают)
и голоса сингулярности (поднять эту банальность на поверхность
в порыве чувства, принадлежащего исключительно мне). Это
было все равно что искать определение глагола, который лишен
инфинитива и обладает только временем и наклонением.
Ролан Барт. Camera lucida
Глава 1. РОМАНС
Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу.
Тень со светом перемешались совершенно, и казалось, самые
предметы перемешались тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-
то неопределенный цвет, усы у стоявшего на часах солдата
казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе.
Гром и прыжки дали заметить, что бричка взъехала на мостовую.
Н. Гоголь. Мертвые души
Но едва только дневной свет, – а не отблеск последних умирающих
угольков на медном пруте для портьеры, ошибочно принятый мной за
дневной свет, – чертил в темноте, словно кусками мела по черной
доске,свою первую белую исправляющую линию, как тотчас окно со
своими занавесками покидало четырехугольник двери, где я ошибочно
расположил его, и в то же время, чтобы дать ему место, письменный
стол, неудачнопоставленный моей памятью там, где должно было
находиться окно, убегал во всю мочь, увлекая с собою камин и убирая
стену, отделявшую мою комнату от коридора; двор моего дома
воцарялся на месте, где еще мгновение тому назад была расположена
моя туалетная, и жилище, построенное мною в потемках,
подвергалось участи всех других жилищ, намгновение представших
моему сознанию в вихре пробуждения: оно обращалось в бегство
этой бледной полоской, проведенной над занавесками перстом
занимавшегося дня.
М. Пруст. В сторону Свана
Она была уроженкой Петербурга и шестой дочерью тамошнего генерала, который еще в молодости – во время давних событий на Сенатской площади – сделал благодаря своей решительной верноподданности головокружительно-быструю карьеру. Он являлся уроженцем здешних мест, и хотя особой знатностью не отличался, нрава был свирепого и храброго, да к тому же великолепным наездником и лихим рубакой: когда нельзя было обнажить саблю, без колебаний пускал в ход нагайку. Женился он на соплеменнице, которая также не отличалась ни особенной знатностью происхождения, ни богатством, но довольно красивой, моложе него на двадцать лет, очень благовоспитанной и добропорядочной. Она была не слишком образованна, но его боготворила и шестерых дочерей воспитала в духе беспрекословного почитания его превосходительства (сына она ему так и не родила). Карьера принесла ему скромный дом неподалеку от Марсова поля, позднее заложенный и перезаложенный и в конечном итоге пущенный с молотка, небольшой капитал, которого хватило все же на приданое трем старшим дочерям, и приличную пенсию, достаточную для того, чтобы в старости жить, не зная нужды и сопряженных с ней унижений, но неспособную все же покрыть расходы, необходимые для устройства судеб трех младших девиц. Была еще верноподданническая репутация, но в период хорошо известного из литературы либерального брожения она обернулась уже скорее против не успевших к тому времени выйти замуж младших сестер. В стремлении обеспечить приличную жизнь двум из них пришлось заложить и перезаложить дом, а когда он пошел с молотка, старый отставной генерал с семейством переехал в довольно просторную и в целом, хотя и с некоторой натяжкой, соответствовавшую его положению квартиру в пятом этаже пятиэтажного дома на Васильевском острове. При этом подниматься к себе домой после каждодневной обязательной прогулки по Невскому проспекту ветерану, который ходил к тому времени с тростью, становилось все труднее, и он все чаще останавливался на довольно крутой каменной лестнице с коваными перилами, чтобы передохнуть, так как одним махом одолеть подъем не мог – сильно ныло некогда раненое в сече колено. Четвертая дочь его именно тогда вышла замуж за бедного выпускника медицинского факультета из разночинцев, который позднее приобрел практику и довольно приличное положение, и осталась жить с ним в родительской квартире, где зять регулярно проводил медицинский осмотр тестя. Тот – в силу сомнительности происхождения зятя, которое не внушало ему доверия – с непобедимой поначалу подозрительностью относился к этим осмотрам, но потом уже сам неизменно требовал их безукоснительного проведения: и потому, что колено действительно часто ныло, и вообще из любви к порядку и дисциплине.