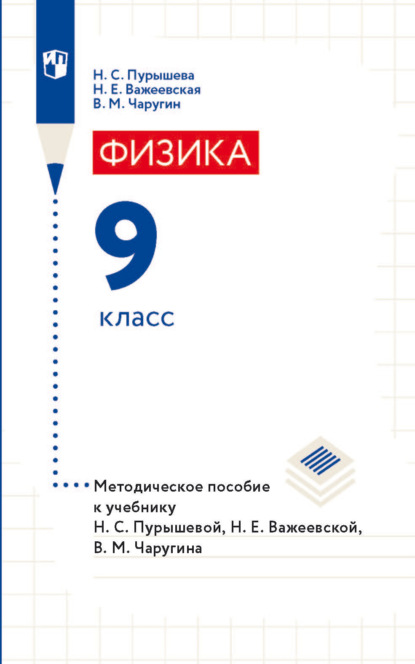«Мерседес», японская магнитола, вертолет и фонтан

- -
- 100%
- +
Судьба самой младшей дочери, чье взросление пришлось на годы либерального разгула, складывалась крайне двусмысленно. Витавшие в то время в общественной атмосфере идеи, которые его превосходительство иначе как новомодным развратом никогда не называл, крайне неблагоприятно с родительской точки зрения повлияли на круг ее общения. Кроме того, что дочь эмансипировалась и посещала какие-то либеральные сборища, она стала еще и в дом приглашать сомнительных людей, среди которых лишь один был безусловно приличного происхождения и богат. Он являлся сыном довольно известного в свете покойного генерала и наследником обширного имения в ближней губернии, расположенного совсем рядом с большим губернским городом, где проживала его мать генеральша. Звали его Nicolas. Он был принят во многих блестящих домах, и против него строгий, но безвозвратно утративший влияние на эмансипированную дочь и даже побаивавшийся ее – ибо она отличалась нравом и темпераментом настоящей амазонки – престарелый родитель ничего не имел: это был едва ли не единственный пункт, по которому их мнения и взгляды пребывали в относительной гармонии. Однако Nicolas оказался молодым человеком весьма странным, чтобы не сказать больше, и, по-видимому, также глубоко отравленным развратными либеральными идеями: хотя политикой он, к удовольствию генерала, особенно не интересовался, относясь к ней с некоторым неафишированным, но тем не менее незыблемым презрением, впоследствии оказалось, что нрав его отличался ужасающе-беспредельной разнузданностью (эта-то крайняя разнузданность, видимо, и восхищала в нем вечно крутившуюся поблизости нигилистическую сволочь, само существование коей чем дальше тем больше приводило генерала в бессильную тихую ярость, от которой колено начинало болеть невыносимо). Мало того, что он хладнокровно совратил без памяти влюбленную в него девицу – хотя и инородку, но дочь ведь царского генерала, который полгода ходил даже полвека назад в любимчиках при дворе, – свободно говорящую по-французски и умеющую так быстро играть на фортепьянах, что глазам трудно уследить за движениями пальцев, он не таясь и ничего не обещая увез ее с собой в Париж, где она влюбилась в него еще больше – а ведь, казалось бы, куда же больше-то (в него вообще все были всегда влюблены, и впоследствии даже распространились омерзительные слухи, что не одни только женщины; в любом кругу он – по чьему-то позднейшему наблюдению – быстро становился своего рода солнцем, вокруг которого вращались все события)? – и там, некоторое время спустя, без колебаний бросил, увлекшись очередной жертвой своей извращенной разнузданности. Кроме всего, он оставил ее без денег в гостинице хотя и дорогой, но известной своей весьма двусмысленной репутацией, оплатив, правда, шикарный номер с зеркалами на потолке на две недели вперед, так что родителям срочно пришлось выслать заблудшей эмансипированной дочери – теперь еще и обесчещенной – деньги на обратную дорогу, что окончательно надломило несчастного генерала.
С дочерьми у него все складывалось поначалу более-менее благополучно; времена тогда еще были вполне определенные, и порядок выглядел непоколебимым и казался вечным, а генерал мог позволить себе держаться самоуверенно и даже высокомерно. Правда, в свете над этим диковатым и оглушительным, как бой гвардейских барабанов, высокомерием посмеивались, а злые языки даже дали ему прозвище «Без царя в голове», нарочно стараясь побольнее задеть генерала явной абсурдной несправедливостью. Особенно высокомерно генерал держался тогда с кавказскими соплеменниками, число которых постепенно, но неуклонно увеличивалось в Петербурге – так, что с годами они составили в столице Империи даже довольно разветвленное и не лишенное некоторого влияния в обществе землячество, позднее уже поименованное иностранным словом диаспора. Земляков, хорошо осведомленных о том, что после довольно короткого периода генеральского фаворитства при дворе его диковатое рвение на ниве верноподданичества стало многих не столько уже умилять, как попросту коробить, а также о насмешливом отношении к его превосходительству в великосветских кругах и обидном прозвище, такое высокомерие обижало, и в отместку они пристально наблюдали за жизнью генералова семейства, ядовито называя его недобитым бивуаком, и вообще стремились всячески доказать и себе, и самому генералу, что его гордыня безосновательна: карьера колченога и сомнительна, а будущность дочерей так вообще неопределенна и двусмысленна. Генералу, в свою очередь, об этом было известно, и тем упорнее он продолжал стоять на своем, кичась карьерой и не жалея сил, чтобы устроить судьбу дочерей наилучшим образом, хотя бы и лишь назло язвительному недреманному оку диаспоры, которая иногда в страшных снах, с некоторых пор периодически посещавших его превосходительство, являлась ему в виде глумливой многоголовой гидры: с мерзким чудищем этим он беспрестанно, но безуспешно бился саблей и нагайкой – с высокомерным и брезгливым, но все же леденящим душу ужасом убеждаясь, что количество ее голов стремительно продолжает расти.
Выдав первую – засидевшуюся в девках и некрасивую, но отличавшуюся строгим и тихим нравом – дочь за отставного ротмистра, некогда служившего на Кавказе владельца средней руки имения и двухсот тогда еще душ, который отшельником жил у себя в поместье, генерал почувствовал, что отсек-таки одну голову мерзкой гидры. Хотя партия была и не блестящая, все там выглядело вполне благообразно: жизнь на свежем воздухе вдали от суетного бомонда имеет, в конце концов, свои неоспоримые преимущества. Ссылаясь на авторитет великих поэтов, которые слагали на сей предмет даже стихи, – о чем генерал случайно узнал из пришедшего с Кавказа письма дальней родственницы генеральши, поздравлявшей ее с отрадным событием начитанной жены какого-то продавца материи для синих знамен (родство хотя и не самое благонадежное, но безопасное в силу географической удаленности корреспондентки), – его превосходительство в этом духе и высказывался по данному вопросу. Но с поэзией вышел конфуз: в один ничем не примечательный день до тестя доползли слухи о том, что общественное мнение, которое генерал чем дальше тем убежденнее считал настоящим бедствием похуже холеры, вменяет зятю в вину убийство на дуэли в годы кавказской службы какого-то молодого поручика, но великого поэта, автора знаменитого романа, составленного из пяти повестей. Ничего не понимая в литературе и поминая недобрым словом недаром заочно не внушавшую ему доверия начитанную дальнюю родственницу жены, генерал попытался разобраться во всех этих туманных слухах своим умом: чтобы решительно выпутаться из той сети намеков и недомолвок, которую недоброжелатели стали вокруг него плести. Прочитав роман поэта, он несколько успокоился насчет явно мнимого величия автора, поскольку роман оказался мало того что бесспорно не располагающим к одобрению с точки зрения нравственности, но и отчасти как-то даже по-юнкерски наивным в своем беспардонном неправдоподобии: в одной из составляющих его повестей речь шла о кавказцах, и помимо того, что черкесский княжич там своими руками украл родную сестру-княжну для русского поручика за совет украсть коня у абрека (что было уже не смешно в своей смехотворности), эта самая княжна-черкешенка, вдобавок, и разговаривала почему-то на тюркском наречии. Узнав, что автор был романтиком (вот ведь откуда пошла вся эта либеральная чума!) и сам спровоцировал дуэль, генерал окончательно успокоился. Мало того, что злобные басни эти попросту могли оказаться откровенной клеветой, которая не имела к зятю-отшельнику ни малейшего касательства, даже и в противуположном случае обвинять его было не в чем: дуэль есть дуэль. На всякий случай – чтобы внести в этот вопрос ясность в умах – генерал стал повсюду излагать на него свою точку зрения: со всей сопутствующей неопровержимой аргументацией. Каково же было его изумление, когда он в скором времени явственно ощутил, что вокруг него сгущается незримая стена отчуждения: кое-где его даже перестали принимать, о чем немедленно узнала торжествовавшая неправедную победу гидра диаспоры.
Но его превосходительство нанес ей ответный удар, ибо выдача замуж второй – глуповатой и взбалмошной, и также слегка засидевшейся – дочери за простоватого, но внутренне глубоко правильного по моральным устоям городничего одного из провинциальных городов имперской глубинки уж точно была бесспорным отсекновением, лишенным даже возможности намека на какую бы то ни было двусмысленность, ибо именно в силу своей простоватости, которая глубоко импонировала тестю, новый зять ни в каких дуэлях замешан не был, а литературы даже в руки не брал – не то что в голову. Однако простота второго зятя оказалась не в пример хуже воровства: как-то раз он – непонятно с какого перепуга – принял ничтожнейшего проезжего хлюста-неудачника, который бесславно возвращался после беспутных попыток выслужить хоть какую-нибудь карьеру в Петербурге в убогое именьишко и застрял в провинциальном городке без денег, потому что впрах проигрался на захолустном постоялом дворе, за высокопоставленного ревизора с особыми полномочиями, и попал в результате в такой переплет, что о нем заговорила вся Россия. История эта, что самое обидное, стала достоянием комедиантов, и ее даже повсеместно представляли в театрах, пока государь не положил конец всем этим кривляниям, запретив пьесу к показу на сцене (великий был все-таки политический деятель!). И хотя фамилии там были изменены и точно бы никому ничего доказать не удалось, поскольку городничих в Империи хватало и без второго генералова зятя, недреманная диаспора надрывала животики, покатываясь со смеху.
Отсекновение третьей головы привело гидру в состояние предсмертной агонии, ибо третья дочь вовремя – хотя, как потом оказалось, и не в добрый час – вышла замуж за крупнейшего петербургского сановника, совершенно очарованного ее красотой несмотря на то, что он был ровно в три раза старше нее. Она родила ему сына, но во время какой-то роковой поездки в Москву (генерал всегда был в принципе против любых путешествий женщин, особенно в поездах, которые, конечно, ускоряли процесс перемещения с места на место и в этом смысле были неизбежным явлением прогресса, – именно потому, что женщин к прогрессу в изначально двусмысленном отсутствии мужей подпускать и близко не следовало) влюбилась в родовитого и богатого полковника, несомненно произведенного бы и в генералы, ежели бы не эта роковая история, оставила ради него мужа и открыто сошлась со своим возлюбленным в незаконной связи. Все окончилось трагически: неверная жена, в полной мере испив горькую чашу великосветского лицемерия, жестокую несправедливость коего, откровенно говоря, генералу и самому приходилось испытывать на собственной шкуре, бросилась под поезд, лишний раз утвердив его превосходительство в предубеждении против поездов и всего того, что связано с прогрессом – особенно применительно к особам женского пола. Генерал тяжело переживал трагедию и даже забыл на время в своем горе о злочастной диаспоре, пытаясь разделить его с сановным зятем-ровесником, но тот замкнулся в себе и никого даже близко не подпускал к своему безутешному одиночеству, увлекшись вдобавок спиритизмом и доктриной метемпсихоза. То обстоятельство, что на сей раз диаспора не глумилась, а скорее тихо сочувствовала и жалела его, не привело к примирению, потому что жалость эта казалась особенно унизительной.
Времена становились все более неопределенными: все словно бы перевернулось и никак не могло образоваться – ни по-старому, ни по-новому, на что надломленный трагической гибелью третьей дочери генерал тоже был уже согласен, хотя и скрепя сердце. Если до тех пор дочери выходили замуж в порядке некой очередности, предопределенной возрастом, а проще говоря – по старшинству, то теперь – возможно, еще и в силу недостаточной природной яркости – четвертая и пятая дочери оказались в некоторой изоляции от внешнего мира и, во всяком случае, испытывали явный дефицит внимания к своим добродетелям (быть может, выглядевшим несколько уже старомодными вообще) со стороны потенциальных женихов, а шестая – самая младшая и бойкая – наоборот попала в гущу не вполне понятных событий. Она была непохожа на старших сестер, никогда не перечивших отцу, но далеких также от сопереживания движениям его души уже в силу той несколько отрешенной почтительности, в духе которой их неустанно воспитывала мать. Она отличалась необыкновенно сильным и цепким характером, в котором чуткий интерес к искусству соединялся с одержимостью астрологией, а азартная общественная активность – с неустанными попытками расчетливо устраивать свои дела и настойчиво отстаивать свои интересы. Она походила на тех новых людей, что появлялись в те годы повсеместно, как бы это ни изумляло генерала, который, наблюдая за дочерью, все же не мог взять в толк, каким образом этой новой человеческой поросли удалось проявиться внутри его собственного семейства. Кроме всего, она с самого детства бурно проявляла свою любовь к тогда уже пожилому генералу, при каждом удобном случае бесстрашно взбираясь к нему на колени и принимаясь хватать проворными ручонками многочисленные ордена, медали, галуны и аксельбанты, которые блестели и позвякивали на облаченной в мундир груди, чего ее старшие сестры до того никогда себе позволить не осмеливались. И это не могло не трогать его превосходительство до глубины суровой души, которая позднее заметно помягчела после трагической гибели третьей дочери.
Повзрослев к началу либеральной эпохи, которая разразилась вскоре после усопновения государя, так до конца и не оправившегося после поражения в Крымской кампании, несмотря на безусловные успехи на Кавказе, неизменно служившие генералу неисчерпаемым источником укрепления оптимизма, она стала очень убедительно рассказывать выбитому из колеи началом перемен отцу о необходимости проективного мышления, избавления от инфантильного нарциссизма и перехода из мира традиции в мир истории, внезапно вставляя в свою речь ссылки на дотоле и вовсе неведомые астрологические понятия. Эти последние, кроме прочего, напоминали его превосходительству о непостижимых для него магических увлечениях зятя-сановника, а посему были окутаны в его глазах какой-то особой отталкивающе-привлекательной дымкой. Дивясь тому, откуда она знает столько непонятных, но убедительных слов, ласково-утешительных на слух в своей загадочной паранаучно-квазимагической мудрости, генерал мечтал о том, что уж она-то составит себе, наконец, несомненно счастливую партию, раз и навсегда ответив к тому же на давний вызов диаспоры. Хотя он несколько насторожился и даже внутренне содрогнулся, когда она стала с особенной настойчивостью за конкретными примерами, призванными иллюстрировать ажурную вязь метафизических построений, обращаться наряду с астрологическими аргументами к творчеству некоего гениального писателя, который был одним из самых влиятельных властителей дум всего ее поколения (потому что если к расположению светил и звезд он не выработал еще никакого определенного отношения, то к литературе у него вообще сложилась к тому времени опасливо-недоверчивая предвзятость: с какого бока ни подойди, думал он, одинаково чревато каким-нибудь двусмысленным негодяйством), и знакомых ей художников, которые – во многом благодаря влиянию этого самого гениального писателя – переживали в настощий момент именно состояние избавления и перехода, – генерал продолжал слушать, зачарованный звонкостью девичьего голоса и нежными, но энергичными интонациями: казалось, что гулкие слова журчащим эхом отзываются во всех светлых углах генеральского дома. Она стала приглашать своих новых знакомых в дом, представила их генералу, и впоследствии они постепенно – и всякий раз в несколько голосов, что отчасти напоминало высокопоставленному ветерану многоголосицу грузинского хорового пения, потому что тирольского он никогда в жизни не слыхал, – что человек вообще осознается как существо, живущее в мире культуры, а главное – что досаждавшая ему до сих пор необъяснимостью своей внутренней логики литература может быть призвана сыграть противуположную роль в истории. Тогда же у них стал бывать и Nicolas.
В тот раз, когда в дом явились пять литераторов (из них трое совсем незнакомых, которых генерал прежде никогда и не видывал), Nicolas в гостиной задумчиво слушал фортепьянную музыку в исполнении шестой дочери, которая музицировала особенно вдохновенно. В отличие от нее, как выяснилось несколько позднее, он ничего не знал о визите этой пятерки заранее: к современной литературе он вообще, как и к политике, относился с некоторой пренебрежительной прохладцей, в коей, однако, оставалось место и неопределенному, хотя и несколько окрашенному иронией, любопытству. Литераторы ненавязчиво завели речь о необходимости основания нового журнала, издание которого неминуемо привело бы к многочисленным благим результатам как самого генерала и его семейство, так и многих других людей, не говоря уже об общественном благе в целом, бесспорно связываемом дочерью и ее друзьями именно с новым изданием, коему предстояло сыграть особую, историческую роль в судьбах государства.
– Солнце девятнадцатого столетия клонится уже к закату, – говорил, тонко глядя на генерала сквозь непрозрачные стекла круглых очков в золоченой оправе, один из гостей: еще молодой, хотя уже и не очень, незаконнорожденный сын разорившегося скотозаводчика, известного в прошлом ценителя игры в поло, недавно вернувшийся из Америки владелец роскошного выезда, собиравшийся теперь на Ближний Восток, где его, по слухам, намерен был усыновить какой-то сказочно богатый шейх, в чьем гареме, в оазисе, не было ни одной жены, но зато, напротив, было несколько усыновленных им юношей, вследствие коих слухов он считался весьма завидным женихом. – И поскольку мы продолжаем жить… м-м-м… в ситуации… м-м-м… высокого контекстинга, мы должны произвести в обществе некоторые… м-м-м…
– Флуктуации, – поддержал его другой, баритон по фамилии Шигалиев, известный тем, что лицедействовал на театре: пел в новомодной опере «Опиумная война», из современной истории Китая, о которой в прошлом году довольно много писали в газетах (позднее генерал с изумлением узнал, что тот не только оказался сомнамбулой, но и попал в острог, обвиненный в какой-то сложной краже крупного солитера где-то на Мальорке, совершенной им якобы во сне, а затем, по выходе из острога за недоказанностью вины – так как солитера при нем не нашли – стал известен в качестве убежденного сторонника смертной казни, особенно настаивавшего на необходимости публичного характера исполнения высшей меры наказания: при том, однако, условии, что такие методы дознания как вздергивание на дыбу, сажание на кол, колесование, четвертование и проч., совершенно необходимые для получения добровольного признания и раскаяния, без чего казнь, даже публичная, утрачивала бы свой сакральный смысл, как и эзотерическое значение, должны оставаться актами сугубо конфиденциальными; генерал узнал также, что эти взгляды, изложенные им даже в виде теории, хотя и фрагментарно-неопределенной в своей крайней непоследовательности, но зато изобиловавшей многозначительными намеками, которые многих заставляли на всякий случай задумчиво умолкать, получили в обществе наименование «шигалиевщины», по фамилии автора).
–– Право, – вкрадчиво приговаривал он перед началом чуть ли не каждой очередной тирады, – право, – и генерал думал о том, что вкрадчивая интонация преображает это подобие неточно переосмысленной строевой команды в нечто весьма похожее то ли на воодушевленное голубиное воркование, то ли на самозабвенное прихрюкивание.
– Мы все совершенно разные и ничем не похожи друг на друга, – разъяснял один из двух явно чувствительно-совестливых гостей – из числа троих совсем незнакомых, мелкий – хотя и с видами на будущее – рантье вполне достойного происхождения, чем-то, однако, очевидно, его как-то не до конца удовлетворявшего. – Поскольку в обществе, аллегорически выражаясь, сохраняется принцип деления на касты, мы должны взять на себя роль брахманов: не можем же мы все быть махараджами! Вспомните барельефы знаменитого Храма любви. Так вот, моей личной целью я считал бы достижение, так сказать, нулевой степени брахманизма.
– Кровь протухла! – столь же тоскливо, что и настойчиво: с глубоко безнадежными интонациями в голосе, но явно надеясь на что-то – совершенно невыразимое, никакими словами, говорил другой из этих двоих из числа тех же троих незнакомых. – Они добавят свежей крови. А потом – все вновь заскользит, как по тонко смазанным желчью рельсам, по одному и тому же, хотя уже и другому, замкнутому, теперь уж на два оборота, кругу.
Лицо его (которое скорее следовало именовать ликом) было бледно, а широко раскрытые глаза (тогда уж очи) – до того сосредоточенно-напряжены, что словно были обращены внутрь, куда-то в глубину его мятущейся души, и хотя его превосходительство, глядя на юношу, невольно прониксы неопределенным воодушевлением, слова его речей – в отличие от зачаровывающих интонаций, с которыми они произносились, – настраивали на бесконечно печальный лад; впрочем, ближе к середине беседы юноша этот вдруг перестал говорить вовсе, как если бы по какой-то неизвестной причине потерял всякий интерес к происходящему.
Третьим из трех незнакомцев был лохматый огненно-рыжий голубоглазый молодой человек, сразу внушивший его превосходительству некоторую безотчетную надежду неизвестно на что, но на что-то лучшее; однако, он только молчал, все время только молчал, хотя и с таким видом, будто разговаривал при этом – про себя, разумеется – с ангелами. (Впоследствии же генерал с грустью узнал о том, что молодой человек этот сначала принял постриг в монастыре, известном запасами вина в своих подвалах, кои и стал методично опустошать, приводя в отчаяние настоятеля, а затем сделался расстригой, после чего вскоре умер от неизвестной хворобы.)
Четвертым в этой троице незнакомцев был какой-то довольно смышленый южанин, не лишенный, на первый взгляд, вкуса, но явно завидовавший почему-то – видимо, неосознанно сознавая (случайную или неслучайную: вот в чем вопрос) недостаточность все той же пресловутой собственной природной яркости, которой по видимости недоставало и двум из трех младших генеральских дочерей, – рыжему, что бросалось в глаза, хотя в целом он скорее вызывал симпатию, несмотря на слегка коробящую плутоватость, которой не могли скрыть решительные попытки вступить в разговор, уклоняясь при этом от какого-либо высказывания.
Наконец, пятый из этой троицы, – в не столь отдаленном и в свой черед внезапно подступившем неотвратимом будущем сделавшийся барабанщиком в небольшом похоронном оркестре, невольно заставив генерала лишний раз изумиться тому, до чего тесен мир, даже если живешь в таком городе как Санкт-Петербург, – был откровенно омерзительным, хотя и сочетавшим в своем облике разнородные качества молодым человеком. В его взгляде с хамелеонской органичностью – или тогда уже по-шакальи – соединялись какая-то плотоядная наглость с какой-то же еще самозабвенной готовностью к демонстрации самого непристойного подобострастия.
– Ты занял правильную позицию, – говорил он, постоянно пытаясь осклабиться, выслушав очередной спич; или: – Ты занял неправильную позицию.
Ни его имя, ни фамилия, словно бы дополнявшие своим звучанием выражение его начинавших уже в этом возрасте зарастать бельмами, пока похожими на обрезки ногтей, маслянистых глазок, не запомнились. С другой стороны, наблюдать его, впрочем, было любопытно; глядя на него, на ум приходила какая-то поговорка: то ли «в семье не без урода», то ли «паршивая овца все стадо портит». Может, поэтому про себя хозяин и окрестил молодца «штабной крысой».
Были среди литераторов и девицы. Одну из них, чрезвычайно энергично и настойчиво убеждавшую окружающих, которые никак ей не перечили, сознавая, по-видимому, бесперспективность каких-либо возражений – до того она убежденно и как-то даже бескомпромиссно держалась, – что среди мужских персонажей гениального писателя едва ли не на каждом шагу обнаруживаются неузнаваемо завуалированные профанные художественные инкарнации Зюиса, генерал запомнил именно по металлическим интонациям в голосе, так как на другой день, спросив у дочери, собравшейся куда-то уходить и уже одетой, кто такой Зюис, понял вдруг, что внешность благородной институтки от него как-то совершенно бесследно ускользнула.
(– А-а, это… – наскоро разъяснила ему та, – это просто потому что она англоманка… она просто недавно прочла книжку "Мифы Древней Греции", вот он ей всюду и мерещится. Это верховный бог древнегреческого Пантеона. Громовержец и все такое… Часто принимал образ орла: а это фаллический символ, между прочим… – И она тонко усмехнулась, тут же, впрочем, отведя взгляд и заторопившись так решительно, что спросить о том, что значит "фаллический", он попросту не успел, только потом вспомнив, что забыл также узнать, что значит еще какое-то слово, потому что оно вдруг вылетело у него из памяти).
Генерал по просьбе дочери вышел в гостиную, когда молодежь уже находилась там, но до конца решающей беседы так и не понял, что Nicolas к литераторам никакого отношения не имеет и даже пришел не с ними: тот никак не вмешивался в ход разговора, а только молча с любопытством слушал и периодически улыбался, изредка при этом покусывая свои тонкие губы и удивленно, хотя и с небрежной иронией вскидывая брови.