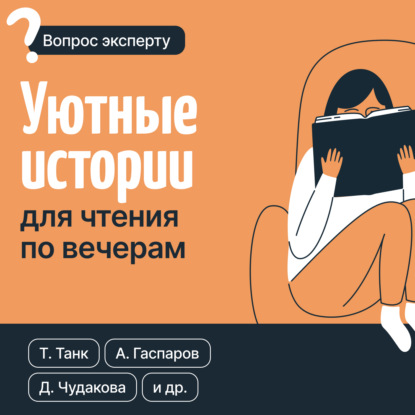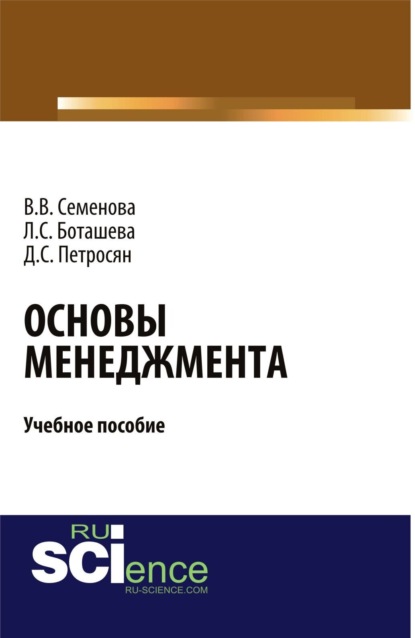«Мерседес», японская магнитола, вертолет и фонтан

- -
- 100%
- +
Когда один из гостей произнес звучную фразу о том, что художник во все времена соединял в себе два тела – духовное и физическое, а жизнь его становилась постоянным полем битвы этих тел, в помягчевшей суровой душе генерала словно бы произошел-таки некоторый перелом: отчасти, возможно, даже именно в смысле избавления и перехода. Очень удачным (или тогда уже – окончательно-роковым) нюансом послужило употребление более широкого и менее неприятного его превосходительству понятия художник (а не, к примеру, писатель), которое было воспринято им буквально: он необыкновенно отчетливо представил себе разнообразно-однообразные в своей неизменной торжественности портреты всяческих государственных деятелей и даже подумал, что не худо бы иметь свой собственный портрет – почему бы и нет? – а услыхав про постоянное поле битвы, так даже глубоко вздохнул от прилива энтузиазма. Правда, пассаж о соединении двух тел чуть было не испортил всего дела, ибо подобная фривольность генералу несколько претила и казалась в подобном контексте особенно неуместным проявлением того набиравшего тогда обороты либерального амикошонства, с которым он все же примириться бы не смог никогда (призыва вспомнить барельефы Храма любви он просто не понял, так как не знал, что речь идет о каком-то конкретном храме, и о каком именно, а подумал что о Храме Любви вообще, в символическом смысле, восприняв этот призыв просто как фигуру красноречия).
Позднее, когда дочь сообщила ему как о чем-то само собой разумеющемся, что финансирование нового издания должен взять на себя именно он, генерал пережил острейшее разочарование, и никакие азартно приводимые резоны материального порядка – о расчетах на несомненные барыши, которые якобы сулило благородное предприятие, не смогли бы убедить его превосходительство выступить в роли мецената, если бы не виды на устройство судеб трех младших дочерей, о чем прямо речь никогда не заходила, ибо на все есть свой манер. Словом, чтобы молодые люди могли начать издавать журнал, дом пришлось заложить, но после того как деньги были переданы шестой дочери, – чему, естественно, предшествовала еще долгая глубокая обработка генерала в направлении избавления и перехода, – свадьбы все же не последовало. Генерал пребывал в некотором тишайшем двойном шоке: бывает же такой штиль в самом центре тайфуна! После выхода первых же номеров счастливая дочь вместе с Nicolas уехала за границу, где в это время находился гениальный писатель, чье имя то и дело упоминалось на страницах нового журнала наряду с именем Пушкина, откуда-то не из литературы знакомым генералу: натыкаясь на него, он все никак не мог вспомнить, откуда именно. Барышей так же не последовало, штиль воцарился намертво, и хотя генерал не понимал, что означает все происходящее кругом, он даже удивлялся тому почти преувеличенному почтению, которое великосветские знакомые стали вдруг демонстрировать по отношению к нему: причем многие из тех, что держались ранее с едва уловимым пренебрежительно-холодным отчуждением, стали искать более близкого общения. В принципе, это было закономерно – а как же иначе? – учитывая его карьеру и славное прошлое, только вот до сих пор почему-то никак не начинало сообразно проявляться. Несколько озадаченный генерал непроизвольно стал менее высокомерен, а диаспора вдруг почему-то почувствовала себя виноватой и всячески старалась к нему как-нибудь подольститься, но здесь он оставался непреклонен. Вновь и вновь задумываясь о происходящем, его превосходительство ошеломленно, но осторожно приближался к выводу о том, что в этих новых людях возможно что-то есть этакое – он щелкал сухими пальцами, издавая тугой и звонкий треск, – и, гуляя в Летнем саду с массивной тростью в руках, с некоторым бодрым удовольствием, порожденным долгой приятной прогулкой на свежем воздухе, рассеянно повторял запомнившееся ему непонятное словосочетание, которое мелькнуло несколько раз во время пространных увещеваний: гетерогенные ряды, гетерогенные ряды, – представляя себе при этом просторный тщательно разлинованный плац и замерший в идеальной неподвижности строй безукоризненно-одинаковых солдат.
Примерно тогда же о пятой дочери в народе сложили песню, слова которой написал какой-то поэт (кто бы мог подумать, что литература настолько глубоко войдет в жизнь сурового генерала?) с то ли немецкой, то ли еврейской фамилией. Песня быстро приобрела популярность в Петербурге, а затем с поистине молниеносной стремительностью завоевала всеобщую известность и любовь не только в Москве, но и по всей Империи, включая Кавказ. Повсюду самые разные люди то и дело принимались петь в музыкальном сопровождении либо попросту напевать без оного:
Он был титулярный советник,
Она – генеральская дочь.
Диаспора находилась при последнем издыхании, и однажды генерал с усталым удовлетворением увидел во сне ее простертое пред ним ниц мерзкое туловище, покрытое исчерна-зеленоватой блестящей чешуйчатой слизью, и отвратительно вытянутые шеи были распластаны по растрескавшейся от зноя раскаленной земле (потому что дело происходило в какой-то бескрайней пустыне), а ужасные раскрытые пасти жалко ловили перегретый воздух, вывалив далеко вперед к самым генеральским сапогам обессиленные раздваивающиеся на концах лиловато-розовые языки. Выходило так, будто генерал каким-то неведомым образом – и даже едва ли не при помощи литературы, что при всей умозрительной убедительности увещеваний о необходимости избавления и перехода все же казалось ему в глубине несколько смущенной легкостью победы гордости фактом невероятным и двусмысленно-парадоксальным, – одолел-таки докучливое чудовище.
Проснувшись глубокой ночью, генерал вдруг смутно вспомнил, что никак не может вспомнить, откуда ему известна фамилия Пушкин. Однако, рассудив сквозь вновь стремительно окутавшую его полудрему, что это не так важно, снова уснул.
Теперь должно было в полной мере проявиться всегда свойственное его превосходительству благородство, которое – только это и было важно – лишь вследствие абсурдного хитросплетения дворцовых интриг поначалу и под бременем крайне неблагоприятного стечения обстоятельств в дальнейшем оказывалось не до конца востребованным до сих пор. И он решил выдать пятую дочь за этого самого титулярного советника, ночи напролет простаивавшего у парадного подъезда заложенного генеральского дома с непокрытой головой и держа в опущенной правой руке (левая была как правило прижата к сердцу), на среднем пальце которой чернильно синела затверделая от многолетних занятий служебной каллиграфией круглая мозоль, обшарпанную фуражку, – потому как всем было известно, что слова песни взяты из жизни (хотя бывает и наоборот): у того, в конце концов, были и свои достоинства: он, к примеру, в свободное от службы в департаменте время играл на валторне (знал военные марши), мечтал когда-нибудь, дослужившись до чина коллежского асессора, отправиться в кругосветное путешествие, чтобы своими глазами увидеть разные экзотические страны наподобие, как он сам говорил, то и дело карамельно поблескивая обычно потупленными глазами, Тринидада-и-Тобаго, и вообще… Поскольку барышей издание нового журнала не принесло никаких, дом пришлось перезакладывать. Одно утешало: теперь одним махом решался вопрос с пятой дочерью, совершенно плененной бескорыстной преданностью робкого однолюба-чиновника, который прославил ее на всю Империю, а заодно можно было облагодетельствовать того, раз и навсегда в духе времени опровергнув злобные наветы о безосновательности генеральского высокомерия генеральским же великодушием.
После того как дом пошел с молотка и поределое подобно строю после атаки семейство передислоцировалось из окрестностей Марсова поля на Васильевский остров, растолстевшая генеральша, у которой на лице начали пробиваться возрастные усики и бородка (редкие пока еще, но жесткие черные волосинки в некоторых случаях сами собой закручивались в микроскопические, тончайшие одиночные локоны), увлеклась гаданием на картах и раскладыванием пасьянсов, причем последние постепенно становились все сложнее и запутанней, так как заботы по воспитанию дочерей в количественном отношении резко сократились, и появилось свободное время. Генерал же, которого давно стали за глаза называть попросту дедом, поскольку в разных уголках Империи у него уже подрастали внуки, заметно помолодел: до того, что выглядел прямо-таки совсем другим человеком. С удовольствием погуляв на свежем воздухе, по вечерам он с наслаждением курил у камина длинный черешневый чубук, вспоминая о былых канонадах и сечах (последние особенно горячили ему в молодости кровь). Пасьянсы у жены сходились, окончательно раздавленная благородством генерала диаспора разлагалась, источая тошнотворно-сладковатую вонь и хотя бы теперь обещая принести некоторую пользу всей природе, удобрив продуктами своего закономерно-неизбежного распада почву для новых всходов истории, в мир которой генерал вроде бы наконец победоносно перешел из мира традиции. Когда однажды вечером все более усатая и бородатая год от года генеральша пожаловалась мужу, что очередной, наиболее сложный по сравнению со всеми предыдущими, пасьянс у нее никак не вытанцовывается, прервав при этом мирные милитаристские воспоминания супруга, он только с досадливым неудовольствием выдохнул дым ей в ответ, разрушив сложный ряд виртуозно выпускаемых до ее прихода концентрических колец дыма, равно как и поясов воздушного пространства, заключенных между каждой парой последовательных дымных окружностей, не пожелав ничего и слушать об этой картежной белиберде. Однако вскоре из-за границы иногда стали доходить не всегда приятные слухи.
После того как продавать уже было нечего, кроме разве коллекции чубуков, с которой генерал не согласился бы расстаться даже во имя осуществления проективного мышления, избавления и перехода, ибо традиционного чубука по вечерам он бросать в глубину потока истории со всеми ее тайнами никак не собирался, – потому что это было бы уже слишком, – журнал перестал выходить, так и не оправдав надежд на дивиденды. Когда же выяснилось, что воспетый благодаря его дочери при жизни и при жизни же облагодетельствованный им титулярный советник, в один год прожив полученные в приданое деньги, в силу какой-то извращенной совестливости, не дававшей ему по-человечески жить с женой, не чувствуя себя ей ровней и не умея обеспечить достойного в материальном смысле существования, оказался субъектом пьющим (изначальный подвох, как потом дознался генерал, заключала в себе на этот раз духовая музыка: тот военный марш, который будущий тогда еще зять некогда исполнил под балконом генералова дома, желая снискать расположение его превосходительства, оказался единственным известным ему военным маршем вообще; весь остальной его репертуар составляли – кто бы мог подумать! – пять маршей сугубо похоронных, исполняя которые, он, к изумлению тестя, все-таки отдававшего должное пусть и странному, но ведь многолетними неустанными репетициями выпестованному в себе умению, извлекал из своей валторны такие пронзительные щемящие звуки – кого угодно способные повергнуть в пленительную бездну унылого умиления, – что и впрямь хотелось первым делом – одним махом – заложить за воротник рюмку чистой как слеза охлажденной водки), – а после рождения дочерей-двойняшек постепенно стало понятно, что не банально пьющим, но безнадежно больным бдительно ото всех скрываемым тихим алкоголизмом, – генерал вновь напрягся.
Пытаясь понять, можно ли как-то поправить дела пятой дочери, он с возрастающим удивлением узнал о том, что титулярный советник в свободное от службы время исполнял столь любимые им похоронные марши не только solo у себя на квартире, просто для извращенного услаждения слуха, собственного и супруги (против чего, кстати сказать, нередко возражали трезвые соседи, по-видимому, недостаточно чуткие к возвышенно-скорбному строю духовой музыки), но и в составе небольшого похоронного оркестра, – с тамбурмажором которого (одиноким незаконнорожденным сыном кубанского казака, хваткого красномордого отставного подъесаула интендантской службы, и киликийской армянки, дочери подъячего с изящной англо-русской внешностью), некогда женившемся на цыганке-прорицательнице хромым вдовцом, жившем со слабоумной дочерью (жена его, беззаветно им любимая, умерла при родах сына, которого он потом еще много лет, возвращаясь с очередных похорон, горько жалуясь на одиночество, безбожно попрекал убийством матери, скрывая при этом ее происхождение: пока тот, узнав об оном происхождении, не бежал однажды от бесконечных отцовских жалоб и попреков среди ночи из дому с цыганским табором, пред побегом оставив рядом с родительской койкой снаряженный волчий капкан, найденный им среди прочего хлама в чулане, где он частенько прятался от предка, в который тот, проснувшись, и угодил, после чего стал сильно хромать на правую ногу), он еще будучи холостяком познакомился в трактире, – на похоронах, где музыкантам после погребения всегда подносили по обычаю поминальную стопку водки. Поскольку свободен от службы он бывал лишь по воскресеньям и праздникам, а бросить ради музыки департамент, где мечтал дослужиться до чина коллежского асессора и вовсе не выходить в отставку, не помышлял, исключительно по воскресеньям и праздникам же он и играл в похоронном оркестре (где барабанщиком – до чего все же тесен мир! – вдобавок, оказался тот самый некогда посещавший генеральский дом начинающий литератор с бельмами на глазах, которого дед тогда про себя окрестил «штабной крысой»); путано рассказывая обо всем тестю как на духу, он, между прочим, разъяснил даже, что играть на похоронах на Рождество всегда бывает зябко, так как не только распухает язык, но трескаются от мороза губы и мерзнут пальцы, а поэтому не выпить после погребения водки почти наверняка значит простудиться.
– А на Пасху? – спросил, на мгновение перед тем оцепенев от неожиданности, но тут же опомнившись, генерал, не понимая, для чего тот посвятил его еще и в подробности генеалогии и перипетии семейной жизни тамбурмажора (наверное, просто заговаривал зубы из присущей привычки к бдительной скрытности).
Но тот в ответ лишь молча потупил по-обыкновению карамельно поблескивающие глаза.
Сгоряча генерал тогда попытался было воздействовать на зятя сначала нагайкой, а затем увещеваниями насчет необходимости избавления и перехода, довольно неубедительно, по правде говоря, воспроизводимыми по памяти некогда зычным, но теперь уже просто резко-визгливым голосом, который то и дело срывался то на яростный громкий шепот, то на бессильный крик без видимого следа каких бы то ни было эмоций и вообще чего бы то ни было личностно-индивидуального (так мог бы свистеть и ветер в ушах), – но на того ни кнут, ни пряник ожидаемым образом не подействовали. И даже наоборот: от нагайки он получил небывалое мазохистское наслаждение, то ползая на коленях, то простираясь перед его превосходительством ниц, как некогда гидра диаспоры во сне, и стеная о том, что его-де ослепляет сияние арийского блеска, якобы исходящее от тестя, то усиленно пытаясь облобызать карающую генеральскую длань, умоляя бить посильнее и шепча с горячей дрожью в голосе, что между настоящими мужчинами всякое случается (что чуть было вновь не состарило помолодевшего деда, в конце концов все равно преждевременно состарившегося, уже по второму разу), а после увещеваний, хотя и малоубедительных в генеральском воспроизведении, зять, согласно кивая головой, торжественно поклялся, во-первых, выломать-таки, как он выразился, из департамента такой ломоть карьеры, чтобы уж точно вышла краюха вечности: дабы все-таки непременно – ну да, ну да, мрачно думал, слушая его, тесть – чин коллежского асессора, жевать-не-переживать, чтобы уже совершенно по-гоголевски (глядел он при этих словах и впрямь гоголем): ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей, а, во-вторых, – ну да, ну да (и речь его вдруг окончательно зажурчала в генеральских ушах, как у другого при долгом мелькании ярких огоньков могло бы зарябить в глазах) – непременно, когда-нибудь, генеральскую дочь, вместе с генеральскими внучками-двойняшками, в кругосветное путешествие, Гонолулу, Баб-эль-Мандебский пролив, Тринидад-и-Тобаго, ну да, ну да, привезти деду, к примеру, эстампы с видами древнеримской канализации, сладкозвучно токующего турецкого тетерева, нефритовые четки, каждая величиной с ягоду сушеного кишмиша, которые на досуге, размышляя о суетной бренности, можно бесконечно перебирать, одну за другой, или еще что-нибудь на память. В общем, ничего нового тесть от него не услыхал. На деле, к тому же, нахлынувшая на него волна стыда (хотя чего ж теперь было стыдиться, подавленно рассуждал сам с собой усталый ветеран, теперь уж следовало лучше взять в соображение, что мертвые, которых хоронили по воскресеньям и праздникам, не менее прочих достойны скорбных почестей в последнем пути: этим, с его точки зрения, вполне можно было утешиться, даже служа в департаменте) породила настоящее ответное алкогольное цунами (вот ведь посеешь ветер!), введя несчастного в такой глубокий и продолжительный запой, что выйти из него он уже не смог, сначала потеряв бдительность и бросив являться в присутствие, затем заложив в ломбарде валторну (что объяснял супруге намерением поменять амплуа и приобресть лучше флюгельгорн, который носить с собой легче) и угодив в конечном итоге под колеса какого-то роскошного экипажа – тоже в нетрезвом состоянии.
Вся история была, понятно, растянута во времени, так что мучения с пятой дочерью, чья судьба поистине оказалась квинтэссенцией несчастья, длились долго: дед то бессильно рвал и метал, то успокаивался в философически-предельной ярости. Узнав о разразившейся трагедии, он успел еще вспомнить, что надуманно-слащавая фамилия зятя-алкоголика никогда не внушала ему доверия, невзирая ни на какую бдительность (откуда берутся все эти тортовы? кто их изобретает? ведь в жизни таких фамилий быть не может – и не потому, что от них нет пользы Отечеству, а потому что их и самих-то нет, устало думал генерал, несмотря на то, что живой пример его покойного зятя неопровержимо доказывал обратное), хотя тот и был дворянином по происхождению. В этот-то момент и раздался звонок в дверь: на пороге стоял нарочный с телеграммой из Парижа от шестой дочери, которая умоляла прислать ей денег на обратную дорогу. Когда генерал прочел телеграмму, он почувствовал себя как во сне, не вполне еще веря, что оказался жертвой глубоко замаскированного и затяжного флангового обхода истории с ее соединениями тел и вечным полем битвы. Несчастный дед не вполне осознавал, что глубоко устал от всех этих литературных интриг, которые продолжались, несмотря на видимую гибель диаспоры, с каким-то неправдоподобным, безнадежным, бессмертным постоянством. Как во сне, он медленно подошел к генеральше. Она молча смотрела на него широко открытыми, неподвижными глазами, в которых застыл ужас. Он не испытывал ничего: ни ярости, ни отчаяния, ни боли от сознания собственного ничтожества, ни позора унижения. Он только молча протянул ей голубой листок телеграммы и как-то механически, не своим голосом, не в силах даже толком пошевелить губами – отчего казалось, что он презрительно цедит сквозь пожелтевшие от курения зубы, хотя это было и не так, – пробормотал в седые, но все еще пышные усы á-la покойный государь непонятные ей слова:
– Гетерогенные ряды.
После возвращения обесчещенной шестой дочери дед хотел было устало проклясть ее, но услышав жалобный рассказ о том, что она два раза падала от голода в обморок посреди шикарного номера сомнительной парижской гостиницы с зеркальными потолками в спальне, разрыдался как ребенок и предложил ей уйти в монастырь. Та поначалу молча не возражала, но, постепенно преодолевая затяжной приступ охватившей ее ипохондрии, стала затем вслух соглашаться. При этом сначала она произносила задумчивые слова о неизбежности расплаты и искупления, а затем – уже не столько соглашаясь, как просто туманно размышляя – не вполне понятные генералу фразы о якобы предстоящем солнечном затмении, приближение которого на самом деле и стало причиной всех ее неудач. В чем должна была заключаться суть этого затмения его превосходительство уловить никак не мог: то ли Луне предстояло отбросить тень на Солнце, то ли Земле суждено было попасть в тень Луны, то ли даже Солнце каким-то совершенно непостижимым образом должно было оказаться в тени Земли. Туманные дочерние объяснения казались деду белибердой похлеще гадально-пасьянсной абракадабры генеральши: он обреченно чувствовал, что астрология может оказаться ничем не лучше литературы, и явно ведет не к добру. В конце концов шестая дочь вновь вернулась к словам о неизбежности расплаты – на сей раз произносимым не столько задумчиво, как раздумчиво-угрожающе и с затаенной мстительной решимостью. Когда же генерал после обычной прогулки в очередной раз заговорил о монастыре, она спокойно и твердо заметила ему, что в момент затмения хорошо бросать курить, а затем – в ответ на его скептическую улыбку – устроила бесконечную дикую сцену с криками, визгами, слезами, почему-то попреками куском генеральского хлеба и битьем дорогой посуды.
– Все пропало! – кричала она. – Все пропало! Как вы не можете понять?! Журнал теперь будут издавать… Суворин и Победоносцев! Кругом – они! Они! И их прихлебатели! Эта жизнь бессмысленна! Эта страна обречена!
Сцена эта продлилась почти до полуночи и лишила его даже последней традиционной радости вечернего чубука, после чего он почел за благо оставить ее в покое (пускай себе беснуется) именно ради чубука, а растолстевшая генеральша еще долго вздыхала о вдребезги разбитой дорогой посуде, начав, на всякий случай, прятать подальше от шестой дочери свои карты.
Коварный искуситель оставался где-то за границей, и оправившаяся в преддверии затмения от приступа ипохондрии шестая дочь генерала сгоряча сошлась с прежними знакомыми ненавистного возлюбленного – то ли в стремлении самолично заполнить временно опустевшее место мнимого солнца, то ли просто реализуя всегда ей присущую азартную общественную активность. Пустившись во все тяжкие, она стала лихорадочно посещать чем дальше, тем все более бессмысленные либеральные собрания, где горячие обсуждения общественных вопросов и разгоряченные занятия литературой нередко затягивались до глубокой ночи, а то и до рассвета, а горячительные напитки зачастую как масла в огонь подливали: в общем, страсти кипели вовсю. Либеральная свистопляска достигла небывалого размаха, что отчасти уже даже забавляло повергнутого в уныние деда, который, наконец, понял, что негласным лозунгом окончательно эмансипировавшейся шестой дочери стал безответственный принцип: чем хуже, тем лучше. Ни в общественную, ни в личную ее жизнь его превосходительство не вмешивался (чем бы дитя ни тешилось): одно и другое так тесно переплелось, что многие тогда действительно оказались зачарованы как лунатики (по-видимому, она все же по-своему отражала в их кругу голый зад отсутствующего центра событий, по которому с точки зрения генерала безусловно давно плакал шомпол, – как зеркальный потолок в сомнительной парижской спальне, памятной голодными обмороками). Эмоционально размышляя обо всем происходящем, во время одной из обычных прогулок по Невскому проспекту некогда сановитый ветеран свернул зачем-то к скверику перед Михайловским дворцом.
Погода стояла сухая и прохладная: обычный облачный будний день. Уже свернув с проспекта, он очнулся от своих раздумий, поймал себя на том, что слишком перевозбужден, и пожалел, что не купил какой-нибудь крендель – или сайку – в Елисеевском магазине, когда проходил угол Малой Садовой: в аллеях скверика стояли удобные парковые скамьи со спинками, и туда слетались голуби и воробьи, которых можно было покормить крошками. Вспомнив о том, как давно уже не заглядывал в этот чудный и всегда полупустынный уголок в самом центре города, генерал поначалу даже не поверил своим глазам, когда увидел прямо посреди сквера какую-то скульптуру на высоком постаменте и толпу вокруг памятника, которого прежде здесь не было. Только тогда он с горечью и неудовольствием осознал, что просто устал и хотел немного посидеть в одиночестве на свежем воздухе, чтобы не думать о том, до чего все кругом переменилось. Он едва не развернулся обратно, чтобы взять на Невском извозчика и поехать домой, но почему-то решил все же дойти до сквера и посмотреть поближе, что именно там происходит и не найдется ли в какой-нибудь из аллей все-таки свободная лавочка, где можно хотя бы слегка передохнуть.
В запряженных тройкой темновато-серых немецких дрожках, которые стояли на брусчатке перед самым входом на центральную аллею, он заметил черноусого смуглолицего полковника в черкеске с золотыми погонами, в пенсне и сдвинутой на затылок лохматой папахе. Тот сидел, как-то странно сгруппировавшись: опираясь подбородком на сцепленные на ручке вертикально установленного между ног, колени коих были слегка раздвинуты, палаша в инкрустированных серебром ножнах. Конец палаша упирался между каблуками сапог в серебряных же шпорах и генерал с неудовольствием подумал, что род войск при такой форме обмундирования трудно разобрать. Полковник, которому пенсне придавало высокоморальный вид какого-нибудь бывшего синолога, а сдвинутая на затылок папаха – напротив – разухабистости, неподвижно сидел, уставясь немигающим взглядом в пустоту над козлами, потому что на козлах, к тому же, не было ни берейтора, ни вообще кого-либо: черт знает что такое!