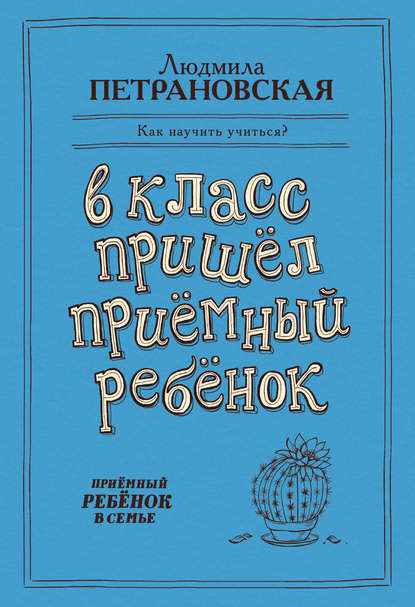«Мерседес», японская магнитола, вертолет и фонтан

- -
- 100%
- +
Раздраженно обойдя гнедых, он с достоинством вошел в центральную аллею сквера, брезгливо метнул исподлобья взгляд на то ли подмастерьев, то ли приказчиков, которые в картузах с глянцево поблескивавшими черными козырьками лузгали семечки, сидя на спинке первой же скамьи и сплевывая лузгу прямо под ноги: на сиденье, испачканное их же сапогами, – и пошел дальше. На спинке следующей скамьи тоже сидела молодежь. На сей раз это были студенты в шинелях и фуражках с кокардами, отхлебывавшие пиво прямо из горлышек бутылок, и между ними – девицы в манто и с муфтами, причем одна из розовощеких девиц курила папироску, а приличные с виду люди, что стояли в аллее чем ближе к памятнику, у подножия которого кто-то произносил речь, тем плотнее, не обращали на молодежь никакого внимания. Подавленно вздыхая и стараясь никого не задевать, его превосходительство постепенно подобрался в толпе почти к самому центру, чтобы послушать, что говорит оратор, и вообще понять, кому здесь установили памятник.
– Пушкин – это наше все! – выхватил его слух из потока речи оратора первым делом, когда, наконец, он остановился, переводя дух и стискивая в руке набалдашник трости, потому что дальше люди стояли сплошь и протиснуться было немыслимо.
Не говоря уж о том, что его превосходительство не тотчас понял, при чем тут опять Пушкин, – о том, что речь произносил не кто иной как гениальный писатель, он узнал лишь по возвращении домой, да и то на другой день: от шестой дочери, которая, как выяснилось, тоже находилась там в толпе, хотя ни он ее, ни она его в многолюдии этом не видали. Он попытался было иронически переглянуться со стоявшими рядом, но понимания в этой тесноте не нашел никакого: дама слева демонстративно поджимала губы и задирала голову, как бы холодно давая понять, что всячески стремится поверх голов повнимательней смотреть на оратора из-под своей вуали, а усатый дородный мужчина справа несколько раз недовольно кашлянул, не поворачивая к нему профиля; к тому же сзади на него зашикали, попросив не вертеться и назвав при этом «любезнейшим». Чувствуя, что его охватывает небольшой приступ клаустрофобии, хотя дело и происходило в открытом пространстве, генерал поднял взгляд к собственно статуе. Дышать с призадранным лицом было как-то полегче; изваянный в чугуне образ показался ему отдаленно знакомым: именно лицо с бакенбардами, а не благопристойного покроя сюртук длиной где-то по колено и не слегка откинутая в сторону, выходило, Зимнего дворца рука, – жест не был знакóм точно: то есть с тем, что было знакомо в образе, не увязывался. Чувствуя себя все более неуютно, генерал пожалел уже, что не повернул обратно на Невский, завидев эту толпу, и, дождавшись приличия ради окончания речи (при этом по мере с каждой минутой все более тягостного ожидания его вдруг постепенно, но неотвратимо нарастая стало охватывать тревожное чувство какой-то отчасти даже особенной странности происходящего: ему стало казаться, что все это происходит не то чтобы не с ним, но не здесь и не теперь), стал из нее выбираться, вызывая всеобщее неудовольствие.
Выбраться из толпы оказалось еще труднее, чем втиснуться туда, и его превосходительство, стараясь все же сохранить чувство собственного достоинства, клял себя за любопытство почем зря. Чтобы не подавать виду, до чего он выбит из колеи, генерал непроизвольно перешел на почти строевой шаг, ритмично вскидывая при этом наконечник трости и стараясь держать голову особенно прямо: осанка его, несмотря на возраст, оставалась безукоризненной. Не обращая внимания на гогочущих студентов с пивом и девицами, он даже ухмыльнулся было, поравнявшись то ли с подмастерьями, то ли с приказчиками (наверно, среди них были как одни, так и другие). Кто-то из этих детин, спрыгнув со спинки скамейки на гальку аллеи, отбивал перед остальными чечетку и задорно припевал:
– Ай да Пушкин, ай да Пушкин, ай да Пушкин,сукин сын!
Однако, в следующее мгновение внимание его привлекла небольшая пестрая стайка цыган, окруживших немецкие дрожки с сидевшим там орлом полковником без берейтора на козлах и с неестественно приподнятым – теперь очевидно было еще и это – задком.
– Румынские лавры! – кричали наперебой цыгане. – Румынские лавры! За пятак! За пятак!
Они галдели настолько вразнобой, что генералу сначала слышалось то «запятая», то «запятнал», прежде чем он точно расслышал «за пятак». Озадаченный тем, что кочевники, оказывается, теперь стали торговать пряностями в самом центре столицы на манер каких-нибудь ярмарочных коробейников, он вдруг усумнился, не кричат ли варвары-латиняне «ларвы» или «лары». Возраст все же давал себя знать: он стал туговат на ухо. В одном только сомнения не оставалось: это был памятник Пушкину.
Выйдя на Невский в близком к смятению состоянии духа (кроме всего, он почувствовал потребность посетить на минуточку то место, куда царь ходил пешком), он задрал трость и сварливо выкрикнул:
– Извозчик!
Вдоль всей галереи Гостиного двора на противуположной стороне проспекта у тротуаров теснились коляски, кареты, дрожки и прочие – самые разномастные – выезды. Кучера, извозчики и лихачи, подъезжая и отъезжая, орали друг на друга благим матом. Мимо него – со стороны Екатерининского канала в сторону Пассажа – прошли два человека, на внешность которых он не обратил внимания, услыхав за спиной лишь обрывок разговора.
– Согласитесь, что Шипка все же не является исконно российской территорией, – говорил один.
– Всякий раз, когда я слышу об исконных территориях, – отвечал другой, – я содрогаюсь. Возьмите хотя бы Крым…
Генерал с нетерпеливым раздражением высматривал, кто именно со стороны Перинных рядов, где экипажи стояли почти сплошь, пустится на его клич, но к нему неожиданно подъехало запряженное четверкой круглобоких рысаков просторное ландо, которое как-то мгновенно и плавно отделилось от цепочки обозом застывших в ожидании экипажей на этой стороне проспекта – от Пассажа и почти во весь квартал длиной. Он даже не тотчас понял, что это к нему: нет, чин есть чин, а Невский всегда Невский, но чтобы извозом промышляли на четверке! Однако, одетый в яркомалиновый нанковый зипун кучер в похожей на перевернутый вверх дном горшок шляпе с короткими твердыми загнутыми вверх полями на стриженой голове, повернув к нему бритое лицо, густым басом спросил:
– Куда изволите, ваше-ство?
В ту секунду, пока его превосходительство промешкал, прежде чем ответить, сначала из-под хвоста переднего левого коня в упряжи на мостовую упал ком навоза, а потом – как по команде – такие же комья один за другим повалили из-под хвостов переднего правого, заднего левого и, наконец, заднего правого рысака: надо же было до такой степени перекормить скотину! В очередной раз ошарашенный происходящим генерал поднялся в ландо.
С удовлетворением вытянув усталые ноги, его превосходительство наслаждался плавным ходом экипажа. Вочугуненный на высоком гранитном постаменте Пушкин посреди сквера перед Михайловским дворцом, пестрая орава галдящих цыган вокруг запряженных тройкой темных лошадок немецких дрожек с сидящим в них орлом полковником тогда уже – судя по шпорам на обоих сапогах – артиллерии, но при этом в черкеске, пенсне и сдвинутой на затылок папахе, обрывок разговора об исконных территориях прямо на тротуаре Невского проспекта, этот колоритный возница в этом яркомалиновом зипуне и в этой шляпе!.. Ощущение было такое, словно история, несмотря ни на что, продолжает твориться у него на глазах, как будто задавшись целью бесповоротно вовлечь его в свой ход – но при этом так, чтобы самой в нем раствориться без остатка. Как будто ни он без истории, ни история без него уже и существовать бы никогда не смогли: только вот никто кругом почему-то, похоже, не догадывался об этом! И чему тогда было удивляться? И чего ждать? И сначала по левую руку плавно проплыла навстречу великолепная полукруглая колоннада Казанского собора, потом по правую руку осталась пустынная Дворцовая площадь с величественным Александрийским столпом в самом центре – между Зимним дворцом и полуовалом фасада Генштаба, а затем ландо так же плавно и споро вкатилось на Дворцовый мост, который тоже быстро остался позади, и они поехали по Университетской набережной: мимо Кунсткамеры, Университета и Академии художеств. На противуположном берегу Невы золотой купол Исаакия привычно царил в пространстве между Сенатской и Исаакиевской площадями, между зданиями Сената с Синодом и Адмиралтейства, за Медным Всадником, над голыми кронами деревьев Александровского сада.
И тогда генерал вспомнил, откуда ему были знакомы курчавые волосы и пышные бакенбарды. В это было бы трудно поверить в любых иных обстоятельствах, но никаких иных обстоятельств не существовало, и потому первое, что вспомнил генерал, как бы нелепо все ни оборачивалось: уже и потому, что минуло с тех пор – шутка сказать – мало полвека, – это полупрозрачные обтягивающие панталоны на камер-юнкере, который вальсировал на императорском балу с его женой, одетой в свадебный наряд (хотя, разумеется, уже без фаты). Как это нередко случается, все столь же внезапно, сколь и незаметно, связалось и встало на свои места во всей своей неопровержимой ясности, хотя чего-то и не хватало, и лишь дома генерал понял, чего именно. Узнав о его женитьбе, государь тогда пожелал, чтобы на императорском балу присутствовала его юная супруга в национальном наряде. Генерал был польщен, и она действительно надела свадебное платье, в котором блистала редкой целомудренной красотой. Генерал и теперь помнил, как она умела опускать глаза, полуприкрывая шелковистые ресницы! Генерал не помнил уже, зачем он так срочно тогда понадобился Бенкендорфу, не помнил даже точно, был ли это Бенкендорф или Нессельроде, – но факт оставался фактом: ему пришлось на несколько минут оставить ее в компании четы одного знакомого действительного статского советника с двумя дочерьми, которым она была ровесницей. Он не мог вспомнить, о чем был разговор (может, это был даже Милорадович, и даже скорее всего именно он), но ничего особенно важного сказано не было: он точно помнил, что удивлялся, возвращаясь к оставленной на попечение советничьей четы с дочерями жене, почему беседа не терпела отлагательств. Когда он вернулся, его ждал сюрприз: она танцевала вальс. Слегка нахмурясь, он стал оглядывать вальсирующих, без труда разглядев ее в противуположном конце залы, откуда партнер, кружась, постепенно подводил привлекавшую множество любопытных взглядов партнершу обратно к… И генерал вдруг вспомнил, как в одно мгновение ощутил себя в самом центре всеобщего внимания. Чувствовал он себя в тот миг совершенно так же, как если бы скакал во весь опор во время кавалерийской атаки сквозь разрывы шрапнели. Невозможно было сосчитать, сколько пар глаз одновременно перескакивали с него на вальсирующих, и снова на него – и опять на вальсирующих: шрапнель! И ведь одно дело виртуозно скрадывавшие безмолвный грохот этой шрапнели подобные взмахам лисьих хвостов, путающих погоню, веера, – но лорнеты! С исчерпывающей ясностью генерал – не понимал даже, а просто-напросто видел, что центром внимания прежде всего была не целомудренная красота его юной супруги, а полупрозрачные панталоны ее партнера, и уж затем – удваивая и обостряя всеобщее скандальное любопытство – она в своем свадебном наряде, а его собственная персона лишь утраивала остроту ощущений великосветской сволочи. Охватившую его вспышку ярости невозможно было бы передать никакими словами. Вальсирующие были уже совсем близко, когда он, словно бы что-то почувствовав, посмотрел в сторону свиты и встретился взглядами с государем: тот глядел на него с холодным любопытством и невозмутимой иронией. Генерал перевел дух, едва совладав с собой: о, если бы это происходило не на императорском балу! В тот момент, когда его юная супруга с неприлично разрозовевшимися щеками и блестящими глазами делала книксен, а полуголый танцор элегантно кланялся, пожирая ее глазами, генерал резко поворотился, как бы становясь к ней боком и почти спиной к нему: настолько резко, что сабля, описав небольшую дугу, хлопнула камер-юнкера фухтелем по ляжке. Генерал тут же положил руку на эфес, что было жестом не только двусмысленным, но и весьма многозначительным, и развернулся, прищелкнув каблуками, к танцору. Тот, однако, уже проворно удалялся, поправляя фалду фрака.
– Прибыли, ваше-ство! – услышал генерал густой бас возницы, только тут осознав, что, погрузившись в свои воспоминания, не заметил, как ландо остановилось перед подъездом его дома.
Чего-то, однако, недоставало: какого-то завершающего открывшуюся ему картину истории штриха, какого-то последнего звена, способного окончательно все связать воедино. Словно бы оставалось некое неуловимое сомнение, которое следовало развеять… И он, ни разу не останавливаясь на лестнице, чтобы передохнуть, стремительно поднялся к себе на пятый этаж. К изумлению генеральши, которая встретила его, светясь тихой радостью, сообщением о том, что на обед у них жареная индейка, там он первым делом, наскоро облегчившись, достал наугад из книжного шкапа том Пушкина из десятитомного собрания сочинений, купленного некогда младшей дочерью, заранее предупредившей мать о том, чтобы к обеду ее не ждали, открыл титульный лист с репродукцией портрета автора, удовлетворенно усмехнулся, покачав головой, и удалился к себе в кабинет.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.