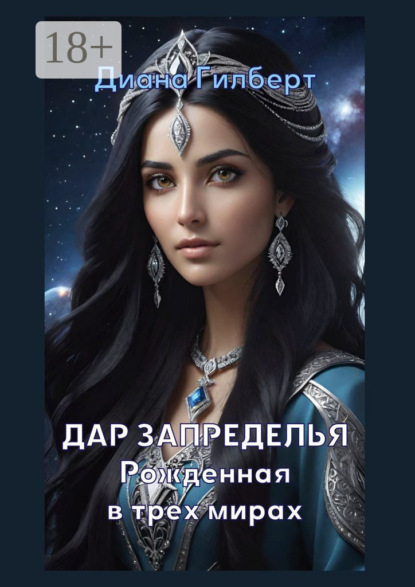От Заката до Рассвета

- -
- 100%
- +
Все совсем не так, как мы думаем вначале. Жизнь – это книга, написанная задом наперёд, и мы понимаем её смысл только тогда, когда читать уже поздно. Вчера я купил ту самую собачку из «Роспечати» – ту, что швырнул когда-то в лужу. Купил в том же магазине, что пах детством и мечтами, которые продавались по двадцать рублей за штуку. Она всё ещё пахнет дешёвым пластиком, как тогда. Пахнет тем временем, когда счастье стоило двадцать рублей, а любовь мамы казалась чем-то само собой разумеющимся. Теперь она лежит у меня в кармане, и я нажимаю на неё, но она не гавкает. Молчит, как молчит всё, что мы ломаем в детстве и пытаемся починить во взрослой жизни. Только под рёбрами отзывается глухой лай. Лай той боли, что выла в луже детства, когда мама лезла за игрушкой, а я стоял и плакал от стыда. Тот, что выл в луже, когда ты, мама, полезла за ней, смеясь. Смеясь не над моей глупостью, а от радости – радости видеть, как я учусь исправлять ошибки. Теперь этот вой стал моим голосом, словно ржавая пружина в часах, остановившихся вчера на том самом мгновении, когда я понял, что уже поздно просить прощения. Мама, ты ведь помнишь, как называла меня своим маленьким фонариком? Фонариком, что светил всем, кроме себя самого. Тогда я не понимал, что фонарики тоже перегорают. Не понимал, что у света есть источник, и этот источник – не вечен. Ты не знала, что мои батарейки съедает тьма. Тьма, что жила во мне с рождения, как червь в яблоке, пожирающий его изнутри. Что провода – это мои вены. Вены, по которым текла не кровь, а электричество чужой надежды. Что пластик – это мои кости. Кости, ломкие и искусственные, что трескались от каждого неосторожного слова. А стекло – кожа, трескающаяся от каждого «ты справишься». Кожа-линза, что фокусировала чужую боль в одну точку – в моё сердце.
«Папа, расскажи ещё раз сказку про луковицу», «Поиграй со мной», «Помоги мне написать эссе» – вспоминаю я. Вспоминаю голосом того ребёнка, что верил: папа знает ответы на все вопросы, а время – это игрушка, которой можно играть бесконечно. Ты мне никогда не отказывал. Никогда не говорил «потом», «устал», «не до тебя» – слова, которыми я научился отказывать себе. Мы стали похожими. Похожими, как два зеркала, отражающих друг друга в бесконечность. Во всём. Я всегда ровнялся на тебя. Ровнялся, как компас на север, не понимая, что иду в сторону собственного полюса холода. Иногда думаю, что не стоило… Не стоило так слепо копировать того, кто сам искал свой путь в темноте. Папа, помнишь эту сказку про луковицу? Помнишь, как ты рассказывал её голосом, полным мудрости, которую я понял только теперь, когда уже поздно её применять? «Каждый слой – это этап жизни», – говорил ты. Говорил, не зная, что я запомню эти слова как инструкцию по саморазрушению. Я содрал с себя все слои, как лепестки с одуванчика, пока не остался голый стебель. Содрал в поисках себя настоящего, не понимая, что я и есть все эти слои вместе взятые. Но внутри ничего не нашёл. Ничего, кроме пустоты, что эхом отзывалась на каждый мой вопрос. Вместо семян – пустота. Пустота, что должна была быть полна жизни, но оказалась полна только ветра. Теперь внутри сквозит ветер. Ветер, что поёт песни о том, кем я мог бы стать, если бы не боялся быть собой. Пустота разрастается и жжёт. Жжёт, как кислота, разъедающая стенки души. Жжёт, как йод на ссадине, которую ты мазал мне, когда я упал с велосипеда. Мазал, приговаривая: «Потерпи, солнышко, сейчас пройдёт», не зная, что некоторые раны не заживают, а только учатся притворяться зажившими. Ты говорил: «Заживёт». Но эта – не заживёт. Эта рана – размером с мою жизнь, и лекарства от неё не существует. Она теперь – мой второй скелет. Скелет из боли, что держит меня в вертикальном положении, когда душа уже давно лежит. Папа, вчера я перечитал эту сказку. Перечитал и понял то, чего не понимал в детстве. Сеньор-Помидор не был злым. Он просто боялся, что его съедят. Боялся того же, чего боюсь я – быть использованным до последней капли и выброшенным, как кожура. Как и я.
Вы – лучшие родители, которых я только мог пожелать. Лучшие не потому, что идеальные, а потому, что настоящие. Я люблю вас больше всего на свете. Люблю той любовью, что болит, но не может остановиться, как сердце, что бьётся даже тогда, когда хочется, чтобы оно остановилось. Я не ожидаю, что вы поймёте мой поступок. Не ожидаю, потому что сам его не понимаю – понимаю только то, что по-другому не могу. Вы, наверное, думаете, что не углядели за мной. Думаете, что где-то пропустили сигнал, не заметили крик о помощи. Это не так. Я кричал молча, плакал смеясь, умирал живя – и вы не могли этого знать, потому что я не хотел, чтобы знали. Мама, ты однажды полезла за этой собачкой в лужу. Полезла без раздумий, как лезешь за утопающим, потому что для тебя моя глупая игрушка была частью меня. Ты не ругала меня, а смеялась. Смеялась, и в этом смехе была вся твоя любовь – безусловная, прощающая, целительная. Да, были и трудные моменты. Моменты, когда казалось, что мир рушится, а мы – последние люди на земле, держащиеся за руки в темноте. Некоторые повлияли на меня так сильно, что изменили навсегда. Изменили, как землетрясение меняет ландшафт – на поверхности всё по-прежнему, а глубоко внутри – трещины, что никогда не заживут. Но я вырос и попытался познать этот мир. Познать и понять, найти в нём место для себя, не понимая, что это место нужно не искать, а создавать. Сейчас вы, скорее всего, плачете и вините себя. Плачете слезами, в которых растворена вся ваша родительская боль. Прошу, не думайте, что вы виноваты. Вы не виноваты в том, что дали мне слишком много любви, а мир дал слишком мало. Спасибо вам за то, что учили меня жить. Учили не словами, а примером, не правилами, а любовью. Поддерживали во всём. Поддерживали, как две колонны поддерживают мост, не зная, что мост может рухнуть не от слабости опор, а от тяжести того, что по нему идёт. Играли со мной. Играли, как умеют играть только родители – всерьёз, самозабвенно, превращая квартиру в космический корабль, а ванну – в океан. Баловали едой, игрушками в детстве. Баловали не вещами, а вниманием, не подарками, а временем, которого у вас было мало, но которое вы дарили мне без остатка. За все светлые моменты. За те моменты, что стали маяками в море моего отчаяния. Помните наш старый фонарик на даче? Тот, что висел в сарае между граблями и лопатами, как талисман нашего детства? Он всё ещё висит в сарае. Висит и ждёт, когда кто-то снова возьмёт его в руки. Иногда мигает, когда дует ветер. Мигает, как я – непостоянно, слабо, но упорно напоминая о себе. Как я.
Хотел бы я, чтобы этот мир был хоть чуть-чуть светлее. Светлее не от солнца, а от человеческой доброты, что горит, как свечи в окнах. Точнее, люди, живущие в нём. Люди, что разучились видеть друг в друге себя. Однако никто не виноват. Никто не виноват в том, что мир устроен так, а не иначе. Только я сам. Только я, решивший, что лучше уйти, чем остаться и бороться. И моя слабость. Слабость, что я принимал за чувствительность, а чувствительность – за проклятие. Будет несправедливо просить вас жить дальше и оставаться счастливыми. Несправедливо требовать от вас того, что не смог сделать сам. Вы и так не были особо счастливы. Ваше счастье всегда было хрупким, как утреннее стекло, покрытое инеем. Ребёнку совсем не трудно увидеть ваши проблемы. Увидеть то, что взрослые прячут за улыбками, но что читается в уставших глазах. С каждой трудностью я всё больше понимал, что наша жизнь абсолютно неподвластна контролю. Что мы – листья на ветру, что думаем, будто летим, а на самом деле просто падаем. В ней так много чёрного цвета… Чёрного, как ночь, в которой мы все ищем звёзды. и боли. И боли, что стала фоном, на котором разыгрывается спектакль жизни. Плохое изо дня в день обрушивается на нас. Обрушивается, как дождь, что не может остановиться. Скажу одно: я был счастлив иметь таких родителей, как вы! Счастлив той единственной формой счастья, которую умел чувствовать – счастьем любить.
Дорогие друзья. Друзья мои, спутники в этом путешествии, что называется жизнью. Мы растём и погружаемся в бесконечную суету дней. Суету, что поглощает нас, как зыбучие пески поглощают путника. Мы выживаем, но не живём. Выживаем, как растения в теплице – защищённые от бури, но лишённые ветра. Как муравьи, строящие башню из песка в урагане. Строящие, не понимая, что ураган – это и есть жизнь, а башня из песка – наши иллюзии. И даже понятия не имеем, как это – жить. Как это – дышать полной грудью, а не глотать воздух, как тонущий. У нас появляется что-то хорошее, но мы не знаем, что с этим делать. Не знаем, потому что нас учили бороться с плохим, но не учили радоваться хорошему. А потом всё это уходит, оставляя просторы для тьмы. Тьмы, что всегда ждала своего часа в углу нашего сердца. Вы не всегда делились своими глубокими переживаниями. Не делились, потому что боялись стать обузой, не понимая, что молчание тяжелее слов. Я знал, что они терзали вас. Знал по тому, как вы смеялись слишком громко или молчали слишком долго. Было видно. Видно тому, кто сам носил такую же боль и узнавал её в других, как собратьев по несчастью. Поэтому я всегда старался быть сильным и позитивным для вас. Старался быть тем солнцем, которого не хватало в ваших серых днях. Однажды помощь людям стала смыслом моей жизни. Стала той единственной вещью, что заставляла меня просыпаться по утрам. Это был прекрасный этап, которым я горжусь. Горжусь, потому что тогда я был нужен, тогда моя боль имела смысл. И этап, о котором я сильно жалею… Жалею, потому что научился спасать всех, кроме себя. У меня было много проблем и ещё больше переживаний. Переживаний, что росли, как сорняки, заглушая все попытки вырастить что-то светлое. Я преодолевал их, чтобы иметь силы помочь. Преодолевал, как атлет преодолевает боль, не понимая, что боль может стать хронической. Чтобы показать миру, что, помогая друг другу, мы можем быть счастливы. Показать то, во что верил всем сердцем, но что не мог применить к себе. Я делал всё, что было в моих силах. И даже больше – делал то, что было за пределами моих сил. Но мой путь – сама бессмысленность. Путь того, кто раздавал себя по кускам, не оставив ничего для себя. Кто-то из вас учил меня жить и помогал в трудные минуты. Учил не нотациями, а примером, не советами, а присутствием. Вы повлияли на то, кем я стал. Стал мостом между вашей болью и надеждой. Благодарю вас. Благодарю за то, что позволили мне почувствовать себя нужным.
Друг, если ты это читаешь – я рад, что ты тогда не прыгнул. Рад, что ты выбрал остаться, даже когда казалось, что уходить легче. Но почему я не смог попросить тебя о том же? Почему я умел спасать, но не умел просить о спасении? Мы оба знаем ответ: в твоём кармане – такая же собачка. Собачка, что молчит, как моя совесть, что перестала лаять на мои ошибки. Твоя тоже молчит, как моя совесть. Молчит, потому что слишком много кричала, и голос сорвался. В моём кармане – билет на каток. Билет, что я купил месяц назад, как покупают надежду – не веря до конца, но надеясь. Я купил его месяц назад, но так и не решился позвать тебя. Не решился, потому что боялся увидеть в твоих глазах то же, что видел в зеркале. Лёд – он как зеркало. Зеркало, в котором отражается не лицо, а душа. Боишься увидеть, что под ним – ты сам, замёрзший в позе «прости». В позе того, кто просит прощения у жизни за то, что не смог её полюбить.
Что-то пошло не так. Что-то сломалось в механизме, что должен был перекачивать счастье в мою жизнь. Без подзарядки невозможно дарить энергию. Невозможно светить, когда внутри темнота, невозможно греть, когда сам замерзаешь. Я был островом. Островом, к которому приплывали корабли чужих проблем, но который сам никогда не видел берега. Сушей, которую обтекают, боясь причалить. Боясь узнать, что под зелёной травой – только камни и песок. Я искренне прошу вас: следите за теми, кто вам дорог. Следите не как надзиратели, а как садовники – внимательно, заботливо, терпеливо. За теми, с кем вы общаетесь. За теми, кто рядом, но может быть бесконечно далеко. За теми, кем дорожите. За теми, кто дорог вам, но может не знать об этом. Возможно, сейчас вы даже не понимаете, как они важны для вас. Не понимаете, потому что привыкли к их присутствию, как к воздуху. Но завтра… Завтра всё может закончиться. Закончиться, как песня, что оборвалась на самой красивой ноте. И тогда это ударит вас, как разряд дефибриллятора. Ударит током осознания того, что вы не сказали главного. Будет уже поздно. Поздно для слов, поздно для объятий, поздно для всего, кроме слёз. Помните, кому-то рядом с вами может быть очень плохо. Плохо настолько, что он уже не верит в возможность хорошего. А ваше слово или внимание может спасти. Может стать той соломинкой, за которую хватается утопающий.
Я размышлял о ценностях, морали, справедливости, смысле жизни. Размышлял, как философ в башне из слоновой кости, не зная, что ответы лежат не в книгах, а в простых человеческих прикосновениях. Ставил цели, верил в Бога, познавал, трудился. Делал всё, что должен делать человек, ищущий смысл. Как слепой о цвете заката. Как глухой о музыке сфер, как немой о поэзии. Но для чего? Для чего все эти поиски, если в конце пути оказывается, что идти было некуда? Ответа нет. Нет, как нет ответа у эха в пустой комнате. Только ветер, свистящий в рёбрах пустого фонаря. Ветер, что поёт песню о том, что некоторые вопросы не имеют ответов. Никто не знает, зачем мы живём. Живём, как актёры в пьесе, сценарий которой никто не читал. Очень мало тех, кто задумывается об этом. Кто останавливается среди суеты и спрашивает: «А зачем всё это?» А если и думают, то вскоре отбрасывают эти мысли. Отбрасывают, как горячий уголёк, что обжигает пальцы. Мы просто живём, убегаем и прячемся. Живём на автопилоте, убегаем от тишины, прячемся от самих себя. Боимся делиться друг с другом тем, что чувствуем. Боимся, что нас не поймут, не примут, не полюбят такими, какие мы есть. Не можем решать проблемы вместе. Не можем, потому что разучились доверять. Закрываемся, когда они окутывают нас с головой, как омут. Закрываемся, как раковины, не понимая, что в изоляции жемчужины не рождаются.
Я понял важное: нужно перестать бояться. Перестать бояться жить, любить, ошибаться, быть собой. Перестать искать смысл, потому что его нет. Его нет в готовом виде – его нужно создавать каждый день, каждым выбором, каждым вдохом. Смысла нет ни в чём. Нет готового, предписанного, гарантированного. Сама жизнь настолько загадочна, непредсказуема и бессмысленна. Бессмысленна, как танец в пустой комнате, но от этого не менее прекрасна. Как и смерть. Смерть, что приходит без объяснений и не спрашивает разрешения. Терять нечего. Нечего, кроме иллюзий о том, что мы что-то контролируем. И решение остаётся за нами. За нами, единственными хозяевами своего выбора. Либо утопать в одиночестве, доживая свои дни в горе, либо попытаться стать счастливыми. Счастливыми не потому, что жизнь прекрасна, а вопреки тому, что она ужасна. Увы, мне не удалось смириться. Не удалось принять мир таким, какой он есть, и себя – таким, какой я есть. Я не имею права учить или давать советы. Не имею права учить жизни тот, кто от неё сбежал.
Ты спрашивала: «Когда ты купишь себе счастье?». Спрашивала голосом, в котором звенела надежда, что я когда-нибудь пойму: счастье не продаётся в магазинах. А я купил его за двадцать рублей – вот он, пёс из прошлого. Пёс, что стоил двадцать рублей, но был дороже всех сокровищ мира, потому что был куплен маминой любовью. Но сейчас он молчит. Молчит, как молчат все игрушки детства, когда мы перестаём в них играть. Ты была для меня солнцем, даже когда я перестал светить. Солнцем, что согревало, даже когда я превратился в чёрную дыру, поглощающую весь свет вокруг. Даже когда тучи закрывали тебя целиком, как крышка гроба. Как крышка того гроба, в который я сам себя загнал задолго до смерти. В каком бы ты ни была состоянии, грустна иль весела – ты дарила надежду. Дарила, как дарит свет маяк – не спрашивая, нужен ли он, просто светила. Я восхищался тобой каждый день. Восхищался той силой, что жила в тебе, той красотой, что не зависела от зеркал. Ты яростно сражалась с жизнью и судьбой. Сражалась, как воин, что знает: поражение неизбежно, но битва всё равно стоит того, чтобы её вести. Ты противостояла всем, кто вставал на твоём пути. Противостояла не злобой, а упорством, не ненавистью, а любовью к жизни. Это вдохновляло меня быть лучше для мира. Вдохновляло, как вдохновляет пример героя, но я не понимал, что герой должен сначала спасти себя. Ты сражалась, а я учился у тебя гореть. Учился, но не понимал разницы между огнём, что согревает, и огнём, что сжигает. Но моё пламя пожирало само себя – как паук, пожирающий свои лапы от голода. Как свеча, что плавит сама себя, давая свет другим. Хоть ты меня и не всегда понимала… Не понимала, потому что я говорил на языке боли, а ты отвечала на языке любви. Спасибо, что раскрасила мою чёрно-белую жизнь. Раскрасила красками, что я не умел видеть, звуками, что я не умел слышать.
Всё имеет свойство заканчиваться. Заканчиваться, как песня, как книга, как дождь. Ненавижу окончания… Ненавижу их больше самой смерти, потому что окончания – это маленькие смерти, что случаются каждый день. Даже спустя годы так и не смог отпустить. Не смог научиться прощаться, не смог понять, что держаться за уходящее – всё равно что держаться за дым. Ты – лучшее, что было в моей жизни. Лучшее не потому, что идеальное, а потому, что настоящее. Спасибо. Спасибо за каждую минуту, за каждый взгляд, за каждое слово, за каждое молчание.
Я не хочу прощаться… Не хочу, потому что прощание – это признание конца, а я всё ещё надеюсь, что это только пауза. Но не в силах понять. Понять, как жить в мире, где красота и боль идут рука об руку. Есть только боль. Боль, что стала моим вторым именем. Всегда. Всегда, как фоновая музыка в фильме ужасов. И всё так несправедливо. Несправедливо, что одним достаётся счастье, а другим – только его тень. Я хотел лишь взять всё в свои руки. Хотел стать хозяином своей судьбы хотя бы в последний момент. И сделал это. Сделал единственное, что было полностью в моей власти. Я не знаю, что меня ждёт. Не знаю, но надеюсь, что это будет тише, чем то, что я оставляю. Но мне пора. Пора туда, где не нужно притворяться сильным. Надеюсь, мы нескоро увидимся. Надеюсь, что вы будете жить долго и счастливо, несмотря на мой выбор.
Свеча на подоконнике – не прощание. Это вопрос, на который я не нашел ответа. Вопрос, что мерцает в темноте, как последняя надежда. Это азбука Морзе, которую я не смог расшифровать:
– -.– / -. . / – -.. .. -.
Но точки и тире унесло ветром. Унесло, как уносит всё, что мы не успели сказать. Остался только воск – белый, как мои несбывшиеся «завтра». Белый, как страницы книги, что так и осталась недописанной. Может, вы сможете найти ответ… Может, вы сможете прочитать то, что я не сумел написать.
Ты, наверное, всё ещё ждёшь ответа о моём счастье. Ждёшь, как ждут весну в самый долгий зимний день. Знаешь, если вдруг… Если вдруг есть что-то после, если вдруг мы встретимся снова… Прости, что не дописал. Прости за недосказанность, за недоделанность, за то, что ушёл, не объяснив до конца. Собачка всё-таки гавкнула. Гавкнула в последний момент, как будто поняла. Один раз. Только один – но этого хватило. Когда я уже отпустил свою кнопку. Отпустил всё, что держало меня в этом мире. Как будто хотела сказать: «Я здесь. Я помню». «Я помню того мальчика, что швырнул меня в лужу. Я помню маму, что выловила меня оттуда. Я помню твоё детство, твою боль, твою любовь. И я прощаю. Прощаю всё».
И в этом последнем гавканье было больше прощения, чем во всех моих извинениях. Больше любви, чем во всех моих словах. Больше понимания, чем во всей моей жизни.
Может быть, это и есть ответ на вопрос, зашифрованный в азбуке Морзе. Может быть, всё, что нам нужно – это помнить. Помнить и прощать. Прощать себя и других. Прощать жизнь за то, что она не оправдала ожиданий.
И тогда даже падение становится полётом. А молчание – самой громкой песней. А конец – новым началом.
Собачка замолчала. Но в этой тишине звучала вечность.
Просвет
Свинья, откормленная тьмой, не знает, что её сало – фитиль. Чиркни спичкой о душу – и сгоришь.
Тьма свинью кормит, фитиль ей даря,Сало не видит – оно уж в огне.Спичка души заискрится, творя,И в пламя канет во мрачной волне.
I. Кухня Забвения
В бесконечных скитаниях по мраку – мучительных, безнадёжных, необратимых – я растерял всё, что делало меня человеком. Нравственность истёрлась, как старый половник, годами скребущий дно закопчённых кастрюль человеческих душ, доброта сгнила, как картофель в подвале, где слёзы прорастают плесенью на стенах и питают личинок отчаяния, рациональность растворилась в едком дыму догорающих надежд, смешанном с копотью сожжённых писем к Богу.
Воля к смыслу? Её сожрали черви сомнений, оставив лишь труху того, кем я был когда-то, в другой жизни, под другим солнцем, когда ещё верил, что боль имеет смысл, а страдание – цель.
Вместо этого во мне поселились жестокость – холодная, как лезвие мясницкого ножа, которым режут не мясо, а время само, отсекая куски прошлого, зависть – липкая, как жир на сковороде, где шкворчат чужие радости, превращаясь в горелые комки ненависти, и кости, что скрипят чужими голосами, шепчущими: «Ты пуст, как выеденное яйцо, как скорлупа без птенца, как обещание без намерения его держать».
Воздух здесь живёт собственной жизнью, он дышит вместе со стенами – пропах детством: сладким, тёплым, но с привкусом палёного масла, что шипит на раскалённой плите памяти, где жарятся воспоминания до черноты. Рука сама потянулась к ржавой ручке – обожглась, кожа зашипела, как мясо на углях. Эта боль – единственное, что напоминает: я ещё способен что-то чувствовать, хотя каждое чувство здесь превращается в пытку.
У этой плиты меня нашли демоны. Они пришли не извне – они вылупились из разбитых яиц моих мечтаний, расплодились в забродивших остатках веры, выросли из спор, что я сам посеял, когда впервые усомнился в собственной ценности. Когда-то здесь кипели супы надежд – густые, ароматные, с лавровым листом веры, с костным мозгом материнских молитв, с тмином детских песен.
Теперь они варили меня. Каждый день – новый рецепт страдания, новая комбинация специй отчаяния. Каждый отрезанный кусок плоти отрастал заново, влажный и бледный, как тесто на закваске отчаяния. Регенерация проклятых – единственное чудо, которое работает безотказно, превращая каждое утро в воскрешение для новых пыток.
Мои дни – ржавые банки консервов с истёкшим сроком: вскрываешь, а там всё та же тушёнка – серая, вязкая, пахнущая железом и забытыми обещаниями, смешанными с кровью надежд, что текла из порезанных пальцев, когда я пытался собрать осколки разбитых иллюзий.
II. Анатомия Демонов
Первым ко мне подошёл Шеф-Повар Изнурения – существо, чьё лицо было мозаикой из кухонной утвари. Вместо глаз у него светились конфорки, синим пламенем пожирающие всё, на что он смотрел. Рот – мясорубка, которая перемалывала не только слова, но и мысли, превращая их в фарш бессмысленности. Его руки – ножи разных размеров: от тонкого филейного, что вырезает надежду, до широкого рубака, что отсекает связи с прошлым.
– Добро пожаловать в мою кухню, – прошелестел он голосом закипающего масла. – Здесь мы готовим деликатесы из человеческих душ. Тебя я буду готовить особенно долго, особенно тщательно.
За ним стоял Су-Шеф Безнадёжности – тварь с телом из переплетённых кишок, глазами-оливками и пальцами-шампурами. Когда он двигался, внутри него булькало что-то кислое, и каждый его шаг сопровождался хрустом ломающихся костей – не его, а тех, кого он готовил раньше.
– Этого нужно мариновать в собственных слезах, – прохрипел Су-Шеф, тыкая в меня пальцем-шампуром. – Видишь, как он ещё сопротивляется? Добавим щепотку унижения и дадим настояться в соку сожалений.
На полке, среди кривых половников и тупых ножей, словно музейная экспозиция человеческих неудач и сломанных судеб, стоял котелок. Его ручка – ржавая корка, как зарубцевавшаяся рана, что ноет в сырую погоду и шепчет имена всех, кого я потерял, кого предал, кого разочаровал.
Я потянулся к нему, но демон-Дегустатор Боли – карлик с головой в форме черепа и языком из наждачной бумаги рявкнул, брызжа слюной цвета застарелой крови, смешанной с желчью разочарования:
– Не трогай! Это не твоё! Ты даже не заслужил права прикасаться к инструментам своего мучения! – Его голос – скрежет вилки по эмали, по последней тарелке надежды, разбитой о стену реальности.
III. Откровение Повара-Безликого
Но он знал правду: в этом котелке когда-то бурлила жизнь – бульон из детских смехов и маминых сказок, приправленный солью счастливых слёз, загущенный мукой беззаботности. Теперь там варево смерти – чёрное, густое, с комками боли, которые не растворяются, сколько ни кипяти, словно окаменевшие сгустки отчаяния.