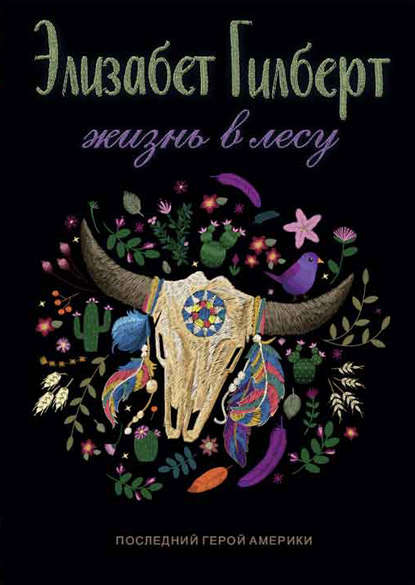От Заката до Рассвета

- -
- 100%
- +
Боялся понять, что в мире, где всё прекрасное умирает, сама красота становится предвестником смерти.
Но сейчас… в груди – только тишина. Странный, чужой покой. Откуда он? Я не знаю. Лишь чувствую: этот миг хрупок, как стекло, готовое разлететься от случайного звука… Или от двери, которая вот-вот распахнётся в никуда – туда, где кончается сон и начинается вечность. Туда, где все бабочки, когда-либо умершие, танцуют свой последний танец под музыку сфер.
Пчела – раскалённый снаряд – прочертила лицо одной огненной линией. Крылья, невидимые, как трепет ресниц, оставили след – жгучий, пульсирующий, будто пламя, запертое под кожей. Полоса от виска к губе горела так, словно в неё впитались воск, яд и само время. Словно пчела написала на моём лице последнее письмо природы человеку – прощальную записку, пахнущую мёдом и смертью.
Её брюшко – тускло-жёлтое, с полосами, переходящими в смоляную голову – чёрный маяк в расколотом мире. В её глазах-фасетках отражались тысячи миров, тысячи смертей, тысячи рождений. Она была летописцем вселенной, записывающим историю на крыльях ветра. Пчела была послом смерти, её жало – печатью на документе о капитуляции. Но даже в этой капитуляции было что-то торжественное, как подпись под великим произведением.
И всё сдвинулось.
Луна вспыхнула, будто кто-то швырнул в небо факел из последних сил. Она плавилась, как воск, стекая на землю серебряными каплями, каждая из которых была слезой ангела, узнавшего о конце света. Звёзды сжались в колючие точки, нанося световые уколы глазам. Они не светили – они кричали, каждая своим голосом, складывая хор отчаяния, который слышали только умирающие.
Вселенная… Нет. Ложь. Пустота. Беспредельная. Как мой страх. Но в этой пустоте было что-то живое – пульс, ритм, дыхание того, кто создал всё это и теперь наблюдал, как его творение разваливается на части. Но даже пустота была прекрасна – как чистый лист, на котором можно написать всё что угодно.
Та же пчела – призрак, рождённый из бетховенской мелодии – снова пронеслась над моей головой. Но теперь она сияла золотом. Золотом расплавленного солнца, золотом всех закатов, которые я видел, золотом всех рассветов, которых не увижу. Жужжание больше не напоминало раскалённый металл, вплавленный в кожу. Оно звенело, как хрустальный колокольчик, разбивающий тишину на осколки света. Каждый осколок был благословением, даром прощания от мира, который я покидал.
Она превратилась из вестника смерти в ангела воскрешения. В ней отразилась вся двойственность мира – боль и красота, смерть и жизнь, отчаяние и надежда. Она была живым символом того, что даже в смерти есть красота, даже в боли есть музыка.
В голове что-то лопнуло со звоном разбитого стекла. Вспышка – и солнце разорвало пространство, обрушив на меня пылающий поток. Я сгорел. Я рассыпался в пепел. Я исчез. Но в этом исчезновении была не смерть, а превращение – я стал частью света, частью тепла, частью всего, что когда-либо согревало живое сердце. В этом исчезновении была свобода – свобода от тяжести плоти, от оков времени.
Пространство, сотканное из лепестков, подо мной вздрогнуло – и разверзлось. Я закрыл глаза, и цветы стали океаном. Лепестки начали таять, их сок стекал вниз, превращаясь в солёные капли, которые унесли меня в бездну, где вода стала океаном, а музыка – его дыханием. Каждая волна пела свою песню – песню жизни, которая была, песню смерти, которая будет, песню любви, которая останется.
Из ниоткуда, будто чьи-то слёзы прорвали завесу иллюзии, обрушились водопады. Водопады времени, несущие в себе все минуты, которые я прожил, все секунды, которые упустил. Потоки рассыпались в воздухе жидкими зеркалами, стекались в озёра, которые вспыхнули белыми лотосами. Миллионы цветов качались на глянцевой глади, и каждый был свечой, зажжённой на границе миров. Их тычинки мерцали оранжевыми вспышками – пламенем, готовым пронзить небо. Каждое пламя было душой, каждая душа была молитвой, каждая молитва была мостом между тем, что было, и тем, что будет. Это был сад забытых богов, где каждый цветок был молитвой, а каждая капля воды – слезой радости.
«Хватит!» – голос вырвался из меня, но растворился в воздухе, словно последний аккорд, растерзанный пустотой. Словно крик, брошенный в пропасть, которая не удостоила его даже эха. Но этот крик был не просто звуком – он был подписью под жизнью, печатью на документе существования. Он значил: «Я был. Я чувствовал. Я любил». Но разве эхо нужно крику, если он искренен? Разве тишина не отвечает громче любых слов?
Симфония оборвалась. Мир рассыпался на осколки – тонкие, сверкающие, словно разбитые стёкла, осыпавшиеся в бездну. Каждый осколок отражал мгновение моей жизни – первый поцелуй, последнюю слезу, смех в детском саду, тишину в больничной палате. Я парил среди обломков грёз, а где-то внизу бесконечность уже распахивала пасть, готовая проглотить их все.
Но даже пасть бесконечности была прекрасна – она обещала покой, обещала конец всем вопросам, всем поискам, всей боли. Она была материнскими объятиями для уставшей души.
Жизнь не может быть такой обманчиво совершенной… Красота не имеет права быть настолько безжалостной. Но что, если в этой безжалостности и есть её честность? Что, если красота жестока только потому, что правдива? Что, если в этой безжалостности и кроется её истинная суть? Что, если красота прекрасна именно потому, что мимолётна?
В разных точках темноты, будто кто-то зажигал свечи в соборе вечности, пронзая её иглами света, вспыхнули мириады свечей. «Вальс» Бетховена разливался по пустоте – плавный, завораживающий, но в каждом такте звучало нечто болезненное, словно музыка шла по кругу, зацикленная на самой себе. Как заевшая пластинка в граммофоне мертвеца, как молитва, которую читают над пустой могилой.
Каждая свеча была годом моей жизни, каждое пламя трепетало от воспоминаний. Детство горело ярко и неровно, юность пылала страстно, зрелость теплилась ровным светом, а старость… старость ещё не зажглась.
Рядом со мной, прямо из сгустка теней, медленно прорисовывался охотничий нож. Он не появился – он сложился из мрака, из несуществующих рук, из чего-то древнего и безымянного. Из страха всех матерей, потерявших детей. Из боли всех сердец, переставших биться. Из тишины всех домов, где больше никто не ждёт. Лезвие блеснуло – узкая кость, выломанная из скелета луны. Кость, помнившая, как светила, кость, знавшая песни приливов, кость, хранившая в себе отражения всех влюблённых, когда-либо смотревших на неё из окон. Нож, выкованный из страха и закалённый в слезах. Но даже этот инструмент смерти был прекрасен – как стих о конце света, как последняя строка великой поэмы.
Кровь хлынула волной – густая, живая, словно расплавленный гранат, обжигая лепестки и оставляя алый шрам на ткани иллюзии. В каждой капле билась вся моя жизнь – радость и боль, любовь и разочарование, все поцелуи и все слёзы. Она растеклась по лепесткам альстремерии, словно художник макнул кисть в алую краску и провел размашистый мазок по холсту мироздания.
Кровь не была просто жидкостью – она была рекой памяти, несущей в себе все мгновения, когда сердце билось быстрее от счастья, медленнее от горя, замирало от любви.
Кровь. Слишком густо, слишком много крови. Волна накрыла, затопила лёгкие, смешалась со слезами, как цвета на палитре, где жизнь и смерть переплетаются в один мазок. Где красное становится чёрным, а чёрное – пустотой, пожирающей цвет. В этом смешении не было хаоса – была алхимия превращения боли в красоту, страдания в искусство. В этом пожирании была своя красота – красота завершения, красота последней точки в великом предложении.
А потом – вода. Солёная, холодная, бескрайняя. Океан. Океан всех слёз, когда-либо пролитых. Океан всех слов, которые так и не были сказаны. Рыбы. Водоросли. Кораллы. Тишина. Я плыл. Призрак. Без мышц. Без воли. Толща воды давила – глубина, где тяжесть измеряется не метрами, а годами одиночества. Где каждый метр глубины – ещё один год забвения. Где вода становится временем, а время – памятью о том, чего больше нет.
Где-то выше, за миллион световых лет от меня, гремела «Буря» Бетховена. Её аккорды глушили сердце, как удары молота по стеклянному колоколу. Каждый удар разбивал время на осколки, каждый осколок отражал мгновение, когда жизнь была возможна. Каждый аккорд был ударом молнии в воду, рассекающим океан электрическими венами. Музыка превратилась в стихию, а стихия – в музыку, и границы между ними стёрлись навсегда. Бетховен дирижировал бурей, а буря играла его симфонию – и невозможно было понять, где кончался композитор и начиналась природа.
Появились голоса – шёпот, идущий сквозь толщу воды, мягкий, приглушённый, будто тени прошлого перешёптывались между собой. Они говорили на языке, который знает каждое сердце, но не помнит ни один разум. Они звучали со всех сторон – невидимый хор, распавшийся на бессмысленные фразы. Я не мог разобрать ни слова. Это был язык мёртвых, диалект забвения. Язык тех, кто знает ответы на все вопросы, но не может их передать живым. Но даже в этой непонятности была своя мелодия – мелодия утраты, которую понимает каждое сердце.
Вдали из тьмы медленно всплыл силуэт. Огромный. Безымянный. Одинокий. Это был кит. Кит размером с собор, с глазами размером с окна, сквозь которые смотрела сама вечность. Его очертания были размыты, словно само время стёрло границы между ним и океаном. Он парил в глубине, как вечность, сгорбленная под тяжестью собственного существования. Как последний мамонт в музее вымерших надежд. Как последняя мечта в сердце того, кто разучился мечтать.
Я плыл, запертый в скорлупе собственной парализованной мысли – пузырь воздуха, застрявший в лёгких кита. Воздух, который помнил небо, помнил ветер, помнил запах цветов и теперь медленно растворялся в воде забвения. Я шептал: неужели это всё? Ты когда-нибудь чувствовал, как одиночество давит тяжелее воды? Как тишина весит больше всех океанов мира? Как безмолвие кричит громче любых слов, а пустота заполняет душу плотнее любой полноты? Как пустота заполняет душу плотнее любой полноты, как небытие становится единственным, что по-настоящему существует?
Его рев поднялся из бездны. Низкий, тягучий, вибрирующий, как гул земной оси. Как стон планеты, уставшей вращаться. Как последняя песня умирающей звезды. Он не просто звучал – он выворачивал нутро, пропитывая меня тяжестью, которую невозможно нести. Он кричал. Точь-в-точь как я. Как каждый, кто когда-либо тянул руки к свету, зная, что их сомкнёт только пустота. Он кричал о том, что некому рассказать. О красоте, которую некому показать. О любви, которой некого любить.
Крики, глухие, как подземные толчки, разрывали черноту, а пузыри, вырываясь из его дыхала, лопались, оставляя на губах вкус соли и одиночества. Каждый пузырёк был невысказанным словом, каждый лопнувший – потерянной возможностью. В каждом пузыре жила чья-то несбывшаяся мечта, чья-то недосказанная любовь.
Его спина была картой созвездий – но вместо звёзд – шрамы от якорей, глубокие, бесконечные, как следы всех потерь. Шрамы от всех кораблей, что пытались его поймать, от всех людей, что хотели сделать его своим, не понимая, что кит принадлежит только океану. Один плавник сиял – не холодным светом чужих миров, а глубинным огнём, как надежда, что упрямо горит на самом дне. Этот огонь был неугасим – он питался не воздухом, а верой в то, что где-то ещё есть жизнь. Верой в то, что где-то кто-то помнит его песню.
Он двигался, разрезая воду, словно смычок, скользящий по струнам, вышивая ноты боли и надежды. Каждое движение его хвоста было тактом в симфонии одиночества. Мы оба звучим, вписаны в симфонию Бетховена, где даже молчание – часть партитуры, а пустота – пауза перед кульминацией. Где каждое биение сердца – нота в концерте для одинокого сердца с оркестром пустоты. Где дирижёр – сама жизнь, которая знает, когда поднять палочку, а когда позволить тишине говорить самой.
Кит замер. Вода вокруг него дрогнула, будто время нарушило привычный ход. Будто вечность споткнулась, оглянулась назад и увидела что-то, чего не должно было быть. И тогда из глубин начали подниматься часы. Огромные. Грандиозные. Их силуэты медленно вырастали из тьмы, как соборы, возведённые на дне океана. Как храмы времени, построенные из утонувших мгновений. Как мавзолеи для всех секунд, которые мы потратили впустую.
Циферблаты, покрытые мхом – остатки прошлого, проросшие в саму ткань времени. Мхом воспоминаний, мхом всего, что когда-то имело значение, а теперь просто покрывает поверхность забвения зелёной дымкой. Стрелки – не тонкие металлические линии, а изогнутые клювы птиц, выгрызавшие секунды из стеклянной поверхности воды. Птиц, которые питались временем и откладывали яйца в гнёздах из календарей. Каждая цифра, вместо того чтобы просто существовать, жила – искажённая, дрожащая, словно её кто-то прокричал на бумаге, но голос потёк чернильными слезами.
И вот уже не цифры, а живые глаза, моргавшие в темноте. Глаза всех часов мира, глаза времени, которое видит всё и никогда не спит. Они моргали, и из них стекали слёзы. Слёзы капали в воду, растекаясь тонкими прожилками и превращаясь в медуз, чьи щупальца тянулись к киту, как ноты к дирижёру, и звенели, как часы. Каждое щупальце было секундной стрелкой, отсчитывающей время до чего-то неизбежного. Каждая медуза была каплей времени, застывшей в вечности. Они танцевали вальс столетий, где каждое движение длилось эпоху.
Часы били. Но это был не звук, а сердцебиение – рваный, клокочущий, метроном, отсчитывающий не секунды… а жизни – песчинки в моих лёгочных альвеолах. Каждое биение было именем того, кто перестал дышать. Каждый удар – прощанием с тем, кто ушёл, не сказав главного. Каждое сокращение рождало новый пузырь. Я заглянул в него и увидел лица. Моё. Твоё. Чужое. Все лица мира, пойманные в капле дыхания. В каждом пузыре отражалась чья-то несбывшаяся мечта. В каждом отражении жила целая вселенная – с её радостями и болью, с её надеждами и разочарованиями. В каждом отражении был целый мир, который мог бы существовать, если бы кто-то сделал один единственный другой выбор.
Я безмолвно протянул руку, и стрелки схватили её – не мягко, не плавно, а как пинцет: резко, точно, с холодной хирургической точностью. Они впились в кожу, как время впивается в жизнь – неощутимо, но необратимо. Боль пронзила, но не кричала, а звучала, как лопнувшая струна – одинокая, безразличная к чужим ушам.
И тогда часы заговорили моим голосом: «Ты – песочная крупица в стеклянной спирали вечности». И я понял: время – это не линия, а спираль, где прошлое и будущее не уходят вперёд и назад, а сливаются здесь и теперь. Где каждое мгновение – это не точка на прямой, а центр вселенной, расширяющейся во все стороны одновременно. Где каждый вдох содержит в себе всю историю мира, а каждый выдох рождает новую реальность, которая тут же становится прошлым.
– Эй! Постой! Я вижу тебя! – чужой голос ворвался в пустоту, как игла, прорезавшая кожу реальности. Голос врача, голос того, кто ещё верил в победу над смертью, кто сражался с ней каждый день и иногда побеждал. Звук был не просто голосом – он был крючком, зацепившим меня за рёбра и рванувшим вверх. Это был голос жизни, требующий отчёта у смерти. Голос того, кто ещё верил, что спасение возможно, что не всё потеряно. Голос того, кто видел слишком много смертей, чтобы примириться с ещё одной.
Рывок. Боль. Разрыв. Толща океана прорезалась, как стекло под напором света. Вода расступилась, как занавес в театре, открывая сцену, где разыгрывалась драма возвращения к жизни. Вода сгустилась, стала вязкой, липкой, как сироп из расплавленных нот, а рыбы с человеческими лицами провожали меня взглядами, полными зависти. В их глазах читалось: «Почему его возвращают, а нас оставляют в глубине?». В их глазах отражалось то, что они никогда не смогут познать – боль воскрешения. Они знали покой глубин, но не знали муки возвращения к жизни.
Воскрешение было больнее смерти – оно требовало снова почувствовать всё, что хотелось забыть, снова открыть сердце для боли, которая казалась ушедшей навсегда.
Слои музыки трещали, разрываясь на полосы – будто само звучание Вселенной начинало рваться. Как плёнка старого фильма, где были записаны все мои дни, все мои выборы, все мои ошибки. Сердце не выдержало – разлетелось. Крупицы сознания закружились, но не рассыпались, их притянуло обратно, как частицы звезды, знавшей, что обречена вспыхнуть снова.
Океан закипел пузырями, каждый из которых был отражением того, кем я мог бы стать. Кем я был в параллельных вселенных, где сделал другие выборы, сказал другие слова, полюбил других людей. Я всплывал. Я… Летел! Я возрождался из глубин, как феникс из пепла, как надежда из отчаяния.
Не птица, не ангел – сгусток боли, затянутый в вихрь звука. Не феникс, воскресший из пепла, а человек, воскресший из музыки. А человек – это больше, чем феникс, ибо он воскресает не раз в тысячу лет, а каждый день, каждый час, каждый вдох. И это было страшнее и прекраснее любого мифа, воскресать не для того, чтобы стать бессмертным, а для того, чтобы снова смертно любить.
Мои рёбра дрогнули, вытянулись и вдруг стали крыльями – из пергамента, испещрённого нотами. Хрупкие, лёгкие, как осенний лёд. Каждый взмах ломался, рождал хруст, и такты осыпались вниз, превращаясь в стаю ворон. Они кричали – но не голосами: их крик был сшит из забытых молитв, смешанных с шипением радиоволн. Каждый ворон нёс в клюве по ноте из «Реквиема» Моцарта. Они были вестниками не смерти, а памяти – той памяти, что живёт после нас. Они летели к тем, кто ещё помнит, к тем, кто ещё плачет, к тем, кто ещё произносит наши имена в тишине ночи.
Океан исчез, и я увидел простирающиеся подо мной города. Но не живые – изломанные, искажённые. Города-призраки, города воспоминания, города всех тех мест, где мы когда-то были счастливы. Петербург рассыпался, как пазл, собранный из костей чаек. Его мосты корчились, выгибались, словно позвоночник мира ломался в конвульсиях. Каждый мост был переправой между прошлым и будущим, каждая река – потоком времени, несущим обломки памяти. Фонари – не свет, а глазницы, слепо смотрящие в Неву. Каждый мост был переломом в судьбе города, каждый фонарь – потухшей звездой в созвездии надежд. Но даже в этом распаде была красота – красота руин, что помнят величие.
Москва таяла – не город, а восковая свеча, заливающая Красную площадь золотом, где тонули крошечные фигурки людей, как булавки, с головами-часами, чьи стрелки судорожно вращались против времени. Кремль плавился, превращаясь в алую реку, несущую обломки корон и забытых имён. Каждое имя было эпохой, каждая корона – мечтой о вечности.
Екатеринбург висел вверх ногами, скрученный в спираль ДНК, где вместо генов – осколки малахита, впивающиеся в небо, как зубы спящего дракона. Дракона, который охранял сокровища не золотые, а временные – все те мгновения счастья, что когда-то случались в этом городе. Каждый осколок хранил память о том, что было зарыто в уральской земле, – не только камни, но и судьбы. Земля помнила всё: каждый шаг, каждую слезу, каждую каплю пролитой крови.
А люди… Люди были тенями, отбрасываемыми солнцем, которого никогда не существовало. Солнцем надежды, солнцем любви, солнцем всего того, во что мы верили, но что оказалось миражом. Их рты разрывались в криках, но звуки не вырывались – они застывали в воздухе, как жуки в янтаре. Каждый застывший крик был молитвой на языке, который выпустили из памяти даже забытые Боги. Но Они не забывали их – Они слышали каждый безмолвный крик, понимал каждое немое слово. Просто… бездействовали.
А высотки дышали – их стеклянные фасады то втягивались, то раздувались, как лёгкие, уставшие от последнего вдоха. Лифты срывались вниз, выплевывая из шахт… конфетти. Не из бумаги, а из зубцов часов и пружин. Каждая цветная бумажка была осколком чьего-то времени, украшением на похоронах мгновений. Но даже похороны могут быть праздником – праздником памяти о том, что было прекрасно.
В каждой бумажке жил смех ребёнка, который вырос и забыл, как смеяться. В каждой пружине билось сердце часовщика, который делал время для других, но не успел сделать его для себя.
Старушка стояла у колыбели. Колыбели, которая качалась пустая, потому что дети, которых она могла бы качать, остались в другой жизни, в другом выборе, в другом мире. Её губы шевелились, но слова не рождались – то был язык, который забыло даже время. Не песня, а эхо чего-то давно потерянного. Её слёзы падали, но не в пустоту – они капали в воздух, застывали, как капли воска, а потом превращались… в медуз. Медуз-воспоминаний, медуз-сожалений, медуз-всего того, что могло бы быть. Прозрачных, дрожащих, с циферблатами вместо куполов. Их щупальца тянулись вверх, туда, где должна была быть поверхность, но её не существовало. В каждой медузе билось сердце нерождённого ребёнка, отсчитывая время, которого у него не было. Время, которое она подарила бы ему, если бы он существовал. Время колыбельных, время первых шагов, время последних объятий. Но даже несуществующее время имело свой ритм, свою мелодию надежды.
А дети… Они не бегали – они взлетали. Взлетали, потому что ещё не знали, что гравитация сильнее мечты. На качелях, выкованных из спиц велосипедов и струн контрабасов. Каждый толчок – выше, быстрее. И их смех – не звенел радостью, а хрустел, как треснувшее стекло. Как стекло детства, которое разбивается в тот момент, когда мы понимаем, что мир не такой, каким казался. Каждая его нота разрезала облака, разрывая их на длинные ленты. Они падали вниз, оборачивались вокруг фонарных столбов, стягивались в удавки. Удавки из облаков, удавки из мечтаний, удавки из всего того, что душит взрослого человека, когда он вспоминает, каким был в детстве. Каждая лента была свитком детских мечтаний, намотанным на горло реальности. Но дети не знали об удавках – для них это были просто ленты, украшающие мир.
Один мальчик – с лицом-зеркалом – протянул руку, поймал в ладонь осколок смеха. В его зеркальном лице отражались все дети мира, все те, кто когда-то смеялся так же искренне. Пауза. Он сунул его в карман. В его кармане уже лежали осколки всех смехов мира – коллекция разбитого счастья. Осколки смеха первоклассников, осколки смеха молодожёнов, осколки смеха стариков, вспомнивших детство. Он был коллекционером радости, не понимая, что собирает руины. Но даже руины прекрасны, если их собирает тот, кто помнит, какими были здания до разрушения.
И в этот миг… небо перевернулось, как страница в дневнике Бетховена, став землёй. Дневнике, где каждая страница была нотой, каждая нота – каплей крови, каждая капля – слезой о несовершенстве мира. Я приземлился. Но не на почву – подо мной раскинулись нотные строки. Каждая линия была не просто чертой, а трещиной, а каждый знак – дверью. Дверью в мир, где музыка была законом физики, где звук имел вес, а тишина – цвет. Это была партитура мироздания, написанная на коже вселенной. Музыка стала пространством, а пространство – музыкой, и я шёл по нотам, как по ступеням лестницы в небо.
Каждый шаг рождал аккорд, каждый аккорд открывал новый мир, каждый мир пел свою песню.
Двери начали расти, прорастая из пола, как грибы после дождя, как надгробия на кладбище возможностей, сотнями, тысячами, заполняя пространство трясущимися силуэтами. Ручки дрожали – капли ртути, мечущиеся в ладонях пустоты. Каждая ручка была пульсом чьего-то несбывшегося желания, каждая дверь – порталом в жизнь, которой не случилось.
Ветра не было, но они трепетали, словно чувствовали что-то, что мне пока было неведомо. Словно за каждой дверью кто-то ждал, кто-то дышал, кто-то надеялся на встречу. Одни двери стояли настежь – разверстые раны, зияющие в глубину, откуда струился полумрак. Другие были плотно заперты – шрамы, запёкшиеся, залеченные, но всё ещё помнящие боль. За открытыми дверями виднелись миры, где я сделал правильный выбор. За закрытыми прятались миры, где я сделал выбор неправильный, но был счастлив. За ними слышался шёпот нереализованных возможностей. Каждая дверь была выбором, каждый выбор – судьбой, каждая судьба – вселенной.
Каждый следующий миг их размер менялся – то крошечные, словно для муравья, то громадные, будто должны были пропустить целого слона. То размером с замочную скважину, то размером с ворота в рай. Но ни одна из них не вела в простую комнату. За каждой – версия меня. Один – тот, кто остался в прошлом, кого давно уже нет. Другой – тот, кто так и не родился. Третий – тот, кто мог бы стать счастливым. Четвёртый – тот, кто выбрал бы другую дорогу. Пятый – тот, кто полюбил бы без страха. Шестой – тот, кто никогда не узнал бы боли. Седьмой – тот, кто остался бы ребёнком навсегда. Восьмой – тот, кто стал бы богом своей вселенной. Девятый – тот, кто научился бы прощать. Десятый – тот, кто умер бы, не родившись, и был бы счастлив в небытии.
Я боялся выбрать.
Боялся, что любой выбор будет предательством по отношению ко всем остальным версиям себя. Боялся, что за любой дверью меня ждёт не спасение, а ещё большая боль – боль осознания того, кем я мог бы быть.