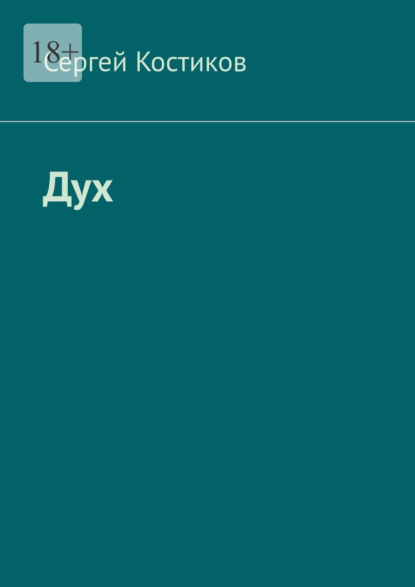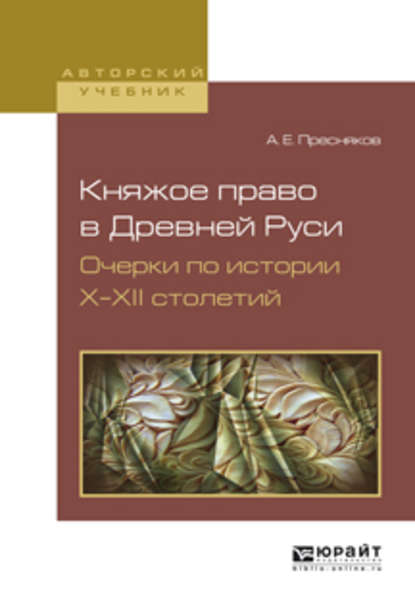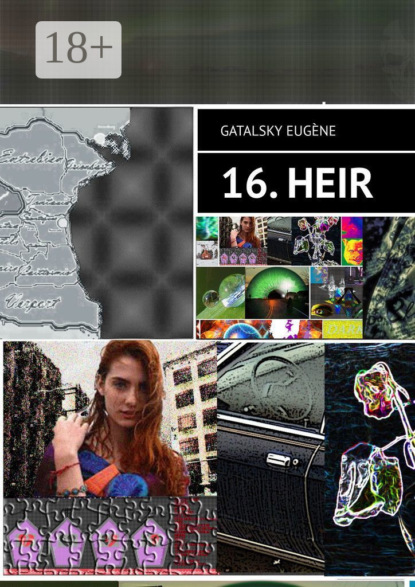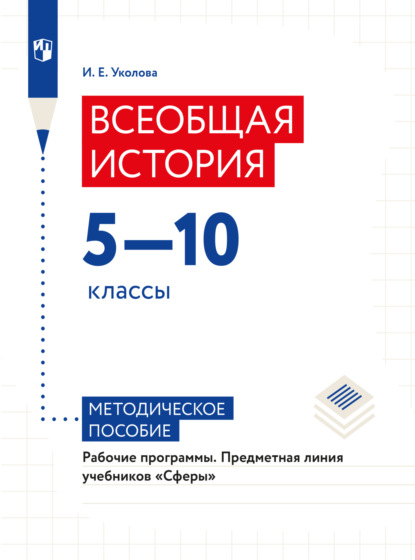Книга «Дух» содержит загадочные истории автора, не вписывающиеся в научные представления. Автор делится личным опытом, предлагая задуматься о границах реальности и связи материального и духовного. Истории разнообразны: встречи с необычными людьми, исцеления, йога и путешествия. Стиль повествования прост, искренен и создаёт ощущение доверительной беседы.
Книга доступна для широкой аудитории. Она напоминает, что реальность сложнее, чем кажется, и за видимым лежит океан неизведанного.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация