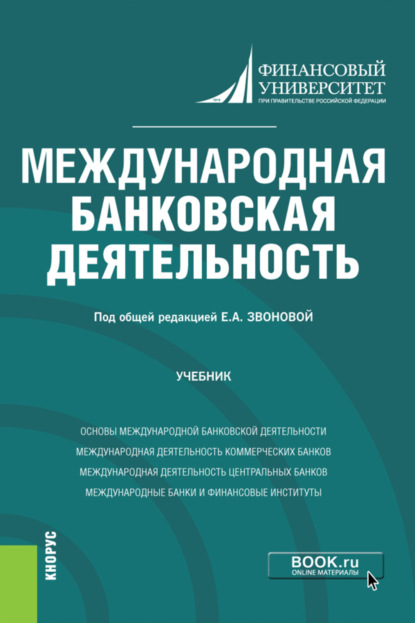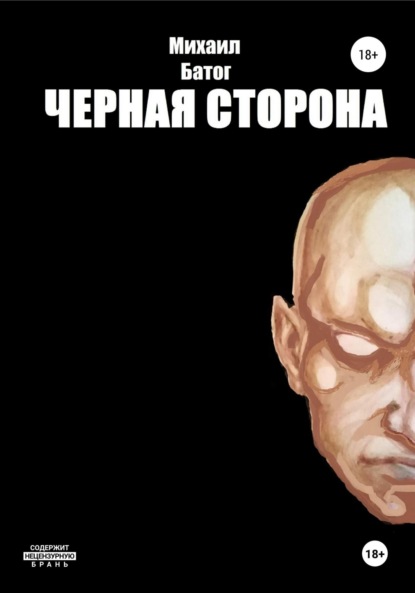Старая боль

- -
- 100%
- +

Посвящается Алисе, Дымку, и Лилит
Глава 1
Прошлого здесь будто бы и не существовало
Остров был круглым и таким маленьким, что, даже хромая, Белогорцев мог обойти его всего за двадцать с небольшим минут. Прошлого здесь будто бы и не существовало.
Жизнь на этом крохотном клочке суши, одиноко зеленеющем среди океанской синевы, текла в каком-то своем гипнотическом ритме. И казалось абсолютно нереальным то, что прямо в эту жаркую солнечную секунду где-то там, вдали, суетливо существует занесенная снегом Россия, с ее унылым мокрым серым асфальтом.
Здесь были упругий белый песок, ребристая бирюза океана, шелестящая стена покачивающихся пальм с выглядывающими из-за них шерстяными куполами бунгало и похрустывание плетеных кресел с шезлонгами возле длинной мраморной стойки бара, где в любое время можно было застать скопление загорелых тел: от бледно-медовых до шоколадно-темных.
С одного из этих самых шезлонгов, того, что разместился прямо возле белого мрамора, ему помахала Юля. Она сделала это в своей особой манере: волнистым и изящным перебором пальцев; френч ее ногтей глянцевито блеснул на солнце. И Белогорцев, развязно отсалютовав ей в ответ лишь указательным и средним, не сбавляя скорости, продолжил нахаживать свою норму: десять тысяч шагов.
Он заметил ее сразу, в первый день прилета. Они с сестрой и ее мужем летают сюда каждый год, и его первый день являлся ее третьим. Но об этом Белогорцев узнал только потом, во время их единственной ночной прогулки – Юля поведала ему об этом, глядя на проплывающую полосатую мурену. А до этого она являлась для него просто яркой и красивой девушкой с модельным обликом, словом, такой, каких часто видишь в кино или интернете, и так редко – в реальности, прямо перед собой.
Первым, что бросилось в глаза, когда Белогорцев увидел ее, было то, с каким соблазнительным контрастом стерильно-белый купальник смотрится на фоне глянцевитого темного загара ее молодого и тугого тела, пока она выходила из воды. Тела, привыкшего к спорту и движению, – это чувствовалось сразу.
Но погодя, когда Белогорцев проходил мимо нее на обеде, другая вещь поразила его: голубизна ее большущих, чуть раскосых глаз. Эта голубизна была яркой, насыщенной и такой пронзительной, будто заполняемые ею глаза являлись чистым, ясным небом, на которое смотришь сквозь толщу океанской воды, пронизанной солнечными лучами. И когда Юля, еле склонив голову набок, посмотрела на него, Белогорцеву показалось, что взгляд этих глаз достал до самого его сердца; что-то задел в нем; повернул, как головку ключа…
Это он понял не сразу, а уже потом, лежа в постели и ловя на ходу мысли, что так и норовили вернуться к Юле.
Юля… Какое светлое и летнее имя. Быть может, потому, что оно созвучно с июлем – ярким названием сердцевины лета. Золотистое имя… Как закат или игра вечернего света на водяных волнах.
Представив момент, как она сегодня вечером вновь сядет рядом с ним во время настольных игр, Белогорцев, оставляя за собой на песке недолговечные отпечатки босых ступней, потопал дальше по линии берега. Шел мимо лоснистых загорелых ног, мимо пестрых купальников, мимо блеска темных очков. Ступням приятно было от обволакивающего действия этой песочной белизны; они упруго в ней утопали.
Вопреки собственной фамилии, Белогорцев сам мало походил на русского: волосы его были черными, с чуть заметным коричневатым отливом, кое-где уже невзначай схваченные сединой, а нижнюю половину лица – очень еще молодого – покрывала ровная, чуть-чуть отросшая щетина. Кожа его была смуглой, и из-за этой смуглости в нулевых годах часто возникали у него неприятные стычки с бритоголовыми ребятами в берцах. Глаза, постоянно суженные от вечного напряжения, имели цвет древесной коры и были слишком добрые, доверчивые, так что приходилось прятать их за солнечными очками, чтобы выглядеть более угрожающим.
Дойдя до красной таблички с белыми буквами, Белогорцев посмотрел на скалу: похожая на коричневый обломок чего-то сладкого и вкусного, она возвышалась над водой на несколько человеческих ростов. В узкой арке в самом ее основании страсть как хотелось проплыть, а водная поверхность возле нее всегда пенилась, как дешевое пиво. От берега до скалы было метров сорок, но красная табличка все равно запрещала к ней плыть и уж тем более нырять с нее в воду.
Клода это, впрочем, не останавливало совершенно. Хронически раздетый, в неизменных своих белых плавках, беззастенчиво обаятельный, он как-то незаметно возникал возле Юли, тут же беря на себя не только ее внимание, но и многих других представительниц прекрасного пола. Нрав у него был легкий, всегда чуть насмешливый, будто весь мир для него лишь вечеринка на роскошной яхте. А благодаря ярко выраженному французскому акценту, каждое произнесенное им слово звучало как мастерский флирт и обещание сказки.
Он бесстрашно прыгал с самой вершины этой скалы, вертикально пронзая воду своим рельефным телом под возгласы женского восхищения, в кислотно-желтых ластах плавал с двумя рифовыми акулами чуть ли не в обнимку и мог так рассчитать силу удара по мячу в волейболе, чтобы отбить его у противоположной стороны не оставалось никакой возможности.
Но вместе с тем обладал он каким-то обезоруживающим добродушием и хорошо относился ко всем, включая Белогорцева, что мешало последнему всерьез на него злиться.
Белогорцеву и самому не нравилась собственная злость на этого высокого мускулистого француза, поскольку он понимал, что основывалась она на зависти, а завидовать – значит быть ущербным.
Но сейчас Клода не было; он, вероятно, в эту саму секунду катал на своем катере очередную красотку, коих он одну за одной с завидной легкостью укладывал себе в постель. Вместо него на плоском уступе – достаточно широком, чтобы там могли разлечься трое, – неподвижно стояла цапля.
Белогорцев достал телефон, приблизил изображение, сфотографировал, как делал это каждый раз, когда цапля попадалась ему на глаза. Сам не зная почему, он уже успел полюбить эту птицу, которая, как NPC в компьютерной игре, постоянно появлялась в самых разных уголках острова.
Он машинально проверил в «Телеграме» нужный ему чат, увидел, что никто ничего нового там не писал, и, чувствуя, что уже заканчивается действие обезболивающего, ускоренно похромал к дому.
Там, сидя на плоской крышке блестящего унитаза, Белогорцев сделал укол себе в ногу, и затем, звездочкой распластавшись на двуспальной кровати, которую, по идее, должен был делить с пылкой стройной Анной, стал созерцать потолок. Простыни были крахмальными, белоснежными, с виду стерильными, а потолком служила изнанка соломенной крыши, под которой вентилятор медленно вращал свои деревянные лопасти.
Он понял, что вспотел, что устал, и, расстегнув пуговицы сверху вниз, но так до конца и не раздевшись, остался лежать с раскинутыми руками, а меж краев распахнутой рубашки в потолок глядели кубики его смуглого пресса.
И вот эту хлопковую рубашку цвета венозной крови с забранными до локтей рукавами, всю в извилистых белых узорах, и свободные светлые бермуды до колен, и солнцезащитные очки со стеклами, будто сделанными из голубой ртути, – все это Белогорцев приобрел уже здесь, на острове. Он прилетел сюда прямиком из российской февральской метели, с собой захватив лишь небольшой рюкзачок, из предметов в котором были только зарядное устройство, аптечка, которой он только что пользовался, и ровная, перетянутая банковской лентой пачка зеленоватых банкнот.
Он должен был сейчас разгуливать в обществе стройной темноволосой бикинистки, что сама заговорила с ним в спортзале. Ее сделанные губы напоминали двух распухших розовых гусениц, а рот не закрывался почти никогда; но рот этот был способен на столь многое, что за это «многое» почти все ему прощалось. Хотя сейчас, в этом сонном полуденном одиночестве, ее излишней разговорчивости очень недоставало. Она подошла к нему на тренировке, попросила помочь ей с тренажером, с которым сама прекрасно знала, как обращаться, и небрежно заведя разговор о соотношении БЖУ в белковом коктейле, сама с ним и познакомилась.
Но Анна осталась во Владимире. Ее любовник – высокий мускулистый лысый британец с крепкими скулами и безумными глазами цвета лунного камня – надрывно орал по видеосвязи, обещая, что, когда они встретятся, он порежет Белогорцеву его лицо и сделает так, что тот пожалеет о дне, когда решил написать Анне. Еще он орал то, в какие места и сколько раз он имеет ее каждый вечер, и подкрепил свои угрозы тем, что помогает стране обходить санкции, и в случае, если он Белогорцева убьет, ему за это ничего не будет.
Но Белогорцев, несмотря на весь свой испуг, решил так просто это не оставлять, и когда лысый примчал к его дому на синем «Ягуаре», Юрию пришлось дважды выстрелить в воздух из своего ТТ, который всюду носил он с собой.
– Я не боюсь, – сказал он тогда; уже после того, как все было кончено.
Хотя, конечно же, Юрий лукавил, говоря самому себе, что ничего не боится. На самом же деле этот сумасшедший изверг испугал его до чертиков, а почему – Белогорцев и сам не понимал. Уже позже, когда они спокойно уладили это недоразумение, Дэн – так звали британца – поведал историю со своей стороны, и оказалось, что Анна наврала ему про Белогорцева, говоря, что он сам ее домогается. Белогорцеву она то же самое говорила про Дэна и слезно умоляла не брать трубку, если тот вдруг вздумает ему позвонить.
Так что Анну он потерял, и это было явно к лучшему, хоть и жалко, потому как близость с ней была хороша чрезвычайно. И все-таки на первом месте в этой дисциплине, с большим довольно отрывом, лидировала, конечно же, Лена. Никому не дано было сравниться с ней.
Телефон молчал, и иногда Белогорцева это даже радовало. Не было у него рядом ни жены, ни детей, ни того близкого тепла, что так необходимо чувствительным и тонким натурам. А была многолетняя односторонняя восторженная любовь к холодноватой черноволосой куртизанке с сонными серыми глазами. На миг в памяти промелькнули пухлые губы ее, нижняя из которых была разделена чуть выпуклой бороздой сужающегося шрама, ощущение от быстрого и ритмичного горячего дыхания за ухом, и те сладкие мурашки, которые перед тем, как разбежаться по всему телу, рождались в его движущейся туда-сюда пояснице.
Боль в колене и правом плече стала утихать, и Белогорцев, начавший было зарисовывать увиденную им спящую летучую мышь, кожаным мешочком свисающую с ветки, сам не заметил, как подкравшийся сон потихоньку его сморил.
Глава 2
Два часа, проведенные ими на берегу среди лунного колыхания волн, показались Белогорцеву двадцатью минутами
Обслуга отеля трудилась среди отдыхающих: они безошибочно угадывались по оливковой униформе, напоминающей костюм медицинских работников, и благоуханию какого-то диковинного бальзама, которым они мазались. Большая часть их была филиппинцами, но попадались и индусы, и африканцы. Одна очень милая африканка тепло улыбнулась Белогорцеву, пока подавала ему говяжий бургер в обеденном кафе.
Плотно подкрепившись в свой первый день, он принялся нахаживать дневную норму своих шагов, иногда останавливаясь, чтобы поймать на камеру телефона живописный кадр. И в один из таких моментов, пока пытался сфотографировать серую летучую мышь, спящую на ветке вниз головой, попалась ему на глаза старуха. Розовая от загара, вся в висячих складках, она стояла по пояс в волнах недалеко от скалы, и руки ее были расставлены в разные стороны. Кудрявый пушок на голове чуть волновался от ветра.
«Необычная манера загорать у этой дамы, конечно», – подумал Белогорцев и тут же, выкинув старуху из головы, повернул назад.
Летучие мыши. По какой-то странной причине он всегда любил этих созданий. Он даже подрался как-то в лагере, когда парни при нем забрались на чердак столовой и стали жечь беспечно отдыхавших под потолком зверьков, поднося зажигалки к баллончикам дезодорантов. Из-за этого за Юрой до конца смены закрепилась кличка Вампир. Его нарекли нечистью и под страхом расправы заставили съесть чеснок – целую его луковицу.
А между тем животные почти всегда любили его. Часто во время его одиноких вечерних прогулок к нему сбегались все местные кошки и собаки. Он шел в магазин и покупал им еду, чувствуя, как вместе с ней передает им свою нежность, которую иначе некуда ему было деть.
* * *И когда полчаса спустя он, развалившись на шезлонге с суровым видом, погрузился в созерцание серых облаков над вечерней желтизной горизонта, Юля появилась рядом, заслонив свет своей точеной фигурой. Очевидно, приняв Белогорцева за итальянца, она с протяжно-рычащими южными согласными быстро проговорила ему:
– Vieni a giocare a mafia con noi, ti va?
Но, уловив в ее речи этот твердый славянский акцент, – впрочем, малозаметный, – Белогорцев сказал:
– Вот только слово «мафия» и понял, а остальное… – И он умолк, с улыбкой разведя руки.
– Ой. – Юля смущенно прищурилась. – А я подумала, вы из Италии.
– Да, я понял.
– Так не хотите?
– Чего не хочу? Мафию?
– Мы играем по вечерам в нее. Хотите с нами? У нас половина игроков отчалила и нам требуется свежая кровь! – Докончив фразу, она хихикнула, и смешок ее нежно растворился в звуках прибоя.
– Но я никогда в нее не играл, мне только так… брат о ней рассказывал, – начал было Белогорцев, но Юля весело его перебила:
– Ой, да там ничего сложного. Быстро освоитесь. Пойдемте-пойдемте…
И то, как непринужденно она взяла его за руку, как свободно повела за собой – так, словно они уже давно знакомы, – вселило тихую надежду, абсолютно, кстати, ложную, что все это что-то значило.
И когда он, испытывая стыд из-за своей хромоты, подошел к окруженному зеленью столу в тени навеса, участники поприветствовали его приятной волной гостеприимных улыбок, поочередно возникающих на всех лицах. Большую часть из них Юрий уже мельком видел раньше. Был здесь и лысый очкастый немец, и длинноволосый, возвышающийся, как гора, Клод, и пузатый олигарх с силиконовой инстаграмной своей женой, недоверчиво кутающейся в дорогую красную ткань, и плоская светловолосая женщина с приятным лицом и неожиданно низким голосом, а также панамочный, похожий на айтишника брат Юлиной сестры, которая сама не пришла: очевидно, осталась нянчиться с близнецами. Чуть позже к ним присоединился полноватый бородач в кепке – тоже русский, – очень смахивающий на американского байкера.
На «Мафии» было такое правило: общаться между собой только по-английски. Этим языком в той или иной степени владели здесь все, кроме жены бизнесмена.
Вчера вечером Белогорцев видел, как она обращалась к какому-то пожилому иностранцу, указывая на проплывающего ската пальцем с длинным острым ногтем – таким же неестественно-черным, как и ровные волосы ее, и татуировка солнца. Прямо с ее грудины на Белогорцева смотрело это недобро улыбающееся солнце, из которого исходили толстые черные лучи, больше похожие на змей.
Ската она называла «скейт», и Белогорцеву стало почему-то стыдно за нее. Ведь, на самом деле, «скат» по-английски переводился как «stingray»; это было смешно, и, вспомнив об этом, Юрий невольно улыбнулся, испытав отголоски вчерашней неловкости.
И чем больше пьянели участники, тем интереснее и веселее становилась игра. В одной из партий, где ее мужу выпало быть Доном, тот решил убить ее первой, чтобы отвести от себя подозрения, и, кстати, это сработало: партию он взял. И когда все вскрылось, черноволосая львица, не выдержав обиды, метнув крепкое русское словцо и плеснув мужу в лицо тем, что оставалось в ее бокале, вышла из-за стола и гневно зацокала каблучками прочь.
Они продолжили играть до ужина, и Белогорцеву нравилось, как все складывается. Он сидел рядом с Юлей, и их ляжки соприкасались, и порой это отвлекало его от игры. В одной из партий, где ему выпало быть Доктором, а ей – Комиссаром, они вместе выиграли. И когда им удалось застрелить Дона (им оказался Клод), Юля так обрадовалась; положив Белогорцеву на колено свою теплую руку, она так сильно прижалась к его плечу, что он моментально ощутил прилив давно дремавшего желания.
После ужина Юля сама нашла его и позвала присоединиться к ее вечерней прогулке. Два часа, проведенные ими на берегу среди лунного колыхания волн, показались Белогорцеву двадцатью минутами. Давно ему не было… так хорошо.
Добавив его в телеграм-чат, где состояли все играющие, Юля распрощалась с ним и ушла в их с сестрой бунгало: оно стояло на сваях прямо над водой; по пути к нему она рассказывала Юрию, что у них в полу есть стеклянный люк, через который можно наблюдать за рыбами, и показала видео, снятое на айфон. Потом обняла его, легонько коснувшись щеки губами, и исчезла за дверью.
Белогорцев, пребывая в ореоле чудесного послевкусия, немного постоял на краю. В ярких пятнах прожекторов, светящих с краев моста, проплывали матовые коричневые акулы и плоские серые скаты. Они делали это очень медленно и размеренно, отчего создавалось ощущение, что они не плавают, а проползают по дну.
Затем, чуть переваливаясь, направился он к своему домику: действие обезбола снова заканчивалось.
У себя, уже лежа в постели, Белогорцев слышал далекую танцевальную музыку с пляжа, но почти ее не воспринимал, поскольку думал о голубых глазах, и прогнать этот образ никак не удавалось. Ему не нравилось это чувство; оно его немного настораживало, поскольку по опыту он знал, что именно так каждый раз и начиналась в его жизни еще одна болезненная привязанность, что могла затянуться на долгие годы. Так же было и с…
Некстати вспомнилась Лена и нарисованная им когда-то картина.
«Интересно, – раз, наверное, в тысячный подумал он, – выкинула ли она ее?» Юрий почему-то думал, что нет. Хотя… какое ему теперь было дело? Они не виделись уже тысячу лет и вряд ли увидятся еще когда-нибудь…
Плавно и незаметно эти мысли унесли его в сон. Электронное буханье музыки вдалеке давно пропало.
Глава 3
Это снова происходит
Утром на следующий день он, пропустив завтрак, отправился плавать в океане с маской. Косяки причудливых цветастых рыб, огромные ленивые веслолапые черепахи, коричневые акулы, кружащие вдали, громадные червяки, присосавшиеся к кораллам, снующие по дну крабы – все это и вправду было удивительно.
Белогорцев заныривал к ним прямо с трубкой и изумленно замирал в бирюзовой пучине среди всей этой рябящей цветной пестроты. Он с нетерпением ожидал вечера, чтобы вновь поиграть в «Мафию» и отправиться на прогулку с Юлей, как вчера, а плаванье являлось для него к этому своеобразной прелюдией.
Выходя из воды, он прошел мимо той одиноко стоящей старухи, которая уже не раз попадалась ему. Увидеть, как она движется, можно было только на ужине. Незаметно возникала она возле стойки, отделившись от разноцветной толпы, и с ярко накрашенными губами, стянутыми в тугой комок, невозмутимо накладывала себе в тарелку коричневые шмотки мяса в подливе, которые секунду назад вкусно побулькивали в громадной кастрюле. Тихо и незаметно ела где-то в самом темном углу и так же тихо и незаметно покидала вечерний ресторан. А утром вновь появлялась на пляже, одиноко стоящая по пояс в воде, с растопыренными руками, где и была замечена Белогорцевым.
На обеде Юли он не встретил. Написал в чате «Телеграма»:
Играем сегодня?
Отложил телефон и, окидывая взглядом огромного красного попугая, которого уже видел, притворился перед самим собой, что вовсе и не ждет никакого ответного сообщения, но через пять минут не выдержал и все же посмотрел в телефон.
Конечно! Сегодня вечером! Приходи!

– такой был ответ Юли, и Белогорцев почувствовал, что голубизна неба с ровными белыми облаками стала какой-то счастливой.
Он решил немного порисовать, но дело не шло, и до самой вечерней игры Юрий прослонялся по острову, ощущая, как нарастает в груди волнение. И когда он, хромая, приближался к заветному столу, волнение это стало почти таким же сильным, как и тогда, когда он, выдернув тугую чеку, готовился метнуть из окопа гранату.
Игра, однако, пошла совсем не так, как ему бы хотелось: Юля, хоть и сидела так же рядом, была как-то беззаботно весела и постоянно разговаривала то с сестрой, то с Клодом, а на него даже не глядела.
Весь вечер Белогорцев делал вид, что ему весело, подчеркнуто громко смеясь, говоря комплименты Марине – угловатой худой женщине с низким голосом. Потом, когда к ней подбежал ее старший сын и бессмысленно громким шепотом прошептал ей, что Петян поскользнулся в бассейне, она, извиняясь, удалилась, и Белогорцев остался один.
Ужинал он в подавленном состоянии.
Некстати вспомнилось почему-то лицо юноши с перепуганными голубыми глазами, который был одним из взятых в плен операторов дронов, сбрасывающих бомбы на российских солдат. Тщедушный, запуганный, с формой, которая была ему явно велика, он больше напоминал студента литфака, чем военного. Вспомнил, как отказался стрелять ему в затылок и как это сделал за него Гимли: с «дроноводами» у обеих сторон этого ужасного, никому не нужного конфликта разговор всегда короткий.
Вообще, там, как и здесь, Белогорцев мало с кем находил общий язык, и другие солдаты не особенно любили его, считая странным и ненадежным, точно он в любой миг мог переметнуться к врагу.
Белогорцев присоединился к этой войне, втайне от самого себя испытывая надежду, что, быть может, в него попадет снаряд из 155-й «арты́», и смерти своей он не заметит вовсе. Мир вокруг просто станет вспышкой слепящей белизны, а затем все медленно уйдет в уютную, обволакивающую, всерастворящую тьму – туда, где нет ни этой чудовищной боли в плече, которую приходится заглушать кеторолом, ни невыносимой тоски, ни вот этих каждодневных метаний. Словом, всего того, от чего он желал бы спастись.
Но снаряд попал не в него; снаряд попал в Гимли. У того были большие ясные глаза, добрый смех и каштановая борода, за которую и получил он свой позывной.
Под Угледаром, заслышав приближение стремительной взрывной смерти, Белогорцев с быстротой, близкой к смене кадра, бросился на землю одним, до автоматизма отработанным, движением. Самого разрыва снаряда он почти не услышал. Все моментально ушло в нестерпимый звон контузии. Черная земля брызнула ему прямо лицо, попав и в нос, и в глаза, и даже в правое ухо, потому как шлема с защитными очками на нем в тот момент не было. На какое-то время он потерял способность думать и осознавать, где верх, а где низ, право и лево.
Вынырнув из смятения, Белогорцев не сразу понял, что осколок прошил ему ногу и без того больное плечо, а осознал это только тогда, когда, уже будучи в окопе, попытался встать.
Все, что осталось от доброго Гимли, было куском берца с торчащей из него костью, выглядывающей из бледно-розовой мякоти. И кусок этот, как приклеенный, продолжал стоять на подошве с какой-то страшной непостижимой устойчивостью…
А дальше месяц в лазарете, полном зыбкой тьмы морфина и гулких голосов озабоченных врачей, собирающих по частям его развороченную осколком ногу. Нежный взгляд Кати, хорошенькой медсестры, которой он, очевидно, нравился, но, к сожалению, ее простоватая красота и отсутствие высокого интеллекта нисколько Юрия не привлекали. От попавших в него земляных частиц его правый глаз кроваво раскраснелся, и Катя капала туда что-то щиплющее. Он всегда дергался, и она ласково приговаривала: «Тю-тю-тю-тю…».
В детстве, насмотревшись военных фильмов, он часто включал музыку на отцовском проигрывателе; ставил себе что-то пафосное и возвышенное вроде Nightwish или Apocalyptica, и представлял, как умирает, красиво жертвует собой на войне…
Двухмесячного пребывания в этом аду с чудовищными пытками и немыслимо искореженными телами вполне хватило, чтобы исцелиться от этих пафосных фантазий раз и навсегда…
Отодвинув тарелку, Юрий поглядел в ночь. Рядом галдели люди, с берега доносилось буханье басов.
Белогорцев достал телефон и вопреки своим ощущениям написал в общий чат:
Классная была игра!
Он увидел, что Юля прочла его сообщение – по крайней мере, оно отобразилось, как прочитанное ею, – но ничего не ответила. Бизнесмен и похожий на байкера написали, что да, поиграли здорово. Белогорцев поставил им по пальцу вверх и продолжил испытывающе смотреть в экран.
Это снова происходит…
Действительно. Все идет так, как уже не раз с ним бывало: добыча мечты – девушка с большой буквы «Д», от которой душа ширится и поет, сначала обращает на него внимание, а потом что-то происходит, и она резко холодеет. А потом ее влечение – если таковое вообще имело место – умирает совсем.