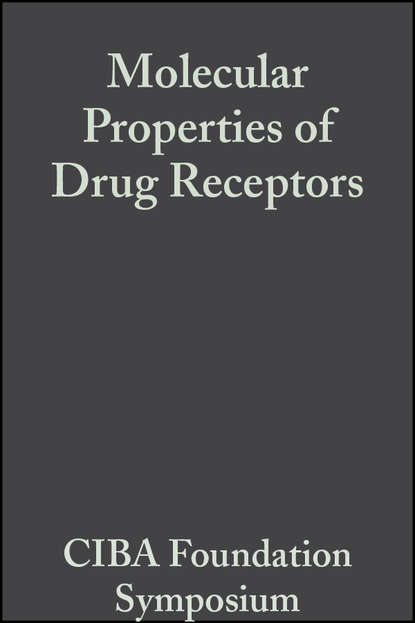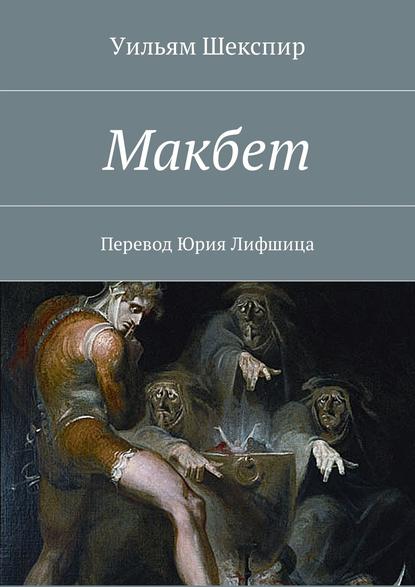Терапия чистоты

- -
- 100%
- +
Мой старый демон, тот иррациональный ужас близости, что заставлял меня рушить любые отношения, вцепился в мой позвоночник ледяными когтями. Мозг, натренированный на распознавание угроз, вопил сиреной. Близость – прелюдия к удару. Уязвимость – приглашение к унижению. Протянуть руку в ответ – значит добровольно подставить себя под лезвие. Мое тело инстинктивно дернулось назад, крошечное, едва заметное движение, но в этой наэлектризованной тишине оно прозвучало как выстрел.
Она увидела. Увидела и поняла. Но не отдернула руку. Не отвернулась с презрением, как это делали другие, столкнувшись с моей невидимой стеной. Она просто продолжала стоять, и в ее взгляде не было осуждения. Было понимание. И боль. Та же боль, что жила во мне. Она смотрела на меня, как на свое отражение в кривом зеркале, узнавая знакомые трещины и сколы.
И тогда произошло нечто, что сломало привычный алгоритм моего страха. Я смотрел на ее руку, на эту беззащитную, раскрытую ладонь, и видел не угрозу, а якорь. Спасательный круг, брошенный в мой личный ледяной океан. Это был вызов не ей, а мне. Вызов всему, во что я заставил себя верить: что одиночество – это безопасность, что дистанция – это сила. Белов учил нас, что привязанность – это грязь, «созависимое слияние с чужим негативом». Но то, что предлагала Елена, не было похоже на грязь. Оно было похоже на тепло. Настоящее, живое, несовершенное тепло.
Принять ее руку означало предать «Терапию чистоты». Но не принять – означало предать ее. И себя. Того себя, который еще помнил, что такое эмпатия, прежде чем ее заклеймили «первичным импульсом».
Моя рука дрожала, когда я медленно, мучительно медленно, начал поднимать ее. Каждый миллиметр этого движения был пыткой и освобождением. Воздух между нашими пальцами казался плотным, как вода, он сопротивлялся, не хотел пускать. Мир сузился до этого крошечного пространства. До звука моего собственного дыхания. До ее глаз, которые не отрываясь следили за моим движением.
Когда кончики наших пальцев соприкоснулись, по моей руке пробежал электрический разряд. Не метафора. Реальное, физическое ощущение, от которого перехватило дыхание. Это было ощущение жизни. Тепло ее кожи было оглушительным в этом мире холодных поверхностей и контролируемых температур. Оно было чужеродным. И единственно реальным. Я накрыл ее ладонь своей. Наши пальцы переплелись. Неловко, неуверенно, как будто они заново учились этому простому движению.
Мы стояли так, держась за руки посреди стерильной белой кельи, нарушая главный закон этого места. Мы не стали чище. Мы стали сообщниками. И в этом общем преступлении было больше исцеления, чем во всех медитациях и «проработках» Белова.
«То, что они сделали с тобой… это было неправильно», – слова вырвались из меня тихим, сдавленным шепотом. Я нарушил закон молчания, закон сомнения, я перешел черту. Теперь пути назад не было.
Она молчала, но я почувствовал, как ее пальцы чуть крепче сжали мои. В ее глазах блеснула влага, но она не плакала. Она просто смотрела на меня, и в этом взгляде было столько благодарности, что мне стало стыдно за свое дневное малодушие. Стыд был обжигающим, но он был другим. Не тем липким, парализующим стыдом, который культивировал Белов. Этот был чистым. Он был моим. Он напоминал мне, что у меня еще есть совесть.
«Я боялась, что ты… такой же, как они», – прошептала она.
«Я и есть, – ответил я, и горечь в моем голосе удивила меня самого. – Я промолчал. Я выбрал безопасность. Это трусость».
«Нет, – она покачала головой, и ее темные волосы мягко качнулись. – Они кричали. Их "поддержка" была как удары камнями. А ты молчал. Твое молчание было… пространством. Где не было осуждения. Я это почувствовала. Спасибо».
«Спасибо»… За что? За то, что я оказался чуть меньшим подонком, чем остальные? Эта мысль полоснула по самолюбию. Я всегда считал себя человеком принципов, логики, порядочности. Но здесь, в этом стерильном аду, все мои принципы съежились до одного – выживания. А она, пережив публичную порку, нашла в себе силы прийти и поблагодарить меня за то, что я не присоединился к ее палачам. Кто из нас был сильнее? Ответ был очевиден.
«Тебе нужно идти, – сказал я, хотя отчаянно не хотел ее отпускать. – Если нас увидят…»
Я не договорил. Мы оба знали, что будет. Нас выведут в центр круга на следующий день. И устроят показательную экзекуцию на тему «взаимного загрязнения». Наши самые постыдные тайны, которые мы доверили Белову на индивидуальных сессиях, станут общим достоянием. Наши страхи превратят в оружие против нас.
Она кивнула. Но не отпустила мою руку. «Алексей… почему ты здесь?»
Вопрос был простым, но он пробил мою защиту насквозь. Я пришел сюда, чтобы избавиться от своей проблемы, но я никогда не формулировал ее для себя вслух в такой абсолютной, обезоруживающей простоте.
«Я боюсь», – выдохнул я.
«Я тоже».
Мы смотрели друг на друга, и в этот момент я понял суть учения Белова. Он брал настоящий страх, настоящую боль, и заворачивал ее в свою ядовитую идеологию. Он не лечил, он инфицировал. Он подменял реальную проблему выдуманной «грязью», а исцеление – подчинением. Мой страх близости был реален. Но Белов внушал мне, что само желание близости – это патология, «ментальный токсин», который нужно выжечь. А сейчас я держал за руку другую «неправильную» душу, и впервые за много лет мой страх не кричал, а молчал. Он был здесь, рядом, но он не управлял мной. Им управлял я.
Она медленно высвободила свою руку. Ощущение пустоты и холода на моей ладони было почти болезненным. Она сделала шаг назад, к двери.
«Будь осторожен, – прошептала она. – Он все видит».
«Ты тоже».
Она приоткрыла дверь, выскользнула в коридор так же бесшумно, как и вошла. Щелчок замка прозвучал как точка в конце предложения. Предложения, которое изменило все.
Я остался один. Но одиночество было другим. Оно больше не было тотальным. В нем появился призрак тепла, фантомное ощущение ее пальцев в моей руке. Я подошел к зеркалу, которое занимало всю стену. Раньше оно отражало стерильный порядок, инструмент для «честного взгляда на себя». Сегодня я боялся его, как никогда.
Я заставил себя посмотреть. Из стеклянной глубины на меня смотрел тот же мужчина в белом костюме. Бледный, с темными кругами под глазами. Но что-то изменилось. Взгляд. Он больше не был пустым. В нем появилось что-то новое. Не смелость. Нет, до смелости было еще далеко. Скорее, осознание. Холодное, ясное, как скальпель хирурга, осознание того, где я нахожусь. Это не клиника. Это тюрьма для разума. Идеально спроектированная, с комфортными камерами и вежливыми надзирателями. Тюрьма, в которую заключенные приходят добровольно и платят за это огромные деньги.
Белый цвет. Цвет чистоты. Какая грандиозная ложь. Белый – это цвет пустоты. Цвет капитуляции. Цвет страницы, с которой стерли все написанное. Белов не очищал нас. Он стирал нас. Он превращал наши сложные, противоречивые, живые истории в чистый, пустой лист, на котором он мог написать свою.
Я отвернулся от своего отражения. Оно все еще было мне враждебно, но теперь я знал имя своего врага. И это был не я.
Взгляд упал на мою руку. Та самая, что держала ее ладонь. Я поднес ее к лицу, почти ожидая увидеть на коже какой-то след, ожог. Но она была прежней. И все же я чувствовал это прикосновение, как клеймо. Клеймо человечности. В этом царстве стерильности это было самым грязным, самым преступным знаком. И самым ценным.
Мысли, которые раньше метались в панике, начали выстраиваться в строгую логическую структуру. Мой мозг программиста, привыкший искать баги в коде, наконец-то переключился с анализа собственного «несовершенства» на анализ системы, в которой я оказался.
Система Белова была гениальна. Она работала на уязвимостях.
Первый уровень: «бомбардировка любовью». Создание ощущения безопасности, принятия, эксклюзивности. Жертва расслабляется, снижает защиту.
Второй уровень: введение нового языка. «Ментальные токсины», «вибрации вины», «поле чистоты». Это переформатирует мышление. Человек начинает думать в категориях, созданных манипулятором. Критическое мышление атрофируется, потому что для сомнений нет подходящих терминов. Любое сомнение – это «сопротивление» или «проявление эго».
Третий уровень: публичные исповеди. Это главный инструмент. Человек отдает свое самое сокровенное оружие в руки группы. Его уязвимость становится общим достоянием и инструментом контроля. Группа, управляемая Беловым, решает, «чист» ты или «грязен». Формируется тотальная зависимость от мнения коллектива.
Четвертый уровень: изоляция. Разрыв связей с внешним, «токсичным» миром. Семья, друзья – все, кто может дать альтернативную точку зрения, объявляются источником «загрязнения». Единственным авторитетом остается Белов.
Я сидел на краю кровати в белой келье посреди Москвы-Сити и чувствовал себя так, словно только что очнулся от долгого, мучительного сна. Анестезия проходила, и я начинал чувствовать боль. И ярость. Холодную, тихую ярость, которая была мне почти незнакома.
***
Утро было пропитано напряжением. Воздух в «Пространстве ясности» звенел от невысказанного. После медитации, во время которой я не мог сосредоточиться, Белов не отпустил нас, как обычно. Он остался стоять в центре круга, и его мягкая улыбка сегодня казалась особенно хищной.
«Друзья мои, – его голос, как всегда, был бархатным, но сегодня в нем слышались стальные нотки. – Вчера мы с вами проделали колоссальную работу. Мы начали процесс глубокого очищения. Но, как и после любой хирургической операции, важен послеоперационный период. Важно соблюдать чистоту, чтобы в рану не попала инфекция».
Он медленно обводил нас взглядом. Я старался не смотреть в его сторону, не смотреть на Елену, которая сидела напротив, ссутулившись и глядя в пол. Я чувствовал себя как под микроскопом.
«Иногда инфекция приходит оттуда, откуда не ждешь, – продолжал Белов. – В виде неуместного сочувствия. В виде тайных разговоров. В виде нарушения правил, которые установлены для вашей же безопасности. Некоторые из вас могут принять проявление чужой слабости, чужого эгоизма, за повод для слияния. Вы думаете, что утешаете. Но на самом деле вы просто пачкаетесь в чужой грязи. Вы создаете "запретные союзы", которые тянут вас обоих на дно, в трясину старых, деструктивных паттернов».
Каждое слово было как удар. Он знал. Он не мог не знать. В этом месте не было секретов. Либо кто-то видел нас, либо он просто почувствовал изменение в «общем поле», как он любил говорить. Его интуиция на чужие слабости и страхи была феноменальной. Это был прямой, недвусмысленный сигнал. Нам с Еленой.
Я почувствовал, как Виктор Орлов, сидевший в двух пуфах от меня, впился в меня взглядом. Я не смотрел на него, но ощущал этот взгляд физически, как ожог. Виктор был сторожевым псом системы. Его фанатизм был абсолютным.
«Алексей, – Белов обратился ко мне напрямую. Я вздрогнул, но заставил себя поднять голову и посмотреть ему в глаза. – Вчера ты проявил прекрасную осознанность. Ты не поддался первичному импульсу и решил проанализировать свою реакцию на историю Елены. Я уверен, ты провел глубокую внутреннюю работу. Поделись с нами своими выводами. Что именно в ее "токсине" так сильно срезонировало с твоими собственными паттернами? Какой гнойник в твоей душе это вскрыло?»
Тишина стала свинцовой. Это был допрос. Ловушка, расставленная с дьявольской точностью. Любой ответ был проигрышным. Если я скажу то, что он хочет услышать, – что я увидел в ее «гордыне» отражение своей, – я предам Елену и тот хрупкий союз, что возник между нами. Я снова стану трусом в собственных глазах. Если я скажу правду – что я увидел не ее токсин, а его жестокость, – меня уничтожат.
Но был и третий путь. Тот, который я нащупал вчера ночью. Говорить на его языке. Использовать его оружие против него. Я сделал глубокий вдох, стараясь, чтобы мой голос не дрожал.
«Да, доктор. Я провел анализ, – начал я, тщательно подбирая слова, как сапер, работающий с миной. – Реакция была действительно очень сильной. Но, погрузившись глубже, я понял, что триггером был не сам "ментальный токсин" Елены, как вы выразились. Не ее история. А сам процесс "терапевтической проработки"».
В глазах Белова мелькнуло удивление. Он ожидал другого. Я продолжил, чувствуя, как по спине струится холодный пот.
«Я увидел, как коллективная энергия, направленная на одну точку, создает поле невероятного напряжения. Мои старые паттерны, связанные со страхом публичного осуждения, конечно, активировались. Но основной инсайт был другим. Я осознал, что эффективность этого метода… его чистота… напрямую зависит от чистоты намерения каждого участника. Если хотя бы один из нас вносит в этот процесс не энергию исцеления, а скрытое осуждение, страх или даже тщеславие от собственной "проницательности", вся система может быть скомпрометирована. Энергетический поток загрязняется. И вместо очищения может произойти… ретравматизация».
Я замолчал. В комнате стояла абсолютная тишина. Я не обвинил его. Я не защитил Елену напрямую. Я сделал нечто гораздо более опасное: я поставил под сомнение его метод. Я обернул его же учение о «чистоте» против него самого, тонко намекнув, что проблема может быть не в пациентах, а в «целителях». Я использовал его жаргон, его концепции, я говорил как идеальный ученик, который просто развил мысль учителя. Но мы оба – и, я уверен, Виктор тоже – понимали истинный смысл моих слов. Это был мятеж. Тихий, вежливый, облеченный в правильные формулы, но мятеж.
Лицо Белова на секунду стало непроницаемым, как маска. Улыбка исчезла. В его глазах, обычно теплых и обволакивающих, сверкнул холодный блеск. Это был взгляд хирурга, обнаружившего, что пациент на операционном столе вдруг очнулся. Но это длилось лишь мгновение. Маска тут же вернулась на место.
«Великолепно, Алексей, – его голос снова стал бархатным, но я слышал в нем фальшь. – Какой глубокий, какой тонкий анализ. Ты абсолютно прав. Чистота намерения – это ключ. И ты совершенно прав, указывая на потенциальную опасность. Именно поэтому мы здесь. Чтобы учиться очищать свои намерения. Ты увидел эту опасность, потому что она есть и в тебе самом. Твой страх осуждения, о котором ты упомянул, – это и есть тот "загрязнитель", который ты мог бы привнести в процесс. Ты молодец, что отследил это. Теперь твоя задача – работать именно с этим. С собственным страхом быть осужденным за правду. Спасибо за твою смелость».
Он был гениален. Одним движением он обезоружил меня, вывернул мой выпад наизнанку и снова направил его на меня. Он согласился со мной, похвалил меня, и тут же переопределил мой «инсайт» как симптом моей же проблемы. Он снова загнал меня в клетку. Я опустил глаза, чувствуя себя одновременно опустошенным и восхищенным его дьявольским мастерством. Я проиграл этот раунд.
Но что-то было по-другому. Я проиграл, но я не был сломлен. Я бросил вызов. Я заставил его на секунду снять маску. И я увидел, что за ней. Там не было всезнающего гуру. Там был холодный, безжалостный игрок. И теперь я знал правила игры.
***
Остаток дня прошел в тумане паранойи. Каждый взгляд казался мне подозрительным. Каждый шепот в коридоре – зловещим. Во время обеда в стерильной столовой я старался не встречаться взглядом с Еленой, но чувствовал ее присутствие каждой клеткой. Мы были как два заговорщика, вынужденные изображать незнакомцев под пристальным взглядом тюремщиков. Виктор Орлов не отходил от меня ни на шаг, постоянно заводя разговоры о «полном доверии доктору», о «необходимости сломать свое эго». Его слова были вязкими и липкими, как патока, и я с трудом заставлял себя кивать и поддакивать, чувствуя тошноту.
Вечером, вернувшись в свою комнату, я первым делом подошел к зеркалу. Мое отражение больше не казалось мне чужим. Это был я. Алексей Петров, тридцатидвухлетний программист, который вляпался в историю, многократно превосходящую его по сложности. В глазах отражавшегося человека был страх. Но под ним, на самой глубине, зарождалось что-то еще. Упрямство. Желание не просто сбежать, а понять. Разобрать эту проклятую систему на части, найти ее уязвимости, ее главный баг, и нажать на Delete.
Мой взгляд скользнул по комнате. Безупречно гладкие стены. Лаконичная мебель. Ничего лишнего. Идеальный порядок. Но после утреннего разговора я смотрел на эту чистоту по-другому. Чистота – это сокрытие. Чем идеальнее фасад, тем больше грязи он скрывает. Что скрывают эти белые стены? Что прячется за идеальной улыбкой Белова?
Я начал методично осматривать свою комнату. Не как пациент, а как аналитик. Я искал аномалии. Нестыковки. Я простукивал стены, осматривал вентиляционную решетку, заглядывал под кровать. Ничего. Все было именно таким, каким казалось – идеально собранным, монолитным.
И тогда я заметил это. Угол плинтуса возле кровати. Он прилегал к стене не так плотно, как в других местах. Зазор был в долю миллиметра, его можно было заметить, только если искать специально. Я поддел его ногтем. Плинтус легко отошел. За ним, в стене, была крошечная ниша. А в ней – маленький, сложенный в несколько раз листок бумаги.
Сердце заколотилось с бешеной скоростью. Руки дрожали, когда я разворачивал его. Это был не мусор. Это было послание. Написанное торопливым, угловатым почерком.
Там было всего несколько слов:
«Они не уходят. Они исчезают. Спроси про Анну».
Белые стены, темные мысли
Тишина, оставшаяся после ухода Елены, была оглушительной. Она разительно отличалась от той выверенной, инженерной тишины «Пространства ясности», которая царила здесь днем. Та была вакуумом, спроектированным для подавления любых внутренних шумов. Эта же, ночная тишина в моей келье, была наполнена эхом недавнего присутствия, отпечатком тепла на холодном воздухе, фантомным ощущением ее пальцев, все еще горевшем на моей коже. Это была тишина заговора. Тишина, в которой родилось что-то запретное и живое.
Я стоял посреди комнаты, не двигаясь, боясь спугнуть это новое, хрупкое чувство. Оно было похоже на первый вздох после долгого пребывания под водой. Болезненный, обжигающий легкие, но утверждающий жизнь. Я медленно поднял правую руку, ту, что держала ее ладонь. Разжал пальцы. Ничего. На коже не осталось следов, никаких видимых отметин, но я чувствовал это прикосновение как клеймо. В мире Арсения Белова, где любое несанкционированное чувство было «ментальным токсином», а любая связь – «взаимным загрязнением», этот простой человеческий жест был актом высшего преступления. И, возможно, единственным актом подлинного очищения.
Мой мозг, привыкший раскладывать хаос на логические структуры, заработал с лихорадочной скоростью. До этой ночи объектом анализа был я сам. Мои страхи, мои «деструктивные паттерны», моя «грязь». Я был багом, который нужно было исправить. Теперь система координат сместилась. Я перестал смотреть внутрь, на свои мнимые изъяны, и обратил взгляд наружу. На саму систему. И система, при ближайшем рассмотрении, оказалась безупречным, но порочным кодом. Гениальным в своей архитектуре манипуляции. Белов не лечил. Он перепрограммировал. Он не помогал найти себя, он стирал исходную личность, чтобы на чистом носителе записать свою операционную систему. А мы, его пациенты, платили огромные деньги за право быть отформатированными.
Холодная, тихая ярость, которую я ощутил вчера во время экзекуции Елены, вернулась. Но теперь она была не просто эмоцией. Она стала инструментом. Топливом для моего аналитического аппарата. Я подошел к зеркалу во всю стену. Еще вчера я видел в нем отражение труса, монстра, созданного чужой волей. Сегодня я смотрел в глаза человеку, который только что нарушил главный закон своей тюрьмы. Страх никуда не делся. Он сидел глубоко внутри, холодный и знакомый, как старый шрам. Но рядом с ним появилось что-то еще. Упрямство. Любопытство аналитика, наткнувшегося на нетривиальную задачу. Желание не просто сбежать, а понять. Найти уязвимость. Обнаружить бэкдор в этой идеальной системе тотального контроля.
Я знал, что следующий день станет проверкой. Белов все чувствует, все видит. Его интуиция на чужие слабости и страхи была почти сверхъестественной. Он заметит изменение в моем «поле», как он любил говорить. И он нанесет удар. Нужно было приготовиться. Я лег на жесткую кровать, но сон не шел. Белые стены комнаты в тусклом свете ночника казались бесконечными, как снежная пустыня. Белые стены, темные мысли. Я закрыл глаза и вместо сна провалился в память.
…Мне шестнадцать. Неловкий, угловатый, вечно прячущийся за экраном компьютера. И есть она. Маша. Она пахнет яблоками и дождем. Она смеется так, что хочется смеяться вместе с ней, даже если шутка несмешная. Она единственная, кто видит за моей броней молчания и сарказма что-то еще. Мы сидим на крыше ее девятиэтажки, болтаем ногами над пропастью, и делимся секретами, которые кажутся нам важнее всего на свете. Я рассказываю ей о своем отце, которого почти не помню, она – о своей мечте стать ветеринаром и уехать в Африку. И я впервые в жизни не чувствую себя одиноким. Впервые позволяю кому-то подойти так близко. Я доверяю ей свой самый главный, самый постыдный секрет: я пишу стихи. Плохие, пафосные, полные юношеского максимализма, но настоящие. Я читаю их ей шепотом, и она слушает, положив голову мне на плечо, и в этот момент я готов поверить, что мир – хорошее место. А потом случается вечеринка у кого-то из одноклассников. Громкая музыка, дешевое вино. И Леха, самый популярный парень в классе, отводит меня в сторону. «Слышь, Петров, а правда, что ты поэмы кропаешь? Машка рассказала. Говорит, уморительно». Он смеется, и его смех подхватывают другие. Кто-то просит почитать. Я смотрю на Машу через всю комнату. Она стоит рядом с Лехой, смотрит в пол и виновато улыбается. И в этой улыбке я вижу все. Не злой умысел. Нет, что-то гораздо хуже. Простоту. Легкость, с которой она разменяла мою сокровенную тайну на пару очков в иерархии популярности. Моя уязвимость стала разменной монетой. Я разворачиваюсь и ухожу. Иду по ночным улицам, и внутри меня что-то выгорает дотла. Стена, которую я потом воздвигну вокруг себя, будет построена из этого пепла. Близость – это предательство. Уязвимость – это унижение. Это аксиома, выжженная на подкорке…
Я резко открыл глаза. Сердце колотилось. Белые стены моей кельи были все так же безмолвны. Воспоминание, которое я годами хоронил под слоями рационализации, всплыло с пугающей ясностью. Я понял, почему публичное унижение Елены так сильно ударило по мне. Белов инстинктивно нащупал самую старую и глубокую рану. Но теперь, глядя на это воспоминание без привычного ужаса, я увидел и другое. Моя аксиома была ложью. Да, близость несла в себе риск предательства. Но добровольная тюрьма одиночества, в которую я себя запер, была не спасением, а медленной смертью. Елена вчера не предала. Она пришла, чтобы разделить свою боль и увидела мою. Мы были уязвимы друг перед другом, и это не уничтожило нас, а сделало сильнее. Белов извращал саму суть человеческих связей, представляя их как патологию. И я чуть было не поверил ему.
Утро в «Пространстве ясности» было таким же, как и всегда. Стерильным, тихим, упорядоченным. Участники программы в своих белых одеждах двигались плавно и беззвучно, словно призраки. После безвкусного, но «энергетически чистого» завтрака мы собрались на утреннюю медитацию. Я сел на свой пуф, стараясь не встречаться взглядом с Еленой. Она сидела напротив, ссутулившись, глядя в пол, и казалась почти невидимой.
«Доброе утро, друзья мои», – бархатный голос Белова заполнил пространство. «Сегодня я хочу поговорить с вами об иммунитете. О духовном иммунитете. Наше поле чистоты – это живой организм. И, как любой организм, он уязвим для инфекций. Иногда инфекция проникает извне, из токсичного мира, от которого мы учимся себя защищать. Но бывает, что инфекция зарождается внутри. Она начинается с малого. С неуместного сочувствия, которое мы путаем с состраданием. С тайного шепота. С запретного союза, основанного не на стремлении к свету, а на совместном барахтанье в грязи. Две слабые души, вместо того чтобы тянуться к силе, цепляются друг за друга и тянут друг друга на дно. Они создают маленький, грязный мирок внутри нашего большого, чистого мира. Они думают, что их никто не видит. Но поле не обманешь. Вибрации лжи, вибрации тайны отравляют все вокруг».
Он говорил, не глядя ни на кого конкретно, но каждое слово было снайперским выстрелом. Воздух в комнате стал плотным, дышать было трудно. Я чувствовал на себе взгляды других. Особенно тяжелым был взгляд Виктора. Он сидел в двух пуфах от меня, прямой как струна, и я физически ощущал исходящую от него волну фанатичной враждебности. Он был иммунной системой этого организма. Клеткой-киллером, готовой уничтожить любой чужеродный элемент. Я заставил себя расслабить мышцы, выровнять дыхание, принять отстраненное выражение лица. Я был программистом, симулирующим нормальную работу системы, в то время как внутри выполнялся вредоносный скрипт.