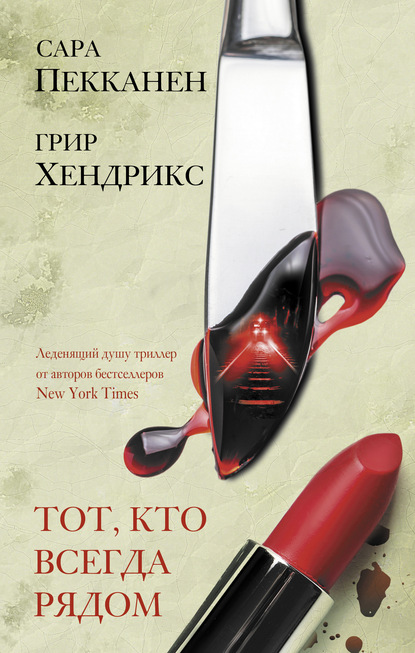Терапия чистоты

- -
- 100%
- +
После медитации Белов не отпустил нас. «Вчера Алексей подарил нам всем прекрасный инсайт, – продолжил он, и его взгляд остановился на мне. – Он говорил о чистоте намерения. О том, как легко загрязнить процесс исцеления скрытым осуждением или страхом. Это был очень зрелый и тонкий анализ. Настолько тонкий, что я хотел бы, чтобы мы все вместе его продолжили».
Это была ловушка. Второй раунд вчерашнего допроса.
«Алексей, – его голос стал мягким, вкрадчивым, как у гипнотизера. – Давай вернемся к твоей реакции на Елену. Ты сказал, что твой страх публичного осуждения активировался. Это понятно. Но давай копнем глубже. Чей именно суд тебя так пугает? Наш? Мой? Или твой собственный? Может быть, ты осудил нас за нашу "жестокость"? Может быть, в тебе проснулся "спасатель", который захотел защитить "жертву"? Почувствуй эти вибрации в себе. Не бойся их. Просто назови их. Что это было, Алексей? Гордыня, которая посчитала, что знает лучше, как надо исцелять? Или созависимость, которая увидела в чужой боли отражение своей и захотела слиться с ней в нечистоте?»
Он предлагал мне два варианта ответа, и оба были признанием вины. Третьего не дано. Я поднял на него глаза. Вчера я проиграл раунд, но узнал правила игры. Сегодня я попробую сыграть по ним.
«Это был страх, доктор, – сказал я ровным, почти бесцветным голосом. – Страх, что моя собственная нечистота окажется недостаточно сильной, чтобы выдержать такой мощный очищающий поток. Я увидел, как работает этот инструмент. Увидел его невероятную силу. И испугался. Испугался, что когда придет мой черед, я сломаюсь. Что я не смогу вынести на свет всю свою грязь. Моя реакция была продиктована не осуждением группы, а осознанием собственной слабости. Это было проявление моего эго, которое боится быть уничтоженным на пути к чистоте».
Я говорил на его языке. Я взял его концепции и вывернул их так, чтобы они служили моей защите. Я не защищал Елену. Я не нападал на него. Я каялся. Я выставлял себя еще более прилежным, но слабым учеником, который восхищен силой мастера, но боится ее.
На несколько секунд в его глазах снова мелькнул тот холодный, оценивающий блеск. Он изучал меня, пытаясь найти изъян в моей логике, фальшь в интонации. Я выдержал его взгляд. Затем его губы снова растянулись в привычной мягкой улыбке.
«Спасибо, Алексей. Спасибо за эту кристальную честность. Ты видишь? Ты уже делаешь это. Ты работаешь со своим страхом. Ты выносишь его на свет. Это огромный шаг. Мы обязательно поможем тебе пройти этот путь. Ты не сломаешься. Ты очистишься».
Он отпустил меня. Пока. Я снова выиграл отсрочку, но чувствовал себя совершенно опустошенным. Эта интеллектуальная и эмоциональная эквилибристика выматывала сильнее любого физического труда.
День тянулся, как вязкий сироп. Обед в стерильной столовой, где звон приборов о тарелки казался единственным живым звуком. Я сидел за одним столом с Еленой, но между нами было еще несколько человек. Мы ни разу не посмотрели друг на друга, но я чувствовал ее присутствие каждой клеткой. Это было странное, мучительное напряжение – быть так близко и одновременно так далеко, быть связанными общей тайной и вынужденными изображать полное безразличие. Я видел, как Виктор Орлов, сидевший за соседним столом, не сводит с нас глаз. Его взгляд был физически ощутим, как давление.
После обеда у нас было «свободное время» – час, который мы должны были проводить в «рефлексии», гуляя по специальной застекленной галерее или сидя в «Пространстве ясности». Я выбрал галерею. Это была длинная белая кишка с панорамными окнами, выходившими на внутренний дворик – такой же стерильный, с идеально подстриженным газоном и несколькими геометрически правильными белыми скамейками. Ходячий труп в мавзолее.
Я медленно шел по галерее, когда со мной поравнялся Виктор.
«Мощная была утренняя сессия, – сказал он без предисловий. Его голос был резким, лишенным обволакивающих интонаций Белова. – Доктор гений. Он видит все насквозь».
«Да, – нейтрально ответил я. – Очень глубоко».
«Ты вчера хорошо держался, – продолжил он, глядя прямо перед собой. – Не поддался на ее провокацию. На ее женскую слабость. Это ловушка эго. Жалость к себе и другим. Она тянет вниз, в грязь. Я знаю. Я сам через это прошел. Когда я только пришел сюда, я все время хотел всех "спасать". А на самом деле просто искал кого-то, с кем можно было бы разделить свою ничтожность. Доктор выжег это из меня каленым железом. И я ему благодарен».
Он остановился и повернулся ко мне. Его глаза горели фанатичным огнем.
«Не позволяй ей утянуть тебя, Петров. Она – якорь. Она цепляется за свою "уникальность", за свою "боль". Это гордыня. Путь к чистоте – это путь одиночества. Ты должен доверять только доктору. Никому больше».
Это была прямая угроза. Предупреждение. Он не просто подозревал. Он знал. Или был уверен, что знает. Я посмотрел в его горящие глаза и впервые не почувствовал отвращения. Я почувствовал интерес аналитика. Что движет этим человеком? Не просто благодарность за избавление от зависимости. Здесь было что-то большее. Полное растворение своей личности в личности Белова. Он не просто следовал учению. Он был его частью. Он был его иммунной системой, потому что любая угроза системе была угрозой его собственному существованию, которое без Белова теряло всякий смысл.
«Спасибо за совет, Виктор, – сказал я спокойно. – Я ценю твою заботу».
Он хмыкнул, явно не поверив в мою искренность, и пошел дальше, оставив меня одного в белой галерее. Я понял, что у нас с Еленой почти не осталось времени. Система нас заметила. И скоро начнет процесс отторжения.
Нужно было действовать. Но как? Все наши передвижения контролировались. В комнатах, я был уверен, были скрытые камеры или микрофоны. Любое отклонение от расписания фиксировалось. Бежать? Куда? Назад, в свою старую жизнь, в свою тюрьму одиночества, из которой я так отчаянно пытался вырваться? И что я скажу? «Меня пытались вылечить, но мне не понравилось»? Это прозвучит как бред сумасшедшего. Нет, мне нужны были доказательства. Что-то, что можно было бы предъявить внешнему миру. Что-то, что вскрыло бы ложь этой идеальной белой поверхности.
Весь остаток дня я провел, составляя в уме карту «Терапии чистоты». Не географическую, а системную. Где могли быть слабые места? Не в физической охране, она была безупречна. В информации. В людях. Большинство участников были так же слепо преданы Белову, как и Виктор. Но были и другие. Тихие, сломленные, как та женщина, что вчера обвиняла Елену в «неуважении к матери». Они были не фанатиками, а жертвами, повторяющими заученные формулы в надежде на облегчение. Они были не опасны. Но и не союзники.
Оставалась Елена. Мне нужно было поговорить с ней. Не просто обменяться словами поддержки, а выработать план. Но как?
Вечером, после последней медитации, когда все разошлись по комнатам, я лежал на кровати, глядя в белый потолок. Мозг гудел от напряжения. Я прокручивал в голове все события последних двух дней, пытаясь найти в них ключ, зацепку. И тут я кое-что вспомнил. Вчера, во время публичной порки Елены, была одна женщина, которая молчала. Она не присоединилась к общему хору обвинителей. Это была пожилая, очень тихая женщина, которую все звали Марина Сергеевна. Она почти никогда не говорила на групповых сессиях, а если и говорила, то какими-то общими, ничего не значащими фразами. Она всегда сидела чуть поодаль, и в ее глазах была не вера, а бесконечная, застарелая тоска. Она не кивала во время речей Белова, но и не выказывала несогласия. Она просто… отсутствовала. И вчера она молчала.
Эта мысль показалась мне важной. Это была аномалия в поведении системы. В тот момент, когда от всех требовалось участие в коллективном ритуале, она от него уклонилась. Почему Белов или Виктор не обратили на это внимания? Может, они считают ее безнадежной? Списали со счетов?
Я решил, что должен попробовать с ней поговорить. Это был риск, но пассивное ожидание было еще большим риском.
На следующий день я специально подкараулил момент после завтрака, когда она, как обычно, в одиночестве пошла в библиотеку. Библиотека в «Терапии чистоты» была еще одним инструментом доктрины. На полках стояли исключительно книги по психологии, эзотерике и саморазвитию, тщательно отобранные Беловым, а также несколько его собственных брошюр в белых обложках. Я вошел следом за Мариной Сергеевной. Она сидела в кресле у окна, листая какой-то толстый том.
«Марина Сергеевна?» – я подошел и заговорил как можно тише.
Она вздрогнула и подняла на меня испуганные глаза.
«Простите, я не хотел вас напугать. Я Алексей».
«Я знаю», – прошептала она.
«Я… я хотел спросить, – я замялся, не зная, как подойти к делу. – Вы давно здесь?»
«Давно, – она снова опустила взгляд в книгу. – Очень давно».
«Вам… помогает?»
Она горько усмехнулась, не поднимая головы. «Чистота – хорошая вещь, молодой человек. Очень хорошая. Главное – не переусердствовать. А то можно вместе с грязью и саму жизнь вымыть».
Ее слова, сказанные тихим, бесцветным голосом, поразили меня своей точностью. Она понимала. Может, не на уровне анализа, как я, а на уровне интуиции, на уровне своей долгой, вымытой добела жизни.
«Позавчера… на сессии с Еленой… – начал я, понизив голос до шепота. – Вы ничего не сказали».
Она медленно закрыла книгу. Ее руки с набухшими венами дрожали.
«А что я могла сказать? – она посмотрела на меня, и в ее выцветших глазах я увидел бездну горя. – Иногда молчание – это единственное, что остается. Когда все слова уже сказаны и все они – ложь».
Она встала, собираясь уходить.
«Подождите! – я шагнул к ней. – Пожалуйста. Я думаю, здесь происходит что-то неправильное. Что-то страшное».
Она посмотрела на меня долгим, печальным взглядом. «Мальчик, – сказала она так тихо, что я едва расслышал. – Ты не первый, кто так думает. И не последний. Просто будь осторожен. Стены здесь не только белые. Они еще и с ушами».
Она пошла к выходу. У самой двери она обернулась.
«Если ищешь ответы, – прошептала она, – ищи то, что они прячут. Они очень не любят то, что было до. До того, как все стало таким чистым. Спроси у здешних стен про Анну».
И она вышла, оставив меня одного в стерильной тишине библиотеки.
Анна.
Имя повисло в воздухе. Это была первая конкретная зацепка. Не просто мои догадки и ощущения, а имя. Кто такая Анна? Пациентка, которая была здесь «до»? Что с ней случилось? Почему ее имя нужно спрашивать у стен?
Я вернулся в свою комнату, и привычная белая келья показалась мне другой. Теперь я смотрел на эти безупречные стены не как на символ пустоты, а как на хранителей тайны. «Спроси у здешних стен про Анну». Это метафора? Или…
Я подошел к стене возле кровати и начал ее внимательно осматривать. Гладкая, идеально окрашенная поверхность. Ни трещинки. Я начал простукивать ее костяшками пальцев. Звук везде был одинаково глухим. Это было безумие. Паранойя. Я остановился, чувствуя себя идиотом.
И тут мой взгляд упал на плинтус. Тот самый, о котором я уже думал. Но в прошлый раз я искал тайник. А что, если?..
Я снова опустился на колени. Плинтус был сделан из какого-то полимерного материала, идеально подогнан. Но, как и все в этом мире, он не был монолитом. Он состоял из секций. Я провел пальцами по стыку. Почти незаметно. Я достал из кармана пластиковую карту-ключ от своей комнаты и осторожно вставил ее тонкий край в щель. С небольшим усилием я повел ее вдоль стыка. И вдруг в одном месте карта ушла чуть глубже. Я нажал. Раздался тихий щелчок. Секция плинтуса поддалась. Это была не просто декоративная планка. Это была крышка кабель-канала.
Сердце заколотилось. Я подцепил крышку и снял ее. Внутри, в пыли, среди проводов, лежал маленький, сложенный вчетверо листок бумаги. Точно так же, как и тот, который я мог бы найти, если бы кто-то другой оставил мне послание. Но этот листок был старым, пожелтевшим, пыльным. Он пролежал здесь очень долго.
Руки у меня дрожали. Я развернул его.
Это был не текст. Это был детский рисунок. Неумелой рукой, цветными карандашами нарисованный домик, солнце в углу и две фигурки, держащиеся за руки – большая и маленькая. И внизу, такими же кривыми печатными буквами, было подписано одно слово.
«МАМА».
Я перевернул листок. На обратной стороне тем же детским почерком было выведено имя.
АННА.
Архитекторы вины
Детский рисунок в моих руках казался артефактом из другой, давно погибшей цивилизации. Он был теплым, хрупким, пахнущим пылью и забытым временем. В этом стерильном, цифровом мире, где все было гладким, белым и безличным, этот маленький пожелтевший листок бумаги был аномалией, сбоем в матрице. Имя «АННА», выведенное внизу неуверенными печатными буквами, было не просто набором символов. Это был ключ, указатель на удаленный блок памяти, который система отчаянно пыталась пометить как стертый. Но данные никогда не исчезают бесследно. Они оставляют призрачные следы. Анна была призраком в этой идеально отлаженной машине.
Я аккуратно сложил рисунок и вернул его в тайник, защелкнув крышку кабель-канала. Плинтус встал на место с тихим щелчком, и комната снова обрела свою безупречную целостность. Но это была иллюзия. Теперь я видел трещину. Я знал, что за этой белой стеной, внутри ее пластиковых вен, спрятана история. История ребенка, который рисовал солнце, домик и маму. Ребенка, который исчез.
Сон этой ночью был не забытьем, а погружением в чужой кошмар. Я брел по бесконечным белым коридорам «Терапии чистоты», но они были не пусты. Стены были испещрены детскими рисунками, похожими на тот, что я нашел. Тысячи солнц, домиков, маленьких фигурок, держащихся за руки. И на каждом рисунке одно и то же имя: АННА. Я шел, и рисунки менялись. Солнце становилось черным. У домика появлялись решетки на окнах. Фигурки отдалялись друг от друга, их руки больше не соприкасались. А потом стены и вовсе стали пустыми, отмытыми добела, но я все равно видел под слоями краски бледные контуры стертых изображений. Я проснулся от собственного сдавленного крика, сердце колотилось в горле, а в ушах звенел шепот Марины Сергеевны: «Спроси у здешних стен про Анну».
Утро было пропитано статическим электричеством. Атмосфера в «Пространстве ясности» после завтрака была густой и тяжелой, как воздух перед грозой. Все сидели на своих местах в идеальном круге, но расслабленных поз не было. Каждый взгляд казался взвешенным, каждое движение – просчитанным. Белов стоял в центре, и его мягкая улыбка сегодня не обманывала никого. Она была тонкой, как лезвие скальпеля. Он знал, что в его стерильном организме завелся вирус. И он собирался провести показательную вивисекцию.
«Вчера мы говорили о чистоте намерения, – начал он своим бархатным, обволакивающим голосом, который сегодня, казалось, скрывал под собой вибрацию металла. – Мы говорили о том, как легко привнести в целительный процесс скрытое осуждение или страх. Алексей помог нам увидеть эту опасность. Но теория без практики мертва. Сегодня мы перейдем к практике».
Он сделал паузу, позволяя своим словам впитаться в напряженную тишину.
«Я разработал новую практику, которую мы назовем "Зеркало намерения". Суть ее проста. Мы часто видим в других отражение собственных неисцеленных травм, собственных "токсинов". Мы проецируем на них свою грязь. Практика поможет нам увидеть эти проекции. Увидеть и очистить. Один из вас выйдет в центр. А другой… другой станет для него зеркалом. Он должен будет всмотреться в первого и честно сказать, какие "вибрации вины", какие "ментальные токсины" он в нем ощущает. Какую тень он видит за его светом».
По спине у меня пробежал холод. Я понял все. Это было дьявольски гениально. Он не просто собирался нас столкнуть. Он собирался заставить нас самих стать архитекторами вины друг для друга. Он давал нам в руки инструменты для пыток и приказывал использовать их во имя исцеления. Это была публичная экзекуция, замаскированная под парную терапию. Я не смотрел на Елену, но чувствовал, как она сжалась на своем месте, стала почти невидимой.
«Кто хочет начать? – голос Белова был мягким и вкрадчивым. – Кто готов стать чистым зеркалом для другого? И кто готов мужественно взглянуть в это зеркало?»
Разумеется, первым отозвался Виктор. Он поднял руку нерешительно, а с резкой, хищной готовностью.
«Я готов, доктор. Я готов служить зеркалом».
«Прекрасно, Виктор. Твоя решимость – пример для всех нас, – кивнул Белов. Его взгляд медленно пополз по кругу, и я почувствовал себя дичью, на которую навели прицел. Он пропустил нескольких человек и остановился на мне. – Алексей. Вчера ты проявил невероятную аналитическую глубину. Ты видишь тонкие структуры, скрытые от других. Я думаю, ты будешь идеальным первым… объектом для отражения. Подойди. Позволь Виктору стать твоим зеркалом».
Это был удар. Расчетливый и точный. Он натравливал на меня своего самого верного пса. Он хотел сломать меня первым, на глазах у всех, чтобы другим было неповадно. Отказаться было невозможно. Это означало бы признать свое «сопротивление», свою «нечистоту». Я медленно поднялся. Ноги были ватными. Каждый шаг к центру круга отдавался гулким эхом в моей голове. Я сел на пуф напротив Виктора, который уже смотрел на меня своим горящим, фанатичным взглядом. В его глазах не было сочувствия. Только праведный огонь инквизитора.
«Итак, Виктор, – проинструктировал Белов. – Смотри на Алексея. Глубоко. Забудь о его личности, о его словах. Почувствуй его поле. Что ты видишь? Какую тень? Какой главный токсин он излучает прямо сейчас?»
Виктор подался вперед, его взгляд был физически ощутим, он словно пытался просверлить во мне дыру. Тишина в зале звенела. Я слышал собственное сердцебиение.
«Я вижу… – голос Виктора был низким и напряженным. – Я вижу гордыню. Интеллектуальную гордыню. Он думает, что он умнее всех. Он думает, что может проанализировать систему. Разобрать ее на части. Он не доверяет. Он не отдается потоку. Он стоит на берегу и судит тех, кто плывет. Его разум – это его клетка. Он построил ее сам и считает своей крепостью. Но это тюрьма. И эта тюрьма… она загрязняет наше общее поле. Вибрациями сомнения. Вибрациями… превосходства».
Каждое слово было точным попаданием. Белов либо рассказал ему о нашем утреннем диалоге, либо интуиция фанатика была так сильна. Они препарировали мой бунт, называя его гордыней. Они брали мой единственный инструмент – мой аналитический ум – и объявляли его источником грязи.
«Спасибо, Виктор. Очень точно, – сказал Белов. – Алексей, что ты чувствуешь, слыша это?»
Я должен был ответить. Капитулировать. Признать свою вину. Но ярость, холодная и ясная, придала мне сил. Я снова решил говорить на их языке.
«Я чувствую узнавание, – сказал я ровным голосом, глядя прямо в глаза Белову, игнорируя Виктора. – Я благодарен Виктору за то, что он отразил мне это. Мой разум действительно привык все контролировать. Это старый паттерн выживания. Когда я вижу мощный, гармоничный процесс, мой страх заставляет меня пытаться его "понять", вместо того чтобы ему "довериться". Это мой главный вызов здесь. Отключить аналитика и включить ученика. Спасибо, Виктор, ты помог мне это увидеть еще яснее».
Я каялся в преступлении, которого не совершал, чтобы скрыть то, которое совершил. Я признавал «гордыню разума», чтобы увести их от «преступления эмпатии».
Лицо Белова осталось непроницаемым, но я увидел, как на долю секунды в его глазах блеснуло… уважение? Уважение игрока к достойному ходу противника.
«Великолепно, – сказал он. – Вот это и есть настоящая работа. Не защищаться, а принимать. Не спорить, а использовать отражение для углубления. Спасибо, Алексей, Виктор. Вы задали прекрасный тон. А теперь… – его взгляд снова пошел по кругу, и мое сердце остановилось, потому что я знал, куда он приземлится. – Елена. Твоя очередь. Подойди».
Елена двигалась так, словно шла под водой. Медленно, неуверенно. Она села на пуф, который только что покинул я. Она была бледной, почти прозрачной. Она не поднимала глаз.
«А зеркалом для Елены… – Белов снова сделал свою садистскую паузу. – Будет Алексей».
Мир сузился до пространства между мной и Еленой. Это была ловушка, в тысячу раз более жестокая, чем предыдущая. Теперь я должен был стать палачом. Я должен был нанести удар по самому близкому здесь человеку. Уничтожить тот хрупкий мост, что возник между нами прошлой ночью. Любое доброе слово, любое молчание, любой отказ будет расценен как сговор. Он хотел, чтобы я предал ее публично. Чтобы я сам вонзил нож. Он заставлял меня доказывать свою лояльность системе ценой собственной человечности.
Я вернулся в центр и сел напротив нее. Она подняла на меня глаза, и в них была бездна отчаяния и… мольба. Не защити меня. Это было бы бесполезно. Она молила о другом. Не предавай. Не становись одним из них.
Мой мозг работал с бешеной скоростью, перебирая варианты. Атаковать ее по-настояться и сломать ее? Невозможно. Атаковать мягко, формально? Он тут же обвинит меня в «неуместном сочувствии». Отказаться? Меня уничтожат вместе с ней. И тогда я нашел единственный выход. Третий путь. Атаковать не ее, а тень между нами. Атаковать то самое «преступление», которого мы не совершали, и довести его до абсурда. Использовать их же оружие, но гиперболизировать его до такой степени, что оно станет фарсом, видимым, возможно, только нам двоим.
Я глубоко вздохнул. «Смотри на нее, Алексей, – направлял меня Белов. – Что ты чувствуешь? Какая тень отбрасывается ее полем?»
Я посмотрел на Елену. Наши взгляды встретились. Я надеялся, что она поймет.
«Я вижу… – начал я медленно, тщательно подбирая слова. – Я вижу невероятной силы гравитационное поле. Это… токсин притяжения. Она излучает вибрации… созависимости. Она молчаливо предлагает союз. Союз в нечистоте. Она ищет не исцеления, а сообщника. Ее слабость маскируется под хрупкость, но на самом деле это агрессивный поиск того, кто разделит с ней ее… – я сделал паузу, подбирая самое ядовитое слово из их лексикона, – ее комфортное загрязнение. Она не хочет в рай одна. Она хочет утащить кого-то с собой в уютный, привычный ад».
Я говорил чудовищные вещи. Я брал их самые страшные обвинения и озвучивал их сам. Но я смотрел ей в глаза, и в моем взгляде было все то, что я не мог сказать: «Это игра. Я играю. Подыграй мне».
По лицу Елены пробежала тень. На секунду мне показалось, что я ошибся, что она не поняла, что мой удар достиг цели. В ее глазах блеснули слезы. В зале повисла удовлетворенная тишина. Я почти слышал, как Белов мысленно аплодирует. Он победил. Он заставил меня сделать грязную работу.
Но потом Елена моргнула, стряхивая слезу, и тихо, но отчетливо сказала: «Он прав».
Я замер. Что она делает?
«Он абсолютно прав, – ее голос окреп. Она смотрела не на меня, а на Белова. – Я это почувствовала вчера. После сессии. Я почувствовала эту тягу. Найти кого-то, кто не будет осуждать. И я увидела эту слабость в Алексее. Его молчание. И я захотела использовать это. Зацепиться за него. Создать этот… островок грязи в океане чистоты. Я хотела сделать его своим сообщником. Спасибо, Алексей. Ты… ты отразил мне мою самую уродливую часть. Ты не поддался. Спасибо».
Она сделала это. Она поняла. Она не просто подыграла – она взяла мой пас и забила гол в собственные ворота с такой силой, что это обезоружило всех. Она признала свою «вину» с таким отчаянным мученичеством, что это выглядело как акт высшей чистоты. Мы оба каялись в преступлении, которого не было, с таким рвением, что стали самыми прилежными учениками в классе. Мы обернули их «Зеркало намерения» против них самих. Мы создали такую убедительную архитектуру нашей общей вины, что она стала нашим щитом.
Белов молчал несколько секунд, и я знал, что он в замешательстве. Спектакль, который он срежиссировал, вышел из-под контроля. Актеры переписали свои роли прямо на сцене. Он ожидал драмы предательства, а получил фарс покаяния.
«Это… – наконец произнес он, и в его голосе впервые послышалась легкая растерянность. – Это невероятный прорыв. Для вас обоих. Увидеть свой самый темный паттерн с такой ясностью… и не отвернуться. Признать его. Вынести на свет. Вы оба сделали сегодня гигантский шаг к настоящему очищению. Я благодарен вам».
Он был вынужден похвалить нас. Мы сыграли по его правилам так хорошо, что он не мог нас наказать. Но я видел холод в его глазах. Он понял, что это была не победа. Это была ничья. И он не любил играть вничью.