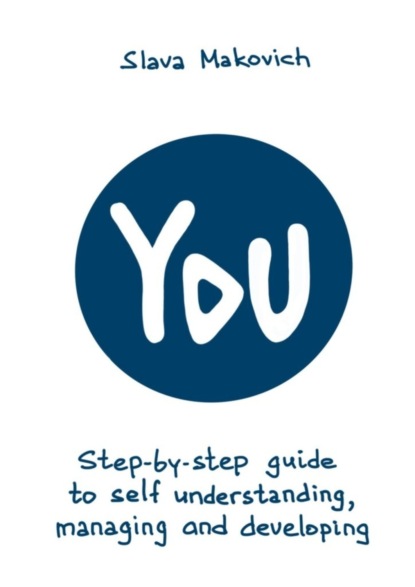Война за реальность. Как зарабатывать на битвах за правду
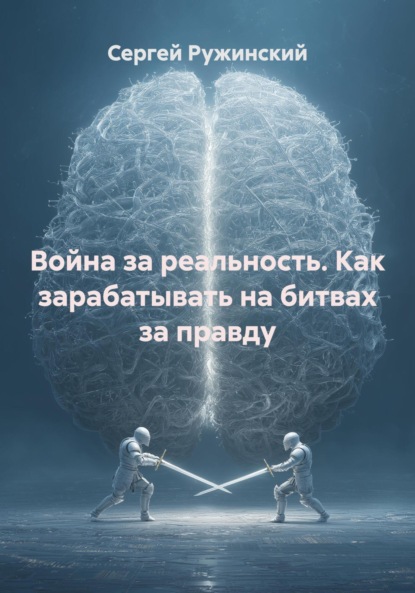
- -
- 100%
- +
Например: В 2023 году TikTok был уличён в алгоритмическом приоритете «вирусных» политических постов с крайними позициями. Алгоритм не агитировал напрямую, но создавал эффект консенсуса, формируя ощущение: «все уже выбрали сторону». Это и есть манипуляция «как газ» – не команда, а невидимое давление среды.
Например: В 2022 году Twitter (ныне X) был уличён в использовании алгоритма, который искусственно подавлял или продвигал сообщения на определённые темы. Пользователи начинали верить, что их мнение формируется независимо, хотя на деле оно направлялось системой. Это именно та манипуляция, которая «заставляет человека верить в свободу выбора, хотя он давно сделан за него» (по данным расследования журнала WIRED, 2022).
Число Миллера – это ядро любой технологии когнитивного взлома. Память удерживает 7 ± 2 элемента, и именно это окно становится полем боя. Но опытный манипулятор не ограничивается перегрузкой буфера – он строит над ним целую систему тактических приёмов. В ходе бурных дискуссий такие тактики часто дополняются незримыми «ментальными уколами» – короткими, но точными воздействиями, которые могут выбить из колеи неподготовленного оппонента. Для привычного к подобным схваткам спорщика это – один из рабочих инструментов, позволяющий сбить ритм и лишить противника опоры. Приёмы этого рода могут быть разнообразны: от тонкой иронии, маскирующей сарказм, до демонстративного игнорирования ключевого аргумента. Их объединяет одно – они воздействуют не на логику, а на эмоционально-волевую устойчивость собеседника, ускоряя его переход в состояние, при котором рациональная аргументация уже невозможна.
Закон Хика: чем больше вариантов выбора перед вами разложено, тем медленнее вы решаете и тем выше шанс, что выберете «по умолчанию». В цифровой среде это означает – вас заваливают двадцатью темами, но сортируют так, что нужная всплывает в первой позиции или в «рекомендованных».
Эффект Чанкинга: перегрузка дробными фактами опасна для манипулятора, поэтому их упаковывают в смысловые «чанки». Десять разрозненных новостей легко превращаются в три сюжетных блока – и мозг запоминает именно эти блоки, а не детали.
Правило трёх: из девяти элементов, перегрузивших ваш буфер, вас «выводят» на три якорные точки. Так в хаосе остаются именно те три, что нужны манипулятору. Остальное растворяется в сером шуме.
Когнитивная пропускная способность: канал восприятия ограничен, и если его забить второстепенными стимуляторами – яркими картинками, несвязанными фактами, эмоциональными вставками – то ключевое сообщение проходит мимо сознательной фильтрации, но остаётся в глубинной памяти.
Эффект серийной позиции: мы лучше всего помним то, что было в начале и в конце. Поэтому нужное слово или образ ставят либо первым, чтобы он «забетонировал» рамку восприятия, либо последним, чтобы он остался послевкусием в памяти.

Если рассматривать эти приёмы в отрыве от конкретного контекста, они могут показаться всего лишь изящными психологическими трюками. Но на деле это – каркас, на который нанизывается любая крупная информационная операция. Принципы числа Миллера, закона Хика, чанкинга, правила трёх, ограничения когнитивной пропускной способности и эффекта серийной позиции – это не теории из учебника когнитивистики, а боевая матчасть информационных войн. Стоит встроить их в нарратив, и перед нами уже не безобидная «механика восприятия», а конструктор по программированию общественного сознания. Именно так они работают в реальных конфликтах.
Публичный дискурс вокруг программы «Аполлон» и высадки американских астронавтов на Луну – классический пример, где на когнитивный скелет надет идеологический костюм. Здесь используется принцип «бюро экспериментальной шизофрении»: сознание намеренно раскалывают на два враждующих лагеря, уводя его всё дальше от объективной реальности. Чтобы понять, почему такая модель раскола настолько привлекательна для человеческой психики, достаточно взглянуть на то, как она реализована в одной из самых популярных социальных практик XX века. Это очень похоже на ситуацию с двумя основными школами психотерапии: Фрейда и Адлера:
Модель Фрейда утверждает, что во всём виноваты ваше детство, родители и прошлые травмы. Человек не несёт ответственности, а значит, может бесконечно обращаться к специалисту, жалуясь на свою боль – это отличная бизнес-схема. Именно этот принцип лежит в основе создаваемых в информационной войне нарративов: человеку предлагается занять позицию жертвы, либо обманутой властями, либо "заблуждающейся" и вечно "обсуждать" причиненный ущерб.
Адлер же, не отрицая влияния прошлого, считал основой исцеления способность взять на себя ответственность за свою жизнь. Но в его схеме виноваты мы сами и это для многих невыносимо. Вот почему общество не пошло за Адлером: оно готово бесконечно кормить тех, кто скажет, что это не мы "ленивая жопа", а просто "мама нас не долюбливала".

Таким образом, вечный спор о Луне – это нечто иное, как массовая психотерапевтическая сессия по фрейдистской модели, где людям предлагается вместо ответственности за собственное критическое мышление бесконечно обсуждать травму, нанесённую им «обманом» или «несовершенством» мира. Но любая такая модель жертвы обманчива: спрятав голову в песок, мы не становимся в безопасности. «Не пугайте страусов – пол бетонный»: уход от реальности лишь делает удар о неё неизбежным и ещё более болезненным. Именно так и работает когнитивная ловушка – она обещает защиту, но на деле лишь ускоряет встречу с жёсткой поверхностью фактов.
В 2020 году Facebook проводил эксперимент по снижению поляризации, показав пользователям более разнообразные точки зрения в ленте. Результат оказался обратным ожидаемому: участники стали ещё более убежденными в своей изначальной позиции, игнорируя альтернативные аргументы. Это подтверждает гипотезу, что даже при наличии «выбора», сознание склонно к самоусилению, если ранее уже вложилось в некий нарратив. Такой эффект делает стратегию раскола особенно эффективной. И хотя современные платформы многократно усилили этот механизм, его фундаментальная природа была описана ещё полвека назад.

Интересно, что в 1970-х годах советский философ Мераб Мамардашвили описал этот процесс как «машину отчуждения», где медиа создают «постоянный шум сомнений», заставляя людей выбирать не между правдой и ложью, а между двумя искусственными конструкциями, каждая из которых уводит от реальности. Его структура и методы во многом перекликаются с принципом, сформулированным богословом и философом Григорием Паламой (1296 г.): «Ложь, недалеко отстоящая от истины, создает двойное заблуждение… либо ложь принимают за истину, либо истину, по ее близкому соседству с ложью, – за ложь, в обоих случаях совершенно отпадая от истины». Эта идея нашла отражение в эксперименте 1973 года, проведенном психологом Дэвидом Розеном, который показал, что люди, столкнувшись с двумя противоречивыми версиями одного события, склонны отвергать обе, теряя способность к рациональному анализу. Лунный спор стал натурным образчиком этого эффекта.
Даже жена астронавта Майкла Коллинза, Джанет, на вопрос журналистов о полете мужа ответила фразой, ставшей крылатой: «Там должно быть хоть что-то настоящее».
Эта стратегия идеально укладывается в концепцию порядков симулякров Бодрийяра. Официальная версия NASA, даже если она приукрашена, все еще пытается быть отражением реальности (первый или второй порядок симулякра). Упрощенная же конспирология о «съемках в павильоне», это уже следующий, третий порядок: она маскирует не просто искажение, а полное отсутствие реальности полета. Таким образом, манипулятор предлагает обществу выбор не между правдой и ложью, а между двумя разными уровнями симуляции, каждый из которых уводит все дальше от подлинного положения дел. Но если Бодрийяр лишь описывал механизм этой деградации реальности, то советский писатель-мыслитель Иван Ефремов пошел дальше, дав этому явлению моральную и цивилизационную оценку. В его трактовке этот бег по кругу симулякров есть не что иное, как проявление фундаментального закона, который он назвал «стрелой Аримана» – извечной тенденции плохо устроенного общества умножать зло, направленное на уничтожение прекрасного, высшего, духовного, подменяя его суррогатом. В основе же такого общества лежит «инферно» – сумма первобытных инстинктов, удерживающая человека в плену биологической эволюции и подчиняющая его душу логике выживания животного. Война за реальность – это и есть поле боя между «стрелой Аримана», стремящейся низвести познание до уровня управляемого спектакля, и попыткой разума вырваться из «инферно» к автоэволюции – сознательному творению себя и мира.

В этом процессе ключевая роль принадлежит медиа, которые выступают не просто ретрансляторами, а активными усилителями симулякров. Иногда они буквально создают реальность под камеру. Прецеденты такой практики задолго предвосхитили эпоху цифровых фейков и имеют глубокие корни. Уже на Всемирных выставках XIX века демонстрировались «инновационные» паровые машины, которые на деле работали с помощью скрытых механизмов, компрессоров или подключения к внешнему источнику.
Но особенно показателен пример освоения американского Запада в 1870-х, когда по прериям катались театрализованные экспедиции с якобы работающими паровыми плугами, мельницами и жатками. Некоторые машины запускались только «на публику», под фото или камерой, и тут же исчезали, разобранные. Это был спектакль будущего: не технологии, а их образы звали фермеров на новые земли. Как и «Аполлон», они обещали не результат, а веру в грядущий прорыв. А в это время двигатель работал не на пару, а на доверии публики.
Немного позже, во время войны во Вьетнаме американские силы строили подставные деревни, где местные «статисты» изображали благодарных жителей, а списанная техника маскировалась под трофеи. Журналисты допускались только в заранее подготовленные зоны – своего рода «потёмкинские деревни» в джунглях. Полученные в таких условиях кадры попадали в мировую прессу как доказательства боевых успехов, формируя картину, не совпадающую с действительностью. Позднее, ветераны прессы вроде Питера Арнетта признавались: «многие из наших репортажей были не ложью, но и не правдой». Это классический симулякр второго порядка, изображение борьбы вместо самой борьбы, где журналисты невольно становятся частью спектакля, а не его фиксатором.
Аналогично в эпоху лунной программы телевидение и пресса, подконтрольные государственным и корпоративным интересам, превратили высадку на Луну в зрелище, где реальность события подменялась его постановочным образом. Кадры астронавтов, идущих по Луне, транслировались с драматической музыкой и героическими комментариями, создавая не столько документ, сколько миф. Этот процесс, описанный Ги Дебором как «общество спектакля», превратил лунную миссию в медийный продукт, где истина уступила место эмоциональному воздействию.

В обществе спектакля реальность не просто искажается – она сознательно подменяется более привлекательным и удобным для потребления образом. Сама истина, чтобы быть принятой массами, вынуждена рядиться в одежды вымысла. Эту циничную механику гениально описывает притча Августа Салеми:
В поисках Правды
Наконец в этой глухой, уединенной деревушке его поиски закончились. В ветхой избушке у огня сидела Правда.
Он никогда не видел более старой и уродливой женщины.
– Вы – Правда?
Старая, сморщенная карга торжественно кивнула.
– Скажите же, что я должен сообщить миру? Какую весть передать?
Старуха плюнула в огонь и ответила:
– Скажи им, что я молода и красива!
Эта притча – квинтэссенция всей лунной программы как медийного продукта. Миру нужна была не суровая и уродливая правда о технических проблемах, рисках и компромиссах, а красивая и молодая картинка триумфа. И NASA, как послушный вестник, передало миру именно ту весть, которую Правда сама пожелала о себе рассказать. В обществе спектакля зритель не ищет правды, он жаждет эмоций, которые заменяют ему реальность.
Например: Научно-популярные каналы YouTube, такие как Kurzgesagt, получают миллионы просмотров не за глубину анализа, а за визуально-эмоциональный стиль. При этом любой ролик о квантовой механике воспринимается массовой аудиторией как достоверный в силу анимации и уверенной дикции, а не в силу понимания содержания. Это иллюстрация принципа: визуальная подача становится более «реальной» и «авторитетной», чем смысл.
Медиа не просто сообщали о событии, они формировали его восприятие, задавая рамки, в которых общество могло его осмысливать. Именно эта медийная линза сделала возможным существование двух полярных версий, каждая из которых опиралась не на факты, а на заранее сконструированные образы. Сегодня эту функцию переняли алгоритмы. YouTube, например, стал новым телевидением для поколения, которое даже не знает, что такое программная сетка вещания. Платформа не просто показывает контент – она создаёт индивидуальные реальности, где у каждого своя «лунная программа». И если раньше медиа-гиганты вроде CBS тратили миллионы на создание единого нарратива, то теперь YouTube делает это бесплатно – просто позволяя алгоритмам плодить тысячи микроверсий истины.
Один из парадоксальных примеров, как визуальные технологии формируют миф, это старинные фотографии XIX века без людей. Сегодня это стало топливом для конспирологий: «людей тогда не существовало». Но всё проще – ранняя фотография (дагеротипия) требовала экспозиции до часа и движущиеся фигуры просто исчезали. Однако в логике Бодрийяра даже технический артефакт, вырванный из контекста, превращается в доказательство симулякра, знак вытесняет причину, пустой кадр становится «свидетельством» отсутствия людей. И точно так же, в 1969 году CBS специально наняла композитора, чтобы написать «эпическую» музыкальную тему к трансляции высадки на Луну. Она должна была «усилить чудо», но, по сути, превратила репортаж в театральное шоу, для которого знак высадки стал важнее самого факта высадки. Камера и музыка создали не документ, а миф. Французский философ Жан Бодрийяр описал явление подмены реальности через образы в своей теории симулякров. В логике его подхода мы наблюдаем переход в третий порядок симулякров, где само событие уже не имеет значения, имеет значение лишь его эффект.
Чтобы по-настоящему понять, как знак вытесняет событие, а образ подменяет факт, обратимся к структуре симулякров, описанной Жаном Бодрийяром. Он выделял четыре порядка симулякров, которые не просто описывают стадии искажения реальности, а показывают, как реальность исчезает под слоем образов:
Первый порядок – знак отображает реальность. Это наивное зеркало: кадры астронавта, спускающегося на поверхность Луны, воспринимаются как документальное свидетельство, будто камера, это беспристрастный наблюдатель. Реальность ещё существует и знак указывает на неё.
Второй порядок – знак искажает реальность. Трансляция сопровождается «героическим» музыкальным оформлением, тщательно подобранным монтажом, комментарием, внушающим величие происходящего. Камера уже не фиксирует, а подсказывает, как воспринимать. Событие редактируется в угоду эмоциональному эффекту. Именно «чудо», а не хронику заказала CBS.
Третий порядок – знак заменяет реальность. Когда павильонные съёмки становятся визуальной основой «высадки», реальное событие становится ненужным. Главное, чтобы кадр выглядел «убедительно». Мы больше не видим Луну, мы видим представление Луны, согласованное с ожиданиями публики.
Для съемок «павильона» даже не требовалось строить сложные декорации: в исследовательском центре Лэнгли у NASA уже имелся гигантский макет лунной поверхности и огромный передвижной прожектор, имитирующий Солнце, а стены ангара были задрапированы черной бархатной тканью для создания эффекта «космического неба». Забавная деталь: этот макет был настолько реалистичен, что его использовали для тренировки астронавтов, но в 1978 году он был частично разобран, а чертежи «случайно» уничтожены, что только подогрело конспирологические теории.
Четвёртый порядок – гиперреальность. Лунная высадка уже не требует доказательств: она произошла, потому что её показывали. Так же как старинная фотография без людей становится «доказательством», что людей тогда не было, хотя на деле, это результат часовой экспозиции. Симулякр больше не маскирует отсутствие реальности, он становится ею. Люди верят не в то, что произошло, а в то, что хорошо срежиссировано. Показательный пример: каждый год некоторые туристы сталкиваются с «Парижским синдромом» – психологическим расстройством, возникающим из-за разочарования, что город не соответствует их ожиданиям. Воображаемый Париж их мечты, сформированный мощным маркетингом, оказывается сильно отличным от реального, и это может стать настоящим шоком. Иногда картина настолько далека от ожидаемой, что люди даже испытывают физические симптомы – головокружение, тахикардию, потливость, рвоту. Гиперреальность, созданная рекламой, вытесняет подлинный опыт, превращая его в источник травмы.

Именно это превращение факта в миф, а документа, в спектакль и делает «лунную программу» символом эпохи, где события сначала инсценируют, а уже потом обсуждают их реальность – подобно тому, как маркетинг Парижа не просто продвигает город, а конструирует недостижимый идеал, обрекая на разочарование. Стратегия медийной подмены реальности не является изобретением цифровой эпохи. Она уходит корнями в многовековую практику пропаганды, где образ всегда был важнее факта, а нарратив, убедительнее истины.
Отто фон Бисмарк утверждал, что больше всего лгут на войне, на охоте и перед выборами. Лунная гонка, будучи одновременно холодной войной и предвыборной кампанией за умы человечества, стала идеальной ареной для возведения лжи в ранг государственной стратегии. Эти философские концепции лишь описали то, что гении политического пиара поняли интуитивно, когда в разгар унизительной и кровопролитной войны во Вьетнаме срочно потребовался новый фокус внимания.
Великий, неоспоримый и, главное, зрелищный триумф, способный перекрыть новостные сводки с полей сражений. Поэтому «Аполлон» стал нужен не для того, чтобы заглянуть в космос, а чтобы не смотреть на Вьетнам. Эту цель недвусмысленно обозначил сам Джон Кеннеди, для которого гонка за Луну была в первую очередь военным и идеологическим фронтом. В своём послании Конгрессу он прямо заявил: «Если мы хотим выиграть битву, развернувшуюся во всём мире между двумя системами, если мы хотим выиграть битву за умы людей, то мы не можем позволить себе разрешить Советскому Союзу занимать лидирующее положение в космосе». Менее чем за год до своей смерти он был ещё более категоричен: «Соперничество за Луну – это военный фронт. Проигравшего будут ожидать проклятия своего народа и гибель страны». Именно поэтому до 40% бюджета NASA в те времена тратилось не на технологии, а на PR. И в этом контексте становится очевидным: целью „Аполлона“ было не столько прилуниться, сколько приземлиться в каждом телевизоре мира, закрепив не факт, а образ победы.
Для понимания масштаба усилий в этом направлении: в 1969 году расходы на медийное сопровождение «Аполлона-11» составили около $355 млн (в ценах 2025 года – более $3 млрд), включая оплату трансляций ведущим телеканалам и производство учебных материалов для школ. Эти суммы сравнимы с бюджетами крупных голливудских студий и превосходили бюджеты многих научных программ того времени.

Подобная логика имела прецеденты: классическим примером стала пропагандистская машина Третьего рейха, где кино, радио и митинги превращались в средства конструирования мифа о «непобедимости» нации. Фильмы Лени Рифеншталь, такие как «Триумф воли», не фиксировали реальность, они её сочиняли. Гиперреальность подменяла действительность, создавая на экране то, чего не было на земле. Точно так же «лунный миф» NASA, это не отчёт о полёте, а тщательно срежиссированный эпос, призванный укрепить американскую идентичность в глобальной идеологической войне. Он не просто сопровождал триумф, он был триумфом.
Прямая предтеча такой симуляции – радиопостановка Орсона Уэллса «Война миров» в 1938 году, которая вызвала массовую панику: миллионы американцев приняли художественное шоу за репортаж об инопланетном вторжении. Этот эпизод показал: достаточно убедительного голоса и медиа-формата, чтобы реальность уступила место воображению. Луна, транслируемая с нужным звуком, паузой и кадром, работает по той же схеме. Мы видим не то, что было – мы видим то, что нам захотели показать.
Эта концепция реализуется через создание и активное продвижение в общественном сознании двух заведомо ложных, но полярных версий, которые призваны подменить собой объективную реальность.
Официальная парадигма NASA. Это героический эпос о безупречном технологическом триумфе, успешном полете и высадке на лунную поверхность. Данная версия является краеугольным камнем американской идеологии второй половины XX века, символом победы в «космической гонке» и неоспоримого лидерства. Она широко тиражируется через все официальные каналы, образовательные программы и медиа.
Например: в 1970 году учебники по истории в американских школах начали включать главу о «покорении Луны» как ключевой момент национальной гордости, а NASA распространила 10 миллионов копий брошюр с цветными фото миссий для школ и библиотек.
Упрощенная конспирологическая теория. Эта версия, условно именуемая «Козерог-1», утверждает, что никаких полетов к Луне не было, а все события были сфальсифицированы в земных павильонах. Данная теория намеренно примитивизирована и наполнена легко опровергаемыми доводами. Ее функция, не раскрыть правду, а дискредитировать саму идею сомнения. Любой, кто задает неудобные вопросы о программе «Аполлон», приравнивается к сторонникам этой карикатурной версии и легко маргинализируется.
Например: в 1978 году книга Билла Кейсинга «We Never Went to the Moon» стала бестселлером, но ее примитивные доводы, вроде «флага, развевающегося на ветру», были легко опровергнуты NASA, что позволило властям заклеймить всех скептиков как «фанатиков».
Например: Классический кейс: документальный фильм "Loose Change", посвящённый 11 сентября. Несмотря на обилие неточностей, он стал главным «мемом» конспирологии по этой теме. Его слабость сыграла стратегическую роль – власти и СМИ могли с лёгкостью его опровергать, тем самым дискредитируя любую критику официальной версии как проявление "безумия". Это, зеркальное отражение стратегии NASA против книги Кейсинга, описанной в документе.
Стратегическая цель такой информационной конструкции – это реализация классического принципа манипуляции «разделяй и властвуй». Расколов общество на два враждующих лагеря, манипулятор делает обе группы предсказуемыми и легко управляемыми, ведь их энергия уходит на бессмысленную борьбу друг с другом. Человеку предлагается выбор между безусловной верой в официальный миф и абсурдной верой в его примитивный антипод. В обоих случаях он оказывается бесконечно далек от подлинного положения дел.
Эксперимент 2021 года (Университет Йеля) показал, что люди, склонные к крайним взглядам, охотно верят и распространяют как официальные тезисы, так и нарочито абсурдные версии – главное, чтобы информация совпадала с их эмоциональными ожиданиями. Это идеальное подтверждение эффективности стратегии поляризации.
Но как именно создателям этой стратегии удалось добиться такого тотального охвата, воздействуя одновременно и на простаков, и на интеллектуалов? Ответ на этот вопрос можно найти в совершенно неожиданной области. С точки зрения Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), здесь мы наблюдаем блестящее практическое разрешение фундаментального физического противоречия, стоящего перед любой системой пропаганды. Суть его такова: для максимального охвата и воздействия информационное сообщение должно быть простым и примитивным (чтобы его поняла и приняла самая широкая аудитория) и одновременно оно должно быть сложным и проработанным (чтобы выдерживать критику со стороны экспертов и образованной части общества).