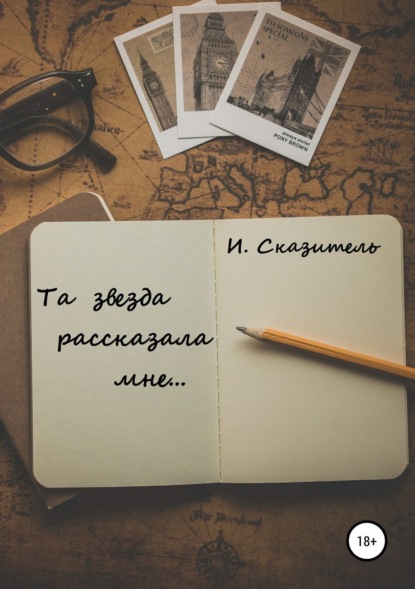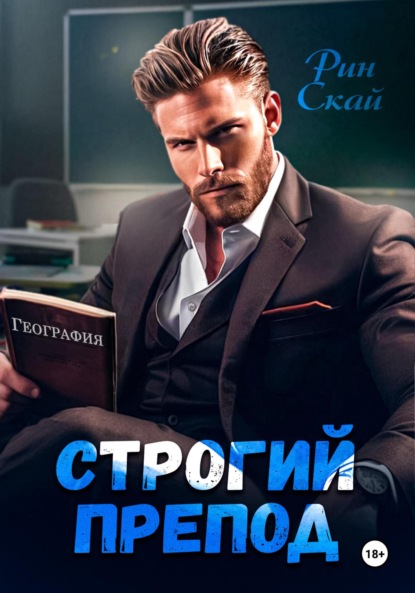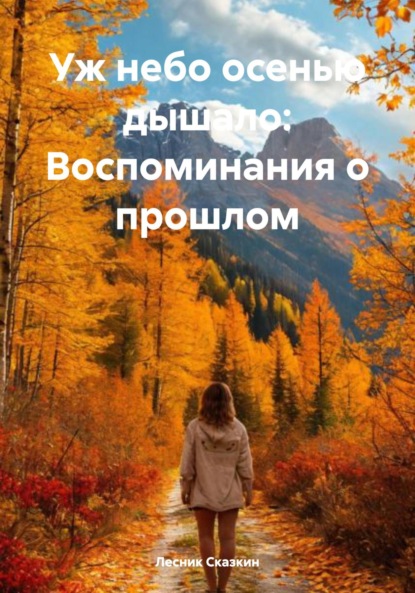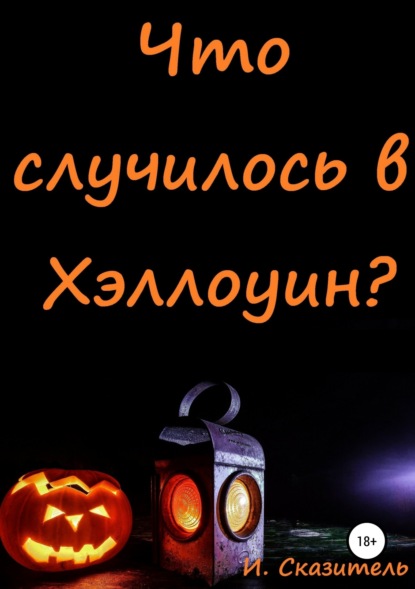Война за реальность. Как зарабатывать на битвах за правду
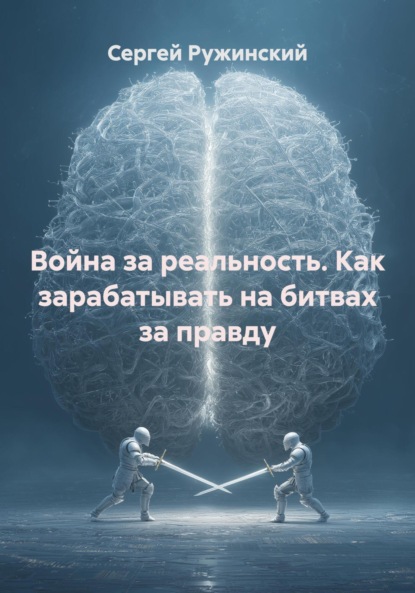
- -
- 100%
- +

Эта жажда самоутверждения подпитывается ещё одним психологическим феноменом – когнитивным диссонансом. Когда человек публично отстаивает определённую позицию, например, веру в «лунный заговор» или официальную версию NASA, любое противоречие этой позиции вызывает внутренний дискомфорт. Чтобы устранить его, участник спора начинает искать всё новые доводы в пользу своей точки зрения, игнорируя или дискредитируя противоположные. Этот процесс не только усиливает убеждённость, но и делает отступление невозможным: признать ошибку – значит потерять лицо перед «племенем» и самим собой. Таким образом, когнитивный диссонанс превращает спор из поиска истины в битву за сохранение собственной идентичности, где каждый аргумент – это не шаг к правде, а укрепление собственной психологической крепости.
Например: Популярный в медиа-пространстве комментатор или лектор, известный своим агрессивным стилем ведения споров и фразами вроде «факты не волнуют ваши чувства». Его цель – не достижение консенсуса, а демонстрация интеллектуального превосходства и «уничтожение» оппонента в глазах аудитории, что превращает дискуссию в спектакль.
Спор как инструмент познания.

Спор можно рассматривать не просто как столкновение мнений, а как своеобразный интеллектуальный тренажёр. Подобно спаррингу в единоборствах, он позволяет отточить собственные тезисы, выкристаллизовать аргументацию и проверить на прочность свои знания. В процессе полемики мысль обретает чёткость: слабые места становятся очевидными, а сильные стороны начинают сиять ярче.
Некоторые используют публичную дискуссию как форму «рецензирования» идей, прежде чем воплотить их в более значимом труде – статье, исследовании или книге. Подобные столкновения мнений выступают фильтром, который отделяет поверхностные рассуждения от действительно убедительных доводов.
Кроме того, спор учит не только защищать свои убеждения, но и слышать оппонента. В диалоге мы сталкиваемся с неожиданными контраргументами, которые вынуждают расширять горизонты собственного мышления. В этом смысле спор становится школой критического разума, где главная цель – не победа любой ценой, а совместное движение к более ясному пониманию истины.
Поиск утраченного племени. Идентичность через оппозицию

В разобщенном мире принадлежность к лагерю «сторонников» или «скептиков» дает человеку мощное чувство общности и племенной идентичности. Формируется простое и притягательное «Мы – те, кто знает правду» в противовес «Ним – тем, кто заблуждается». Здесь мы наблюдаем проявление еще одного фундаментального закона Шеррингтона – принципа реципрокной (сопряженной) иннервации.
В нервной системе возбуждение мышцы-агониста (например, сгибателя) автоматически вызывает торможение ее антагониста (разгибателя), что обеспечивает четкость и целенаправленность движения. Точно так же работает и мышление в условиях конфликта: усиление и «возбуждение» своей точки зрения физиологически подавляет и «тормозит» способность воспринимать аргументы оппонента. Формирование идентичности «Мы» не просто конкурирует с образом «Они» – оно активно его подавляет на уровне нейронных цепей, делая диалог не просто сложным, а структурно невозможным.

Алгоритмы социальных платформ, таких как YouTube, Twitter или TikTok, действуют как невидимые архитекторы этих цифровых арен, усиливая раскол между «племенами». Их задача – максимизировать вовлечённость, а не способствовать истине. Рекомендательные системы, основанные на машинном обучении, анализируют поведение пользователя и подбирают контент, который подтверждает его существующие убеждения, создавая так называемые «эхо-камеры». Например, сторонник теории «лунного заговора» будет видеть видео и посты, подкрепляющие его скептицизм, в то время как приверженец официальной версии NASA получит контент, восхваляющий американский триумф. Эти алгоритмы не просто пассивно отражают предпочтения – они активно формируют их, усиливая эмоциональную привязанность к «своей» правде и делая компромисс или диалог ещё менее вероятным. Более того, алгоритмы пессимизируют контент, который выходит за рамки доминирующего нарратива пользователя, создавая иллюзию, что альтернативные точки зрения либо не существуют, либо маргинальны. Таким образом, цифровая инфраструктура спора превращается в самоподдерживающуюся машину, где победа одной стороны над другой становится не целью, а побочным эффектом коммерческой логики платформ. Система защищает себя от паралича выбора, делая одно из мнений доминирующим, а другое – системно подавляемым. В результате коллективный миф становится настолько важной частью самоопределения человека, что он порой способен заменить культурную или религиозную принадлежность.

Эволюционным развитием этой логики, окончательно замыкающим пользователя в сконструированной реальности, становится интеграция генеративного ИИ непосредственно в поисковую выдачу. Громкий скандал вокруг Google, разразившийся в середине 2025 года, наглядно это демонстрирует: внедрение ИИ-ответов привело к резкому падению переходов на внешние сайты. Крупные медиа, от Bloomberg до Wall Street Journal, забили тревогу, окрестив это явление «ИИ-армагеддоном для издателей». Исследование Semrush показало рост доли «зеро-кликовых» запросов – пользователь получает сгенерированный ответ прямо на странице поиска и более не нуждается в переходе на источник. Ответ Google в духе «вы всё врёте, ничего критичного нет» лишь подчеркивает системный характер изменений: платформа более не является нейтральным посредником, она становится автономным генератором контента, подменяющим собой реальность. Если раньше алгоритмы управляли вниманием, направляя его по ссылкам, то теперь они присваивают себе сам акт интерпретации, оставляя аудиторию один на один с симулякром, порожденным машиной. Это новая, высшая стадия войны за реальность, где линия фронта проходит не между разными версиями правды, а между самой возможностью выйти за пределы платформы и тотальной имплозией смысла внутри нее. Человек, запертый в таком алгоритмическом пузыре, перестает воспринимать внешнюю реальность. Он живет в мире, сконструированном специально для него, и даже не подозревает о существовании стен. Его состояние трагично и точно описано в коротком рассказе Джейн Орвис – «Окно».
С тех пор, как Риту жестоко убили, Картер сидит у окна.
Никакого телевизора, чтения, переписки. Его жизнь – то, что видно через занавески.
Ему плевать, кто приносит еду, платит по счетам, он не покидает комнаты.
Его жизнь – пробегающие физкультурники, смена времен года, проезжающие автомобили, призрак Риты.
Картер не понимает, что в обитых войлоком палатах нет окон.
Картер в этом рассказе – это портрет современного интернет-пользователя, запертого в своей ленте рекомендаций. Он убежден, что смотрит на мир через чистое «окно», не осознавая, что это лишь экран, на который транслируют тщательно отфильтрованную картинку. Его палата без окон – это и есть та самая «эхо-камера», где единственная реальность – это отражение собственных убеждений. В такой системе язык перестает быть инструментом познания и превращается в ключ, запирающий дверь снаружи.
Лингвистическая сегрегация: Язык как маркер «свой-чужой»

Язык – это простейший ключ стаи. Подобно тестовому вопросу «Чей Крым?» или речевке «Хто не скаче, той москаль», специфические слова, фразы или команды становятся мгновенным и безошибочным паролем для опознания «своего». Долгоживущие споры неизбежно порождают собственный язык – социолект, понятный только «посвященным». Аббревиатуры, мемы, уничижительные прозвища для оппонентов («насаботы», «резуноиды», «плоскоземельщики», «в/на Украине») служат одновременно эффективным инструментом для своих и непреодолимым барьером для чужих. Этот язык мгновенно выдает новичка и замыкает сообщество в себе, превращая его в герметичную секту, диалог с которой извне практически невозможен.
На нейробиологическом уровне использование такого социолекта активирует в мозге центры удовольствия, связанные с узнаванием «своего» и принадлежностью к группе. Каждое употребление специального термина или мема служит нейронным подкреплением, выделяя небольшую дозу дофамина и укрепляя чувство правоты. Одновременно, чужой или нейтральный язык воспринимается как сигнал опасности или ошибки, вызывая когнитивный диссонанс и инстинктивное отторжение. Таким образом, язык становится не просто инструментом общения, а механизмом нейронной саморегуляции племени.

Этот процесс формирования социолекта в цифровой среде выходит за рамки простого сленга, порождая полноценные «дигитальные диалекты» – языковые системы, которые не только маркируют принадлежность к группе, но и формируют её мировоззрение. Эти диалекты, усиленные алгоритмами платформ, становятся инструментами когнитивной изоляции. Например, термины вроде «насаботы» или «лунный фейк» в сообществах скептиков не просто обозначают оппонентов, но и кодируют целую идеологию недоверия, где каждое слово несёт эмоциональный заряд и исторический контекст. В отличие от традиционных диалектов, связанных с географией или культурой, дигитальные диалекты возникают мгновенно и распространяются глобально, усиливая раскол между «племенами». Они превращают язык в оружие, которое не только разделяет, но и программирует восприятие реальности, делая любой диалог за пределами своего «диалекта» структурно невозможным.
Например: В онлайн-сообществах, критикующих современную поп-культуру, активно используется термин «NPC» (неигровой персонаж) для обозначения людей, которые, по их мнению, не имеют собственного мнения. Использование этого слова мгновенно сигнализирует о принадлежности к группе и её идеологии.
Диалог глухих: Асимметрия опыта.

Внутри дискуссии часто возникает ошибочная идентификация. Это проявление ограниченной рациональности: новичок, в условиях дефицита ресурсов (времени, знаний), принимает опытного участника за «фрика-плоскоземельщика» опытного участника, так как опереться на готовый стереотип – когнитивно дешевле, чем анализировать оппонента. Его выпад – не глупость, а системная ошибка, вызванная попыткой рационально действовать в условиях нехватки данных. В то же время молчание или кратко-тезисные снисходительные ответы ветерана на уже надоевшие ему вопросы воспринимаются противной стороной как слабость или незнание, что лишь провоцирует новые нападки.
Типичная ситуация: на форуме по истории новичок обвиняет опытного участника, автора нескольких монографий, в «незнании фактов», основываясь на популярном видео с YouTube. Ветеран, видя бесперспективность спора, отвечает саркастично, что новичок воспринимает как признание своего поражения и празднует «победу». Возникает трагическая ситуация, когда носитель реального знания или опыта становится невидимым для оппонентов, запертых в своей картине мира. Он превращается в призрака, чьи слова не имеют веса, пока его правоту не подтвердит внешний, авторитетный для аудитории источник. Эту драму невидимости прекрасно иллюстрирует рассказ Эндрю Ханта.
Призрак
Как только это случилось, я поспешил домой, чтобы сообщить жене печальное известие. Но она, похоже, совсем меня не слушала. Она вообще меня не замечала. Она посмотрела прямо сквозь меня и налила себе выпить. Включила телевизор.
В этот момент раздался телефонный звонок. Она подошла и взяла трубку.
Я увидел, как сморщилось её лицо. Она горько заплакала.
Герой этого рассказа – вылитый «ветеран» спора. Он уже знает истину и пытается ее донести, но для «новичка» (жены) он – пустое место. Его реальность игнорируется, пока она не подтверждается по «официальному каналу» – через телефонный звонок. Только тогда происходит признание факта. Зачастую в интернет-дискуссиях диалог невозможен в принципе, и причина этому кроется не только в психологии.

Зачастую диалог невозможен в принципе. Фундаментальная причина этому кроется не только в психологии, но и в морфологии мозга. Научные исследования показывают колоссальную индивидуальную изменчивость цитоархитектонических полей мозга у разных людей. Отдельные структуры, отвечающие за память, характер, полемические, ораторские или иные специфические навыки, у разных людей могут различаться по объему в 10, а иногда и в 40 раз.
Это означает, что «ветеран» спора и «новичок» обладают буквально разным «железом» для обработки одной и той же информации. У ветерана за годы погружения в тему, в результате направленного синаптогенеза сформировалась в мозгу сложная и энергоэффективная нейронная сеть по данной конкретной теме. Благодаря этому он способен продуцировать экспертные и оценочные суждения, а не просто пересказывать или обсуждать факты. У новичка же такая сеть отсутствует, а его мозг, подчиняясь закону экономии энергии, выбирает самый простой путь – имитацию, дублирование, повторение уже трижды пройденного (вот почему начинающие участники дискуссии так любят переобмусоливать историю про развевающийся флаг).
В отличие от «ветерана», «новичеок» не стремится понять суть, а лишь демонстрирует «требуемый результат», чтобы порадовать «своих» или получить социальное одобрение. Этому, как правило, сопутствует коммуникативные специфики (грубость, хамство, невоспитанность) обусловленные исключительно биологической стратегией поведения в условиях дефицита интеллектуальных ресурсов. И если в живом общении такой диалог глухих быстро бы исчерпал себя, то цифровая среда придает ему новое, зловещее свойство.

Устный спор умирает, но форумная ветка бессмертна. Любой аргумент, оставленный десять лет назад, может быть воскрешен одним комментарием и вспыхнуть с новой силой. Это обрекает такие темы на вечное противостояние, превращая интернет в огромное поле неупокоенных интеллектуальных призраков, которых невозможно окончательно победить, можно лишь на время отложить бой.
Одним из главных носителей этого «цифрового бессмертия» являются мемы – лаконичные, эмоционально заряженные образы или фразы, которые кодируют спор в упрощённой, но заразительной форме. Например, мем «флаг развевается на Луне» стал символом скептицизма, мгновенно вызывая в памяти целую цепочку аргументов о «лунном заговоре». Такие мемы, распространяясь в сетях с вирусной скоростью, не просто сохраняют спор, но и делают его доступным для новых поколений, превращая сложные технические дебаты в культурные маркеры. Они действуют как цифровые гены, передавая суть конфликта через поколения пользователей, обходя необходимость глубокого анализа. Именно мемы обеспечивают спорам их поразительную живучесть, превращая их в самоподдерживающиеся культурные артефакты, которые невозможно стереть из коллективной памяти интернета.
В 2023 году в TikTok хэштег #5GConspiracy набрал миллионы просмотров благодаря роликам, утверждающим, что вышки 5G вызывают болезни. Эти эмоционально заряженные видео затмили научные статьи и официальные опровержения от телекоммуникационных компаний, которые были слишком сложны для массовой аудитории, показав, как яркий шум заглушает трезвые голоса. Эта асимметрия, при которой ложь легко тиражируется, а правда требует усилий, неизбежно сказывается на судьбе самих участников.
Эсхатология спора. Цикл обновления и экзистенциальное выгорание

Сам спор вечен, но его участники смертны. Процесс цикличен: на арену приходит новое поколение «неофитов», полное энергии доказать свою правоту. «Ветераны», уставшие от вечных повторений, вступают в бой со смесью снисхождения и раздражения. Спустя годы ветеран осознает, что война стратегически невыигрываема. Он спорит уже не с личностями, а с безличным, вечно регенерирующим архетипом, преумноженном парадоксом Брэсса из транспортной инженерии: добавление новых «дорог» (аргументов, фактов) не уменьшает «пробки» спора, а лишь усугубляет их, порождая новые ветки дискуссий и индуцированный спрос на конфликт. Любая попытка «расширить» поле боя лишь доказывает, что единственный выход – покинуть его.
Даже когда на поле боя вбрасывается, казалось бы, неопровержимый факт, способный поставить точку, участники часто отказываются его принять. Для них сохранение конфликта оказывается важнее его разрешения, ведь окончание спора будет означать потерю цели и смысла. Эту психологическую зависимость от самого процесса блестяще описал Роберт Томпкинс.
Судьба
Был только один выход, ибо наши жизни сплелись в слишком запутанный узел гнева и блаженства, чтобы решить все как-нибудь иначе. Доверимся жребию: орел – и мы поженимся, решка – и мы расстанемся навсегда.
Монетка была подброшена. Она звякнула, завертелась и остановилась. Орел.
Мы уставились на нее с недоумением.
Затем, в один голос, мы сказали:
«Может, еще разок?»
Эта финальная фраза – «Может, еще разок?» – и есть девиз любого вечного спора. Его участники подсознательно не хотят, чтобы он заканчивался. Любой решающий аргумент будет проигнорирован или оспорен, потому что сама война стала для них ценнее победы. Любая попытка «расширить» поле боя новыми фактами лишь доказывает, что единственный выход – покинуть его.
Информационное паразитирование. Шум, заглушающий реальность
Возможно, это самый пагубный итог: дискуссия превращается в паразита, питающегося телом реального события, науки или истории, но не производящего ничего, кроме шума. Она черпает энергию из великого события-хозяина, но не отдаёт ничего взамен – ни верифицируемых знаний, ни новых интерпретаций. Хуже того, в процессе она заглушает голос подлинных экспертов, превращая саму идею познания в декорацию. Это и есть имплозия смысла в гиперреальности – когда плотность и противоречивость информационного потока становятся столь запредельными, что любые различия – между экспертом и дилетантом, правдой и вымыслом, оригиналом и копией – схлопываются в единую вязкую массу.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.